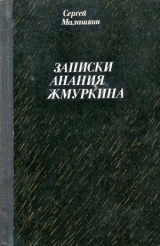
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Вот это верно, – засмеялся Игнат и погладил брюшко. – Жарь!
Вавила, откатываясь от Евстигнея, обиженно проворчал:
– А ты не толкайся!
– Я и не толкаюсь, а только тебя честью прошу – отойди, – не глядя на него, бросил Евстигней и, помолчав немного, добавил: – А ты лучше расскажи.
Вавила ничего не сказал; он отошел в сторону, привалился на сдвинутую в кучу солому, стал закуривать. Наступила скучная, журчащая тишина; в тишине – шлепанье замасленных карт, как мышиный писк, звяканье монет.
Вавила метнул ко мне желтые глазки, весело сквозь слезоточивость, – он весь сочился слезами, словно его несколько лет, а возможно от самого рождения, квасили в огромном чане слез, – улыбнулся.
– Разве рассказать?
– Конечно, – подсаживаясь к нему, ответил я, – надо рассказать.
Вавила вздернул бороденку, подпер голову рукой, еще раз улыбнулся и начал скороговоркой:
– Расскажу я вам, земляцки, о добром царе, а вы слухайте.
– С большим удовольствием, – крякнул Евстигней. – Давно бы так, а то сидит, квасится и нам мешает.
– Он рад, – икнул визгливо Жмытик и, показывая глазами на Евстигнея, пожал плечами: – Ему повезло.
– Повезло! – передразнил Евстигней. – Карты не кобыла, к свету повезут. Ну, рассказывай, – обратился он к Вавиле.
– Котором царстве, а не в котором царстве, не имянно в том, в котором мы живем, а жил-был царь с царицей. У царя-то и царицы было два сына, которые уже были довольно большие и ходили в уцилище. Как придут они оба из училища, не спросятся кухарки, што есть в пеци, – всё съедят. Однажды царь ходил по городу проветриться. Повстрецался он с мужиком, а этот мужик-то отцаянный был и продавал птицу, а какую птицу – царю неизвестно, но только птица эта самая была не простая, а цудная и как будто из цужих земель. А на этой птице подписано по папороткам: «Хто мою голову съест, тот будет цервонцем плевать, а хто мое сердце съест, тот будет на уме у каждого человека все знать». Увидел царь эту запись-то и купил у мужика этого птицу, принес домой ее и велел кухарке на сковороде зажарить. И она зажарила, а сама в это время вышла, наверно до ветру, вон из кухни. А в это самое времяцко, когда она уходила из кухни-то, пришли царские сыновья из уцилища и увидели в пеци птицу и съели пополам: один головку, а другой сердце. Который головку съел, тот сразу, не выйдя из кухни, стал цервонцем плевать, а который сердце съел, тот стал все на уме у каждого человека знать. Вдруг приходит кухарка домой, а у нее птицы-то нет. Сейцас же она доказала царю, што съели птицку твои сыновья. Царь приказал обоих сыновей заколоть да зажарить ему и думал, што съест сыновей, то будет цервонцем плевать и на уме у каждого человека угадывать. Приходит лакей, а уж сыновей нет. Который все знал на уме и узнал до поры, што царь хоцет их заколоть обоих и съесть, испугался и рассказал брату, а опосля этого тут же убежали. Старший сын пошел и стал рассказывать, што на уме у кого есть, а меньшой стал червонцем плевать, тем и кормиться. Однажды он пришел в деревню, а в этой деревне жила волшебная старуха, а у старухи была внуцка, красавица писаная, да такая, каких свет никогда не видал. Эта внучка была мастерица в карты играть. Он и добрался до этой девицы, пришел к ней, и зачали они вдвоем в карты играть, а она такому гостю рада, так как цервонцев у него много. Девица эта играла, играла, не могла его переиграть и пошла к своей баушке. «Баушка, могу ли, нет переиграть, гыт, его?» – «Нет, гыт, дитятко, не переиграешь его: он гыт, как плюнет, у него полон подол цервонцев». – «Так што же мне сделать?» – «А ты, гыт, возьми с ним поиграй да и купи бутылоцку водоцки да полбутылочки спирту, поднеси стаканцик либо два». Вот она прошла домой, а у нее уж водоцка была готова, поиграла немного и просила его: «Пьешь, гыт, водоцку?» Он отвечает: «Не худо тепере стаканчик, а то и другой выпил бы». Сейцас она поставила перед его бутылку и говорит: «Вот, пей, сколько хошь». Он, бедный, и дорвался и всю эту бутылку живо выпил. Потом она принесла полбутылоцки спирту, и спирт он выпил. И ослабел, играть с ней не может, лег да и заснул на этом же самом месте, на котором и играли. И спит он плотно богатырским сном. А эта девица-то опять побежала к баушке. «Што, гыт, теперь делать с ним? Он, гыт, уж сильно пьян лежит». А та и говорит: «Гляди, когда его ломает, то эту ломанину ты и слижи, и будешь цервонцем плевать». Сейчас она взяла эту ломанину и употребила в похлебку, съела, и стала она цервонцем плевать, а ему еще в рот напихала червонцев. Он проснулся, опять стали играть. Он в первый раз плюнул – покрасило, а во второй-то раз плюнул – денег-то уж нет. И тут же опосля этого затосковал и пошел он от нее путем-дорожкой. Идет он и слышит впереди рев, да такой, што даже листья с осин валятся. Подходит к тому месту и видит: дерутся два небольших шелудивых цертенка: нашли кошелек-самотряс. Нашли они этот самотряс вместе, а не знают, которому принадлежит, и сильно друг друга избили. Подошел он к ним и спросил: «Што делаете?» Они, это цертята-то, ему отвечают: «Рассуди, брат, которому принадлежит этот кошелек». Он посмотрел на тово, на другова и сказал: «Вот я отпущу мушку, и который попреже схватит и принесет, тово и будет кошелек». Махнул рукой, а никакой мушки не выпустил. Сейцас спорхнули цертята и полетели искать мушку, а он с кошельком возвратился ко старухиной внуцке. Приходит он в дом, а она такому гостю рада. Приняла его цесть цестью, да и давай опять играть. Играли-играли, – ни он, ни она не могут переиграть. Он тряхнет кошельком – полный подол, а она плюнет – того больше…
– Вот бы мне такой кошелек, – облизывая красные губы, проговорил Игнат и погладил брюшко.
Яков Жмытик пожал плечами.
– Это почему тебе, а не мне? Я бы на эти деньги хозяйство развел, лошадь рысистую купил, тарантас.
– Тарантас! – перебил Игнат и засмеялся. – Что такое тарантас, а? Я на эти деньги от войны бы избавился, а ты – тарантас. Эх ты, чучело гороховое!
– Это как? – вздохнул Жмытик и сморщил в комочек лицо. – Разве это дело можно, а?
– А ты думал, что нет? – и Игнат громко заржал. – Ежели бы мне, когда меня мобилизовали, к этому брюшку тысчонки две, то меня обязательно освободили бы от войны. Я хорошо тогда заметил, как воинский начальник косил глазом на мое брюшко и ощупывал всего… Да-а-а! – и он влюбленно погладил брюшко. – А раз нет приложения к оному предмету, то и вышло – хомут да дышло, и я вот все это везу.
Жмытик совершенно прослезился.
– А это бы хорошо, а?
– Недурно! – воскликнул Игнат. – Кому хочется вшей кормить да под «чемоданами» дрожать? Никому! Эх, – размечтался Игнат, – я бы теперь, ежели бы был дома, привалился бы к жене под бок… Эх, Жмытик, и жена у меня, – не жена, а мед липовый!
Яков Жмытик истекал в дырочки глаз синим светом и плакался.
– Говорят, скоро замирение будет. Солдаты в пятой роте говорят, что как немец возьмет Двинск, так больше и шагу не сделает.
– Вот как, – процедил сквозь зубы Евстигней.
– Это верно, – вздохнул Жмытик. – Так Вильгельм своим солдатам приказ выпустил: «Теперь, – говорит он в приказе, – довольно мне будет земли, и всем, говорит, жить вольготно будет».
– А ты ходи, – рявкнул грозно Евстигней и обратился к Вавиле: – Жарь! Послушаем, чем закончится твоя сказка.
Игра снова началась. А Вавила зазвенел скороговоркой:
– Тут она опять побежала к баушке. «Што, могу ли, нет, баушка, переиграть ево?» А баушка гыт: «Нет, не переиграть его…» – «Так што же мне с ним делать?» – «А возьми напой его пьянова и посмотри, какой кошелек, и сошей такой же, и навали в его денег, и ему в карман и сунь, а этот возьми себе». Она пришла домой и так и сделала по баушкиным наукам, сошила такой кошелек и пересыпала цервонцы. Пробудился молодец, она и стала говорить: «Давай играть». И зацали они играть. Выняв из кармана кошелек, тряхнул первый раз – покрасило, в другой раз тряхнул – не тут-то было: денег-то и нет. Испугался, но делать нецего, и пошел из избы. Вышел он на улицу и пошел прежней дорогой. Подходя к сцастливому месту, опять дерутся два цертенка. Он подошел к ним и сказал: «О цем вы деретесь так?» Они отвецают: «Да вот нашли ковер-самолет, да не знаем, как разделить его». Он сказал им: «Давайте я разделю». Они поклонились ему в ноги: «Раздели, пожалуйста». Он махнул рукой и говорит: «Я опустил птицку, кто схватит ее наперед, того ковер и есть». Цертенята соскоцили и полетели из лесу вон. Царевиц встал на ковер-самолет и сказал: «Ковер-самолет лети выше лесу стояцего, ниже облака ходящего». Ковер-самолет поднялся и полетел. И говорит царевиц: «Опустись в сад к волшебной старухе». Сейцас ковер и опустился в сад. Увидела волшебная старуха и побежала за внуцкой: «Беги-ка, гыт, скорее, опять прилетел твой игрок, поднеси ему рюмоцку-другую». Внуцка соскоцила с лавки и побежала. Прибежала в сад, а тут стоит царевиц на ковре и с ковра не сходит. Она и бросилась к нему с водоцкой, взошла на ковер, а он шепотком оказал: «Ковер-самолет, лети выше лесу стояцего, ниже облака ходяцего». Ковер поднялся из виду вон и полетел и ее понес с собой. Летели они над морем и сели на остров, а тот остров в две сажени длины и сажень ширины, одна на нем только горушецка, есть тут и кустик, – и все богатство. Тут они улеглись спать. Царевиц уснул, а она не спит, а только притворилась до поры до времени. Потом, когда царевиц крепко разоспался, она помаленьку вытащила ковер из-под его да сама и сказала: «Лети, ковер-самолет, выше леса стояцего, ниже облака ходяцего». Ковер поднялся и полетел и опустился к ней в сад. А царевиц проснулся, испугался, сидит и ревет под кустиком. Вдруг нигде взять три голубя, прилетели и сели на этот кустик, на ветоцки. Один голубь и говорит другому: «Кто бы ветоцку мою сломил, то и сделал бы церез море мост калиновый и сукном обит, с перилами». Другой голубь говорит: «Кто бы мою ветоцку сломил, то и сделалась бы тройка коней, и с куцером, и карета стеклянная но этому мосту ездить». А третий голубь говорит: «Кто бы мою ветоцку сломил, то сделалась бы золотая уздецка. Эту уздецку, которую хошь на девицу накинь, так сделается самолуцшей кобылицей». Проговорили эти слова и сами скрылись. Царевиц сейчас и сломил первую ветоцку, и сделался мост калиновый, сукном обитый. Сломил другую – и сделалась тройка коней, и куцер, и стеклянная карета. Сломил третью – и сделалась золотая уздецка. Он взял уздецку в карман, сам сел в карету и потурил по этому мосту. Поехал он к той же волшебной старухе, под окно. Не доехав до саду, вылез и пошел в сад. Увидела волшебная старуха и побежала за внуцкой. «Беги скорее, твой-то игрок уже в саду гуляет». Та схватила бутылку водоцки и побежала в сад. Он вынял из кармана уздецку, накинул на нее, и сделалась она отлицной кобылицей. Сел на нее царевиц верхом и давай гонять взад и вперед по дороге. Гонял-гонял, догонял до того, што не одна с нее пена слезла, снял уздецку, она опять сделалась девицей, да еще краше, – и сейчас к нему в ноги. «Прости меня, говорит, а вот тебе кошелек-трясунцик и ковер-самолет». Он и взял ее тут за себя замуж. А к этому времени отец за ним гонцов прислал и звал его на кресло царское воссесть. И вот они стали царствовать: он царем, а она царицей. Денег у них много, она цервонцем плюет, а он кошельком трясет, тройка коней и ковер-самолет. И зажили они богато, да и народу, этому нашему брату мужику-то, при таком царе и царице недурно стало, а настоящая благодать: царь податей не берет, а даже сам кошельком-трясунком трясет, а царица плюет – и цервонцы текут, а мужик собирает и радуется.
– А хорошо бы иметь такого царя, – вздохнул Яков Жмытик и прослезился.
– И будет, – икнул Игнат и погладил брюшко.
– Будет, – икнул Жмытик, – вот это хорошо.
– Он должен быть в третьем колене, ежели сцитать от царевица Алексея, – вставил Вавила и привалился к стене.
– Да-а? – поворачиваясь к Вавиле, спросил Жмытик. – От царевича Алексея?
– От него самого! – злобно рявкнул Евстигней. – Жди! А теперь убирайся отсюда к черту! – и яростно вырвал у Игната карты, выбросил на козырек окопа. – К черту!
Яков Жмытик пискнул и дернулся в сторону, Евстигней, как осминный мешок, растянулся на соломе и запел: «Голова ты моя, голова, до чего ты меня довела», – но тут же смолк, быстро вскочил на ноги, уставился на Якова Жмытика, который, припав к земле и втягивая в плечи голову, полез из окопа за картами. Долго он карабкался и сопел, но не успел он показаться из окопа, как немцы его заметили и стали было брать на мушку, и ежели бы Евстигней не вскочил на ноги и не рванул с силой его вниз, они наверно бы его взяли, так как несколько пуль жалобно впились в насыпь.
– Черт! – прорычал Евстигней и поднял над его задом сапог. – Пошел!
Яков Жмытик трусливо пополз по проходу окопа к себе в блиндаж; а за ним, пригибаясь, покатился Игнат; за Игнатом и Вавила.
XI
Я тяжело открыл глаза: на нашем участке небо очистилось от желтого дыма, солнце выглянуло из-за леса, что был позади нашего участка, и бросило в блиндаж бледно-желтую полосу. Я взглянул на солнце. Оно было низко, сочилось желто-красной сукровицей. При виде солнца мне стало невыносимо больно, потянуло в поля. Я крепко стиснул зубы, повалился на солому. Я никогда не забуду день, когда я выехал в поле, на свою пашню, и, держа соху, легко, легко ходил за мерином. Сколько было тогда радости, счастья! Мерин и его хозяин купались в сухом, горячем золоте дня; мерин весело выполнял свой тяжелый труд, также и я, его хозяин; он фыркал и на солнце казался бронзовым, блестящим, так что от него, как и от солнца, бежали стрелы лучей, летела золотистая пыль на глубоко взрытую борозду, а также и на меня, – я тоже излучал из себя солнечные лучи радости, тепла. В этот день было большое, необыкновенно глубокое золотисто-зеленое небо; в этот день было яркое солнце, похожее на огненный жернов, и тихо-тихо вертелось, брызгало над моей головой горячими каплями; в этот день под таким потрясающим небом и солнцем, утопая в необозримом пространстве, обращенный, как небо и солнце, лицом к земле, плавал певун жаворонок, а я, вышагивая за мерином, за сохой, вслушивался в его песни, изредка вскидывал голову, ласково ловил черную точку, бьющуюся в судороге любви, влюбленно держал на своем веселом и немного прищуренном взгляде. Вот в этот самый день, когда я был полон радости, восторга, был насыщен соком жизни, как и прародительница земля, слушал чутко жизнь в каждом одушевленном и неодушевленном предмете, с тревожным писком ко мне на грудь упал темно-желтый комочек. В комочке я узнал певуна жаворонка. Я чувствовал, как в моей корявой юношеской руке лежало небольшое теплое тельце, которое было так мало и хрупко, что было бы вполне достаточно легкого нажима пальцев – и громкая, почти громовая песнь отлетела бы из этого прекрасного существа. Я поднял кверху голову: в небе не было песни, была тишина, да, широко раскинув крылья и делая круги, плавал крылатый хищник над моей головой, зорко отыскивая добычу, боясь снизиться на землю. Я отошел от сохи, поднял кусок земли, бросил в него. Ястреб дернулся вверх и плавно, удаляясь от моей пашни, поплыл ввысь, и через несколько минут он был далеко, а потом и совершенно скрылся в золотой, ярко-зеленой синеве. После этого я снова посмотрел на жаворонка: он все так же мирно сидел, и я чувствовал его маленькое теплое тело на своей ладони, биение его сердца, но уже более спокойное, чем оно было минуту тому назад; его глаза были полузакрыты, головка немного была втянута в плечи, и он отдыхал, – возможно, он отдыхал, старался позабыть картину ужасной смерти, мелькнувшей перед его глазами. Я осторожно погладил его головку, украшенную нежным хохолком, затем поднес его к своим губам, нежно, как посланнику неба, проговорил: «Тебе тоже грозит опасность. Тебе тоже хочется жить». Я почувствовал, как в ответ на мои слова сильнее забилось его сердце, сладко прищурились его глаза, так что от его радости, что он спасся от смерти, обрадовался я, и эта радость захватила меня всего; я поднял кверху руку, поцеловал этот теплый комочек, громко, почти со слезами на глазах крикнул: «Певун, милая птица, радость весны, как я рад, что ты знаешь и глубоко чувствуешь человека!» – и выпустил ее на свободу. Птица, вскрикнув, быстро взвилась из моих рук, но тут же, почти над самой моей головой, остановилась, громко запела прекрасный гимн человеку, земле, небу и солнцу и медленно, с чудесной песней, стала уходить ввысь. Песня жаворонка потрясла меня до слез. Я долго смотрел на него, любовался едва заметным трепетом крыльев, а жаворонок медленно поднимался все выше и выше от земли, и песнь его все больше и больше была слышна и понятна мне. Лежа в блиндаже, я так размечтался, что даже позабыл, где я нахожусь, и стал разговаривать с собой вслух, так что Евстигней поднял голову, хрипло засмеялся:
– Жмуркин, а Жмуркин!
– Что? – дернулся я и испуганно покатился в какую-то ревущую бездну.
– О каком это ты человеке мечтаешь?
– О человеке? – спросил я удивленно. – О каком человеке?
Евстигней хрипло захохотал:
– Ну да. Где это ты, философ, нашел человека, а? Не тут ли, в этих окопах, а?! Ах, голова ты моя, голова… Ну, говори.
Я молчал, смотрел на Евстигнея и вслушивался. Над нами третий день жарят немцы «чемоданами» и «бертами», поливают из пулеметов, а мы третий день лежим не шевелясь в блиндажах, тупо смотрим друг на друга, ждем каждую минуту, когда нам прикажут вылезать из блиндажей, потом из окопа и погонят по желтой, зияющей ранами земле, через проволочные заграждения, фугасы к немецким окопам. Третий день вздымается фонтанами земля, трещат наши блиндажи, откалываются, поднимаются с клочьями человеческого мяса.
– О человеке? – спросил я и густо покраснел. – Да, Евстигней, я думал о человеке и жаворонке.
– И о жаворонке, – протянул Евстигней.
– Да, – виновато, с болью сознался я и отвернулся от него.
– Ты о человеке, – захохотал он, – а я обо вше.
– Это как? – поднимая голову и приваливаясь спиной к стене, спросил я. – Что это значит?
Соломон тоже поднял голову. Я только сейчас увидел Соломона, с большим трудом признал его, так как он за эти три дня ужасно изменился. У Соломона с о в е р ш е н н о не было лица, а было что-то другое вместо лица, и это другое серым пятном лезло мне в глаза и липким дыханием обмазывало меня всего.
– Соломон! Соломон! – прокричал я и сильнее подался к стене, так, что мелкие крошки земли посыпались мне на голову, на плечи, несколько крошек попали за ворот и, как холодные капли ключевой воды, потекли по спине, заставили вздрогнуть и опомниться, а когда я опомнился – у Соломона было лицо, на лице ясные коричневые глаза, розовая заячья губа, и эта губа ужасно тряслась.
– Жмуркин, а Жмуркин, о каком это ты человеке мечтаешь?
– Наступать будем? – спросил Соломон, судорожно облизывая заячью губу.
– Будем.
– Пожалуйста… – прошептал он прерывисто, – запиши адрес моей матушки.
Я вынул из-за рыжего голенища записную книжку и нацарапал: «Город Одесса, улица Ришелье, дом 27. Сарре Абрамовне Соловейчик». Потом в свою очередь попросил Соломона записать и мой адрес.
– Я – обо вше! – словно в забывчивости говорил Евстигней, садясь на корточки. – Обо вше! Поняли?!
Я и Соломон пододвинулись к Евстигнею и стали слушать, но Евстигней ничего больше не сказал; он ткнул пальцем на солому, по которой лениво ползали вши. При виде вшей мы вздрогнули, попятились назад, словно мы их в первый раз открыли, а до этого ни одного разу не встречали в своей жизни.
Евстигней, не отнимая пальца от соломы, захохотал:
– Испугались? А я давно за ними наблюдаю. Ей-богу, давно! Весьма умные животные и смерть человека чувствуют.
Я с ужасом взглянул на Евстигнея, и этот ужас меня приковал к земле: Евстигней потерял все винтики, решил я, и мне стало его мучительно жаль, а он, не отнимая пальца от соломы, хрипел:
– Я, Жмуркин, за ними давно наблюдаю. Ты смотри, как они спокойны, не торопясь прогуливаются. Ты что? Ты что-о? – заорал он громче. – Ты что-о так на меня уставился, а?!
Я и Соломон испуганно отодвинулись от него. Я и Соломон в одно и то же время спросили:
– Ты нездоров?
– Я? Нездоров? Это как так нездоров? – обвисая задом на солому и вытягивая ноги во всю длину, спросил он и часто заморгал рыжими веками. – Кто это вам сказал, что я нездоров?
Тяжелый снаряд упал позади нашего блиндажа, рванулся так, что вздрогнула почва, и нас, осыпая землею и пылью, отбросило в один угол блиндажа; мы, припав к земле, лежали как неживые, боясь поднять голову и пошевельнуться. Потом стали падать один за другим снаряды по участку нашей роты. Треск блиндажей отдавался треском в моем теле, в голове, словно кто-то забрался внутрь меня, под череп и выворачивал косточки из мяса, мял их на какой-то чудовищной мялке, мял более жестоко, чем бабы мнут коноплю в зимние морозы. Огромными глыбами беспрерывно летала земля, шумно, со свистом и шипением ударялась о стены блиндажа. Я боялся открыть глаза, взглянуть, что делается позади нас, за нашим блиндажом. В таком положении я лежал довольно долго; в это время меня всего трясло, как в лихорадке; по всему моему телу побежали холодные капли пота, и меня потянуло ко сну…
Сколько я проспал, хорошо не помню, а только, когда открыл глаза, увидел: передо мной стоял Евстигней и улыбался.
– Выспался?
Я ему ничего не ответил, я почему-то стал осматривать себя, солому, на которой я лежал. Долго я так осматривал себя, солому, потом остановился на правой ладони.
– Вошь, – прохрипел Евстигней и стал осматривать почему-то тыловые стороны своих ладоней.
Нагнулся и посмотрел Соломон.
– Все, все шевелится, – в ужасе проговорил я, – и солома и стены.
– Я давно за ними наблюдаю, – отозвался с дикой серьезностью Евстигней. – Они не ползают иначе, как только сидя друг на дружке.
– Ожирели, – дрогнул заячьей губой Соломон и опустил женские ресницы. – Ты думаешь, что выползли на вид к покойникам?
Евстигней опять дико засмеялся, но ничего не сказал, так как в окопах поднялась большая тревога: взводный и отделенные командиры бегали по блиндажам:
– Становись! Ружье!
Евстигней и Соломон кинулись к бойцам; я задержался.
Опять вспомнил поле, свою юность и жаворонка, но сейчас же оборвал воспоминания, так как почувствовал на своем плече твердую руку. Я обернулся: передо мной стоял Лаврентий Кобызев.
– Откуда, земляк? – спросил я обрадованно.
– Из Белибейского полка… Здравствуйте, Ананий Андреевич.
– Здравствуйте! – И мы обнялись и поцеловались.
– С трудом добрался до вас, Ананий Андреевич. Нам надо поговорить о серьезном деле.
– Что ж, – вглядываясь пристально в лицо Лаврентия, понимающе подхватил я, – поговорим.
XII
Немцы в одиннадцать часов дня пошли в атаку, и она длилась более двадцати минут. Понеся за это время крупные потери, враг откатился к своим проволочным заграждениям и там, под ружейным и пулеметным огнем нашего батальона, сполз в свои окопы и блиндажи.
На холмистом, изрытом снарядами пространстве, между нашими окопами и противника, кучками и поодиночке в серо-зеленых мундирах, под цвет обожженной травы, лежали неподвижными бугорками и холмиками убитые немецкие солдаты, валялись винтовки, каски и вещевые ранцы. Лезвия штыков, отражая лучи солнца, сверкали раскаленными стеклами. Кое-где горела трава, зажженная нашими снарядами, и от нее прямо поднимался синевато-грязными струйками дым и таял в неподвижной тишине под свинцовым небом, в котором туманно, как бы сквозь сетку сероватой кисеи, без лучей краснело пятно солнца – краснело так, что на него было боязно взглянуть: оно было злым и как бы чужим земле и всем нам, сидевшим глубоко в окопах и блиндажах. Лаврентий Кобызев принимал участие в отражении атаки противника. Когда атаку врага отбили и он скрылся в своих окопах, за своими разорванными проволочными заграждениями, Лаврентий вытер рукавам шинели пот с похудевшего запыленного лица, вынул свою винтовку из бойницы, обернулся с трогательно-дружеской улыбкой ко мне.
– Ананий Андреевич, так вы придете?
– Обязательно, – твердо ответил я. – Ваш полк – на левом фланге. Васильев и вы – в третьей роте.
– Точно, Ананий Андреевич. Если не сразу найдете Васильева, то обратитесь к нашему полуротному прапорщику Кремневу, сообщите ему: «Нынче, ваше благородие, луна не показывалась». Он возразит вам: «Зато, братец, она вчера была ярка и кругла». И он проведет вас, Ананий Андреевич, к себе в землянку. Запомните этот пароль.
– Запомнил, земляк.
Лаврентий растерянно улыбнулся и дружески, не без лукавства проговорил:
– Вас, Ананий Андреевич, Серафима Черемина обожает. Благодарит за подарок – швейную машину. Она сознательная девушка. Вот она-то помогла открыть глаза деревенскому парню. Она сейчас в Питере. Знаете, Ананий Андреевич, об этом?
– Нет. В Питере? Я так и думал, что девушка вырвется из семьи, чтобы не задохнуться в ней, как ее сестра Роза Васильевна. Серафима Васильевна, – снижая голос до шепота, пояснил я, – не состояла в моем кружке, но книжки я давал ей читать. Читала она почти всегда «Правду», которую я выписывал. И, как замечал я, любила эту газету. Вот и все! Да ведь Серафима была тогда еще подростком. И она в Питере так легко подыскала работу?
– Сразу. Ее устроила Серафима, служившая года два-три тому назад, до войны, подавальщицей в трактире Вавилова, черная девушка, как цыганка. Вы ее, как писала мне Черемина, знаете. Вот она-то и приняла дружеское участие в ней – устроила на текстильную фабрику.
Я внимательно выслушал земляка и задумался, стараясь угадать, кто направил его ко мне. «Кто-нибудь из партийцев в его полку знает меня, вот и дал сведения Васильеву, которого я не видел ни разу в лицо, а он, Васильев, послал Кобызева». Предугадывая мои мысли, Лаврентий Тимофеевич сказал:
– Ананий Андреевич, я не могу сообщить вам того человека, который знает, что вы находитесь в Новогинском полку. Не могу не потому, что не хочу, а только, поверьте, потому, что ничего не знаю об этом человеке. – Он немножко помолчал и, поглядывая на солдат, находившихся в одном со мной блиндаже, стал прощаться. – Благодаря атаке немцев я загостил у вас… Живы ли мои друзья? Ведь они могли и не отбить, как вот вы, их атаку? Ведь противник вел наступление и на наш батальон. – Он вздохнул, крепко и порывисто стиснул мою руку, чмокнул меня в лоб и, повернувшись широкой спиной, скрылся в извилистом и глубоком окопе.
– Кто это приходил к тебе, Ананий Андреевич? – открывая веки, спросил хрипло Евстигней.
– И ты не признал?
– Нет, все время сидел с закрытыми глазами… Да вот и теперича спать так и тянет.
– Лаврентий Кобызев, брат твоего свояка.
Евстигней вытаращил глаза.
– Не может быть! Лаврушка?
– Лаврентий Тимофеевич.
– Что же ты, Ананий Андреевич, не толкнул прикладом меня! – взревел с досадой Евстигней и вылетел из блиндажа в окоп, но сейчас же разочарованно вернулся, сел на свое место и, что-то бормоча, опустил голову на грудь.
Я подошел к нему и, привалившись боком к стене блиндажа, стал смотреть по стволу винтовки в сторону окопов противника.
Там стояла мертвая тишина. Только за ними, по второй и третьей линии их окопов, била наша артиллерия, и там стояло мутное, желтое и длинное облако пыли, дыма и мельканье языков пламени.
«Что это у меня в кармане?» – ощутив тугой сверток, подумал я. Ведь я ничего в этот карман не клал. Отстраняясь от стены, осторожно вынул его и развернул холстинную тряпочку: в ней лежала пачка листовок на папиросной бумаге и записка:
«Родной товарищ, распределите присланное так, чтобы его хватило на все роты полка. Проделайте осторожно эту работу, но не сами лично, а поручите своим верным людям. Привет друга».
Я завернул сейчас же листовки в тряпочку, спрятал в карман шинели, разорвал записку, и ее клочки выбросил в бойницу.
«Надо повнимательнее присмотреться к солдатам», – решил я. «Проделайте эту работу осторожно, но не сами лично, а поручите своим верным людям», – повторил я взволнованно фразу записки. «Если так друг пишет, то он, несомненно, знает меня. Кто же этот друг?» – и я стал перебирать в своей памяти партийцев, знакомых лично мне. Не остановившись ни на ком из них, я стал думать, кому поручить это важное и необходимое дело. Но думал я над этим недолго: немцы открыли сильный орудийный огонь, почва мелко задрожала, из пазов накатника потекла насыпь, орудийный вонючий газ начал наполнять окопы, заползать в блиндажи: снаряды тупо ударялись в наволочь окопов и блиндажей, и я, оборвав свои мысли, плотнее прижался к земле.
Солдаты взвода, как и я, были неподвижны. Забегали по окопам и блиндажам взводные и отделенные, приказывая смотреть зорко в бойницы и целиться метко. Не прошло и часа, как снова наступила жуткая, отравленная пороховым дымом тишина, а затем раздались свистки, истошные голоса:
– Становись! Ружье!
Загудели наши батареи, застрекотали пулеметы и винтовки. Воздух от их огня захлюпал, заклокотал.
Солдаты противника вылезли из окопов, пошли в наступление, ощетинились штыками.
Стреляя, я видел в бойницу, как серо-зеленая цепь извивается гигантской змеею, то припадая к земле, то поднимаясь, как она рвалась на части, потом снова, оставив убитых и раненых позади, сливалась в одну, бросалась вперед и, редея быстро-быстро, с ревом приближалась к нам. Вот она уже не такой толстой докатилась до половины расстояния, лежавшего между нашими и ихними окопами, и, срезаемая ружейным и пулеметным огнем, в изнеможении повалилась на землю и начала медленно, по-черепашьи, отступать.
И вторая атака противника была отражена.
XIII
Вечером, после третьей немецкой атаки, принесли жратву и пачку писем. В этой пачке оказалось и мне письмо. Я письмо положил в карман шинели и принялся за горбушку черствого хлеба и за мясо, нанизанное маленькими кусочками на деревянную шпильку. Евстигней и Соломон тоже принялись за еду, а вошедший в наш блиндаж Игнат завел разговор о деревне, – он уже спорол свой обед и, глядя на нас, изредка облизывал губы.
– Ты что, уже пообедал? – работая зубами до скрипа над жилистым мясом, спросил Евстигней.
– Долго ли? – улыбнулся Игнат и выругался: – Сволочи, носят жратву через два дня на третий, да и то какой-нибудь жалкий кусочек падали, так что посмотришь на него, а его уже нет; хлеба тоже недодают: за три дня я должен получить не каких-нибудь полтора-два фунта, как это я получил сейчас, а по правилу девять фунтов, а тебе – шиш.
– Гороховый, – добавил Евстигней, – сволочи! Ну, что тебе пишет жена? Рассказывай.
– А у меня, брат ты мой, нет жены, – засмеялся Игнат.





