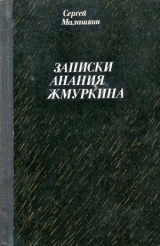
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Игроки шумно вздохнули, крякнули, откинулись назад, потом снова подались к столу. Резвый с раздраженным смущением бросил карты Попугаеву, предложил:
– Банкуйте! Гм! Желаю и вам такого же успеха, Араклий Фомич!
Попугаев фыркнул и, пошевелив тонкими губами, внес в банк пятерку, взял колоду и, тасуя ее, обвел острыми, сухими глазками своих противников, молниеносно, опытной рукой сдал всем по карте.
Роза Васильевна приложила ладонь ко лбу, промолвила обездоленно – тягучим голосом:
– Как несчастлива я. Зачем вы, Федор Григорьевич, выиграли?
– Я ставил, Роза Васильевна, на ваше счастье, вот и выиграл. С этого вечера всегда буду играть на вас… Позволяете?
– О господи! – простонала тихо девушка, и слезинки стеклом повисли на ее шелковистых ресницах, но она сейчас же смахнула их, растерянно улыбнулась, словно она была виновата в том, что родилась и живет в этом душном захолустном городишке.
– На сколько держите банк? – обратился Попугаев к Кондрашову.
– На рублик, – ответил машинально Кондрашов и бросил бумажку.
– И это, Федор Григорьевич, после такого куша? Как вам, молодой человек, не совестно!
– Не совестно, Араклий Фомич. На рублик! Проиграть желаю на счастье Розы Васильевны. Видите, как она недовольна, что я сорвал банк у Филиппа Корнеевича?
– Мало же вы, Федор Григорьевич, жертвуете на счастье такой красавицы, – заметил ехидно Попугаев.
Его слова вызвали улыбки на физиономиях игроков. Одна только Марья Ивановна нахмурилась, равнодушно буркнула:
– Подлец.
– Хозяюшка, это вы так назвали меня? – вздрогнув, спросил Кондрашов, и его глаза обиженно сверкнули. – Вот уж, Марья Ивановна, не ожидал от вас такого словечка.
– Всегда так, родной, бывает, когда не ожидаешь, – проговорила Марья Ивановна. – Не сердитесь! Любя, Федор Григорьевич, ругнула так. Чувствую, что вы очень осторожный и дальновидный человек. Вы далеко пойдете в жизни.
– Спасибо, Марья Ивановна. Понял вас… и не обижаюсь! Буду стараться, чтобы оправдать ваши слова, драгоценные для меня, – пророкотал почтительно и не без важности Кондрашов и умильно сверкнул глазами на Розу Васильевну. Та сидела с поникшей головой и не заметила его взгляда. Попугаев сбросил карту ему.
– Еще?
– Хватит! – крикнул Кондрашов, и его лицо полезло, как перестоявшееся тесто, в стороны.
Попугаев подкупил к своей, перевернул карты:
– Семнадцать. У вас?
– Два туза! – перевернув карту, раздраженно буркнул Кондрашов. – Опять выиграл… Не собирался, а выиграл!
– Получите рублик, Федор Григорьевич, – прозвенел язвительно Араклий Фомич.
Роза Васильевна ниже свесила голову, уставилась взглядом в тарелку, на которой лежал пирожок, недоеденный ею. Проиграл и Семен Антонович Кокин, проиграли Марья Ивановна и Василий Алексеевич, ставившие под весь банк; проиграл и Филипп Корнеевич. Араклий Фомич Попугаев, весьма довольный, бросил колоду, сгреб деньги со стола. Стал банковать Кондрашов. Его банк сорвал сразу Бобылев и, оставив выигранные деньги на кону, начал метать карты. Его банк взяла Марья Ивановна и, приняв от него карты, сказала:
– Друзья, банкую! – и прибавила к выигранным деньгам еще десять целковых. – В банке двадцать. Хочу, чтобы вы все нынче проиграли мне. Проиграете, а? – спросила она самым откровенно требующим тоном, а ее серые глаза налились печалью, и печаль эта, как заметил я, была настолько глубокой, что в ней не было видно дна. Марья Ивановна положила колоду перед собой, похлопала ласково ладонью по ней, предложила: – Выпьемте по рюмочке, а потом я открою банк для вашего, друзья, проигрыша.
Ее предложение насчет выпивки все приняли охотно, оживились, выпили, и не по одной, а по три, закусили первач пирожками, селедкой и копченой колбасой. В четвертной убавилось славной жидкости на половину. Марья Ивановна стала успешно банковать и… перед самым концом банка проиграла Резвому: он, ехидная закорючка, безжалостно подрубил под корень банк.
– Господи, как не везет мне, – бросая карты, пожаловалась Марья Ивановна и, откинувшись к спинке стула, закрыла глаза, подумала, глянула тревожно на дочь и в каком-то неутешном отчаянии прикрикнула: – Розка, я вижу, ты хочешь спеть «Чайку»? Конечно, хочешь! Спой, родненькая, а мы, выпивая и играя, послушаем!
XXV
Роза Васильевна вскинула голову, поглядела длинно на мать, которая выпила много самогону и не запьянела от него, а только глаза ее стали еще больше печальными на широком и все еще красивом лице, каких немало встречается среди великого славянского племени, приняла скорбно улыбающееся выражение, встала и отошла от стола, закинула руки за спину и легким, хрустальным голосом запела, и все, слушая ее, перестали жевать, задумались, как бы видя перед собою чайку с подстреленным крылом, летающую над морем, борющуюся с гневной стихией. Я даже, слушая пение девушки, видел не только чайку, но и слышал ее смертельный крик, ее стоны… и мне казалось, что это стонет не чайка, а Россия. Я задумался, но тут же оборвал свои мысли, так как Марья Ивановна положила локти на стол, склонила посеребренную голову на ладони, всхлипнула. Мужчины, слушая девушку, решили еще выпить и закусить. Они выпили и закусили, и в четвертной стало самогона много меньше половины. Резвый расчувствовался, начал жаловаться Марье Ивановне на свою дочь Людмилу, что она разводит крамолу, что ее за эту крамолу обязательно поймают и повесят… да и его не погладят за нее по головке.
– Ее отец верноподданный государя, а она, дрянь, революционерка, с браунингом щеголяет! Гм! Кого-то, как думаю, кокнуть собирается. А кого – не знаю!
– Тсс! Что вы, Филипп Корнеевич, на свою Людмилу говорите! – прикрикнула негромко Марья Ивановна на Резвого.
Резвый собрался что-то еще сказать про свою дочь, но женщина дрогнула рыхлыми плечами, резко вскинула широкое лицо с полосками слез, грозно, с болью в голосе оборвала:
– Замолчите! И пьяному нельзя говорить того, чего не надо!
Резвый зажал ладонью свой рот, мотнул головой, дико, со страхом поглядел на игроков и, задержав взгляд на мне, извиняюще буркнул:
– А она, Ананий Андреевич, права.
– Славный вы, Филипп Корнеевич, человек… Истинно славный! – продолжала Марья Ивановна. – Если бы вы были не таким славным, то и дочь ваша Людмила не была бы такой доброй и справедливой девушкой. Поняли, Филипп Корнеевич?
– Как не понять… Все понял, Марья Ивановна, – пророкотал насупленно Резвый, все еще поглядывая со страхом на ее гостей. – Все дошло, дошло до моего сердца, что вы сказали.
– Если дошло, Филипп Корнеевич, так поцелуйте меня и в левую щеку. Василий разрешает. О господи! А ведь славно моя Розка поет?
– Прекрасно поет, – согласился взволнованно Резвый, вытирая ладонью набежавшие на глаза слезы. – Дивно поет. Так поет, что сердце замирает.
Гости шумно поддержали Резвого.
– И все мы подстреленные чайки, – промолвила Марья Ивановна. – Все мы, друзья, с смертельным криком носимся над мутной житейской пучиной. О господи! Нужно ли было нам для такого страдания родиться и жить?
– Как это не нужно, Марья Ивановна? – встрепенулся испуганно Араклий Фомич Попугаев и запротестовал: – Может быть, Марья Ивановна, в таком страдании и вся красота человеческой жизни? И жизнь нам такую дал сам всевышний, а вы, Марья Ивановна, кощунствуете! А я доволен жизнью. Собираюсь небольшое именьице купить.
– А я с вами, Марья Ивановна, согласен. По ночам чувство страха так мучает меня, что я места нигде не нахожу, – проговорил жалобно Резвый.
– А это потому, Филипп Корнеевич, что вы блюститель порядка в нашем крае. Все боитесь, как бы этот режим, не дающий свободно дышать людям, не развалился, – ввернул Семен Антонович Кокин и дернул внеочередную рюмку первача и так быстро, что никто, кроме меня, и не заметил его ловкости.
– Эх, не говорите, Семен Антонович! Вам легко торговать швейными машинками, а мне… Нет, нет! Я пуговица, пришитая к этому режиму, вот кто я! Хотя я и пуговица, но, признаюсь, страшно мне бывает. Ох как страшно! Лягу в постель, только, представьте себе, заведу глаза, вдруг слышу, как начинает земля трястись подо мною.
– Когда пьяны дюже бываете, – съязвил Попугаев.
Филипп Корнеевич пропустил мимо ушей замечание Араклия Фомича, продолжал, обращаясь то к Марье Ивановне, то к Семену Антоновичу:
– И так, господа уважаемые, она, кормилица, трясется, а я от страха по́том обливаюсь.
– Это, вероятно, тогда, когда вы в проигрыше, – заметил опять таким же тоном Попугаев. – Несомненно так, Филипп Корнеевич!
– Вот и не так, Араклий Фомич! Как раз наоборот, как раз наоборот! – воскликнул с упрямством Резвый. – Земля трясется подо мною больше тогда, когда бываю в выигрыше!
– Да неужели? И в выигрыше? – ввернул все тот же Попугаев.
– Точно! А во всем виновата дочка с своими идеями. Да-с! Такая зелень, а полна идей! Начиталась Михайловского, Лаврова, Чернова и разных там умников… ну вот и бредит, несет то с Дона, то с Волги; то разольется о социализации земли, то о свободе и равенстве, то заговорит о герое и толпе, то… И у меня, невольного слушателя, все смешается в башке, такой начнется камаринский с примесью гопака, перепляс разных, черт бы их побрал, мыслей, что я валюсь от хаоса их в постель. И вот тут-то и начнет и начнет земля колебаться, сотрясаться…
– Что вы говорите? Неужели правда? Да ведь это просто наваждение, – сказал со вздохом, сочувственно Кокин и продолжал: – А вот меня никакие подземные толчки и… подпочвенные воды не беспокоят. Да, и признаюсь, не слышу их! Не слышу и тогда, когда бываю в проигрыше, не слышу, когда бываю и в выигрыше. Всегда подо мною неколебима земля-матушка. Правда, изредка, когда дюже выпивши, снятся крысы и рыжие собаки.
– Это хорошо, Семен Антонович! – фыркнул Попугаев. – Крысы к большим деньгам, рыжие кобели – к новым друзьям!
– Да, денежки хорошо. Приветствую их, если они сами лезут в карман! А вот новых друзей – не надо, к черту! Хочу существовать как можно подальше и от тех, которых имею! – философски закончил Кокин.
– Что так? – полюбопытствовал со смехом Кондрашов.
– Всегда у меня денег в долг просят. Дам – не возвращают, – ответил раздраженно Кокин.
– Вы, Араклий Фомич, должны гордиться такими друзьями! – сказал значительным тоном Резвый. – И земля, значит, не трясется под вами?
– Нисколечко, Филипп Корнеевич, а видно, потому, что крепко на ней стою.
– Вы все, друзья, говорите о непонятном для меня… О каких-то страхах и идеях… о трясении земли, о подпочвенных водах! – вмешалась решительно в разговор гостей Марья Ивановна. – Плюньте на все это! Говорите только о самом простом в жизни! Как бы, друзья мои, земля ни тряслась, как бы ни шумели подпочвенные воды, она все же не сбросит с своего тела таких подленьких насекомых, какими являемся мы с вами. Я в этом глубоко уверена! Поэтому, искренне признаюсь, и живу без возвышенного страха за свою жизнь, чертовски прозаично живу, как живут миллионы таких же, как и я, зловредных козявок.
– Я говорю, Марья Ивановна, не о возвышенных идеях, а о трясении земли, – возразил со страданьем и страхом Резвый. – Вы меня не поняли… Да и я, Марья Ивановна, состоя в должности полицейского надзирателя, не имею никакого права и заикнуться, а не только распространяться о высоких идеях. Да-с!
Роза Васильевна, не обращая никакого внимания на разговор гостей, путанно-сумбурный, смысл которого вряд ли понимали и сами говорившие, все пела и пела; казалось, что ее песне о подстреленной чайке, летающей над бурной пучиной моря, не будет конца.
– Так что же вы, Филипп Корнеевич, не поцелуете меня в левую щеку? Сказали – и на попятную?
Резвый выпрямился, склонился над столом, и Марья Ивановна подалась к нему, протянула руку к четвертной, но ее предупредил Бобылев, попросил:
– Нельзя, голубушка, делать два дела в одно время: целоваться с Филиппом Корнеевичем и наливать первач.
Филипп Корнеевич и Марья Ивановна встали, поцеловались через стол и прочно сели на свои места, Бобылев наполнил рюмки, предложил гостям выпить. Когда они выпивали, и беспорядочно выпивали, один раньше другого, вразнобой, не все сразу, как это было в начале вечера, Роза Васильевна наконец закончила песню о «Чайке» и, бледная, с трепещущими ресницами, подошла к столу и села. Тут Марья Ивановна, поставив локоть на стол и прислонив ладонь к щеке, своим хрипловатым, мужским голосом запела известную народную песню «Последний нонешний денечек…». Резвый подхватил надтреснутым тенорком, закатывая зеленоватые глаза под лоб, над которым сияла рыжеватая щетка волос. Стал подтягивать тонким голосом и Кокин; на его узком и сероватом лице, похожем на измятую бумагу, трепетала легкая улыбочка. Он то звенел голоском, то умолкал, тускло поглядывая сухими глазками на колоду карт и на бумажки на кону. Прислушиваясь к густому голосу Марьи Ивановны, игроки навалились на самогон, позабыв про игру, они выпивали и закусывали, выпивали и закусывали, и не хмелели: упились самогоном. И я затаив дыхание слушал Марью Ивановну и Филиппа Корнеевича и, слушая, видел зримо еще уголок уездной мещанской жизни, скучной и непролазной для немножко мыслящего человека. Их голоса, густой бас с хрипотцой и дребезжащий, как разбитая гитара, тенорок, лились и лились: «Последний нонешний денече-ек, ггуляю-ю с ва-а-ми я, друзья-я!» Слушая песню, я не видел перед собою ни Марью Ивановну, ни Филиппа Корнеевича, ни остальных гостей, хлеставших самогон, а египетскую тьму, – это она, умирая, надрывно и разноголосо пела «Последний нонешний денечек»; пела, как мысленно мне представлялось, перед своею смертью. Надрывно-тягучая песня египетской тьмы была во много раз мрачнее, чем «Чайка с подстреленным крылом». Мне стало душно, я задыхался от «Последнего нонешнего денечка», от запаха самогона. Мне казалось, что вся уездная Россия провоняла водкой, барахтается в отчаянной тоске, «кружится, бьется подстреленной чайкой в кромешной египетской тьме, не находя выхода к свету, на манящие огни, которые держат в руках новые люди. Да видят ли эти огни в руках новых людей гости Марьи Ивановны? Да видит ли и сама Марья Ивановна, женщина великого многострадального славянского племени? Я поднялся из-за стола, вышел в прихожую, где воздух стоял чуточку свежее, не вонял самогоном, и остановился, думая о том, что Марья Ивановна и ее гости не так уж плохие люди: обычные люди, каких миллионы, какими населена шестая часть земного шара – Россия. Вдруг приглушенное рыдание оборвало мои размышления, заставило меня вздрогнуть. Я в ужасе глянул в сторону деревянного дивана: на нем, свернувшись в комочек, лежала Серафима и надрывно, захлебываясь, рыдала, содрогаясь телом в голубеньком платьице. Я порывисто шагнул к ней, положил руку на ее белокурую голову, спросил:
– Серафима Васильевна, милая, что с вами? О чем вы так плачете? Кто обидел вас?
Девушка, не поднимая головы, прорыдала:
– Страшно мне дома… я будто придавлена колесами телеги, наполненной грузом. Ведь такие вечера… О ужас! Я не могу их выносить! Они были позавчера, вчера, будут завтра, послезавтра. О господи! Помогите, Ананий Андреевич, уехать мне отсюда, из этого затхлого и бездонного болота. Не уеду – я погибну в его духоте, превращусь в слякоть от «Подстреленной чайки», от «Последнего нонешнего денечка»! О господи! Эти песни, как и четвертная с самогоном, обязательные на каждом вечере, словно этот жалкий дом нарочно поставлен для самогона, карт и таких песен. Я ведь могу служить и кухаркой. Я могу быть чернорабочей. Я рослая, сильная: мне ведь никто не даст шестнадцать лет, а все скажут – больше! Помогите же! Помогите же! Я могу отлично кулинарить… Я уже, Ананий Андреевич, сказала вам об этом, как вы пришли. О-о!
Я принялся отечески утешать, успокаивать ее.
Она перестала плакать, резко выпрямилась, сердито, даже со злобой, словно я был враг для нее, со злобой, неожиданной для меня, взвизгнула:
– Перестаньте, пожалуйста, утешать! Мне не утешение ваше надо, а помощь и… – Девушка не досказала фразы и бросила: – Постель вам, Ананий Андреевич, приготовлена. Идите в комнату, которую вы когда-то снимали. Идите и ложитесь! – И она, не взглянув на меня, схватила пуховой платок с сундука и, как бы подхваченная налетевшим внезапно вихрем в прихожую, вынеслась на улицу, в густо-синюю, мерцающую мелкими серыми звездами весеннюю ночь.
Сердце у меня сжалось от жалости к девушке-подростку: я малость постоял в нерешительности, беспокойно и со страхом прислушиваясь к быстрым, постукивающим по ночной земле шагам Серафимы, потом, сильно потрясенный ее словами и бегством, повернул к двери и вошел в крошечную комнату, выходившую окном в небольшой двор, в конце которого чернела, как затянутый крепом гроб, туалетная будка. Я машинально, со злобой на себя разделся и лег в чистую белоснежную постель.
В столовой пели «Последний нонешний денечек», пела на бис и Роза Васильевна вторично «Чайку», пили первач, ожесточенно чокались рюмками, продолжали игру в банчок, шлепая картами. Думая о Серафиме и Марье Ивановне, о гостях ее и о Розе Васильевне, я долго не мог заснуть.
«На фронте бессмысленно льется человеческая кровь, засевается костями солдат русская земля, а здесь, за тысячу километров от фронта, в египетской тьме стонет в отчаянной тоске и бессмыслице народ», – проговорил я про себя, и все во мне от такого сознания заныло, застонало.
XXVI
Проснулся я на восходе солнца: оно, мутно-малиновое, как бы вобрав в себя потоки крови, льющейся на полях сражений, ребром стояло за Красивой Мечой над зелено-черными и бурыми холмами полей и селений с серыми соломенными крышами.
Хозяева еще не проснулись: они легли перед рассветом. Гости разбрелись по своим домам. Из комнаты, находящейся рядом со столовой, доносился до моего слуха охающий храп Кондрашова, словно он не храпел, а бросал мучные мешки на полок ломовой подводы, а поднявшееся солнце с завистью смотрело на него. Я вышел в прихожую и увидел Серафиму: она в голубеньком платьице, в пуховом платке лежала комочком на деревянном диванчике. Стараясь не разбудить ее, я взял свои вещи и, выходя из дома, с отеческой жалостью поглядел на нее, сказав про себя: «Ничего, эта девушка, осознавши себя в жизни, не опустит крылья, не возомнит безвольно и болезненно, с безысходной безнадежностью себя, как ее сестра, подстреленной чайкой, уйдет из мути мещанства, египетской тьмы, увидит луч света».
На улице на деревянном заборе двора я увидел расклеенный приказ о призыве белобилетников и задумался над тем, куда мне пойти сейчас.
«Не пойду к Малаховскому. Если зайду к нему, то потеряю день, и я не попаду в Солнцевы Хутора, не повидаюсь с сестрой». И я решил пойти на Базарную площадь, которая находилась недалеко от Тургеневской. Не успел я завернуть за угол улицы, как услышал знакомый сиповатый голос:
– Попались и вы, Ананий Андреевич!
Я оглянулся на него: передо мной стоял в сером пиджаке, в полосатых брюках и в засаленном котелке Семен Антонович Кокин – он тоже держал путь на площадь.
– Да, Семен Антонович, и мой год призывают, – ответил спокойно я. – Придется, видно, и мне побывать на фронте. Кстати, вы, Семен Антонович, мне очень нужны!
– Очень рад, очень рад, если я вам, Ананий Андреевич, необходим! – протрещал тоненько Кокин и навострил глазки на меня. – Неужели действительно решили приобрести швейную машину?
– Угадали, Семен Антонович. Сколько она стоит?
– В рассрочку – шестьдесят рубликов, за наличный – сорок один рублик, – не сводя с меня удивленно-недоверчивого взгляда, пояснил Кокин.
Я достал из бокового кармана четыре десятки и рубль и незамедлительно вручил ему. Семен Антонович Кокин спрятал деньги, выдал мне квитанцию на купленную мною машину, дружески пожал мне руку и перышком метнулся в сторону, на Тургеневскую, крикнув отчаянно и весело:
– Нынче же доставлю машину по назначению Серафиме Васильевне Череминой! За качество ее не беспокойтесь: компания «Зингер» на высоте!
– Благодарю, Семен Антонович, – отозвался я и попросил: – Доставьте покупку сегодня утром!
– Будет в точности исполнено, Ананий Андреевич! – заверил он и скрылся за углом каменного двухэтажного дома.
Придя на Базарную площадь, я увидел много подвод, пестрые кучки пожилых мужчин и молодых, празднично и пестро разодетых женщин, ожидавших открытия ларьков, палаток и магазинов. Среди них я быстро разыскал пожилого крестьянина из Заицких Выселок, подрядился с ним, и он довез меня до родного села, получил рубль с меня и, попрощавшись равнодушно со мною, ударил вожжой вороного мерина, и вороной, махнув хвостом, побежал рысью, гремя колесами телеги по накатанной и серой, как сталь, дороге.
Июнь – июль
1956 г.





