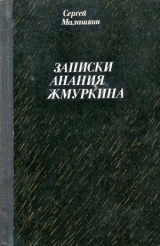
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Записки Анания Жмуркина
Посвящается Варваре Григорьевне Малашкиной
Часть первая
УЕЗДНОЕ
I
Склонив голову и держа перед глазами справку, я вышел из канцелярии университета Шанявского в довольно просторный зал.
«Сия справка выдана слушателю историко-философского факультета…»
– Постой! Постой! Что у тебя за цидулька? – оборвал хриповато-приглушенный голос.
– Ананий, а для чего она тебе? – спросил Филипп Шипиленко и ткнул пальцем в четвертушку бумаги, которую я еще не успел спрятать.
– На всякий случай. Думаю, пригодится. Я все же окончил, как ты знаешь, третий курс…
– Мне ли не знать! Вместе три года тому назад подавали заявления. Но этот храм науки, к сожалению, не дает никаких юридических прав бывшим его студентам.
– Права – не так важно. В этом храме мы слушали лекции лучших профессоров страны, выгнанных правительством из государственных университетов.
– Министр Кассо, по-твоему, помог нам быть слушателями этих профессоров?
– Как бы там ни было, мы приобрели все же серьезные знания.
Шипиленко ничего не возразил и, подумав, сейчас же перешел на другую тему:
– Я узнал от Гриши Безрукого, что ты выклянчил у Чичкина пять тысяч рублей для партии. Так это? – И его глаза потемнели, сверкнули и впились мне в лицо.
Я ответил не сразу. Помолчал, поглядел на его прямую, сухощавую фигуру, обтянутую зеленоватой тужуркой и такого же цвета узкими брюками, и на улыбающуюся физиономию с челкой на лбу. Тужурка и брюки были до того заношены и засалены, что казались стеклянными. Говорил Шипиленко немножко нараспев, скупо и книжно, а главное – чтобы сказать фразу, он тщательно составлял ее из таких слов, которые настораживали слушателя, заставляли его поверить в то, что он действительно имеет дело с ученым человеком, а не просто со студентом. После каждой фразы Шипиленко поджимал губы и, умно и загадочно улыбаясь, пристально смотрел в лицо слушателя и ждал, что он ему ответит и как ответит.
– Я не «клянчил» денег у Чичкина, а просил… Чичкин дал в этот раз, как почувствовал я, с нескрываемой неохотой, сказав: «Я не денежный мешок для партий. Месяц назад просили меньшевики. А совсем-совсем недавно эсеры»…
– Что сказал Чичкин, меня не интересует, – оборвал резко Филипп. – А вот деньги – да! Скажи, сколько дал?
– Чек на пять тысяч.
– Дело! – сбирая складки на лбу, воскликнул Шипиленко. – Вот из этой суммы и одолжи! Признаюсь, нахожусь в бедственном положении. Когда у меня в карманах гуляет ветер, я чувствую себя бескрылым. А ведь я по темпераменту – орел. Ты это знаешь! – Заметив недоверчивую улыбку на моем лице, поправился: – Если не орел, то сокол!
Шипиленко взял меня под руку, подвел к открытому окну, в которое врывался грохот пролеток, грузовиков, шум пестрой толпы.
– Получать по чеку сам будешь?
– Как бы шпики не задержали с деньгами. За мной, как замечаю, следят… За себя я, конечно, не так боюсь, но за деньги – очень: в комитете касса пуста.
– Не бойся иди! Такой бороде, как у тебя, позавидовал бы замоскворецкий купчина. Ничего, Ананий! Шагай смело в банк и получай. Костюм на тебе аристократический, такого я не видел ни разу на твоих плечах.
– Пришлось разориться на него.
– В таком костюме, – продолжал Шипиленко, – сойдешь за купца, хватившего европейской культуры. Купечество российское поднимается, как тесто на дрожжах.
– И порывается к власти.
– Черт с ним! Я уже тебе, Ананий, деликатно намекнул, что я, твой друг, нахожусь в трудном положении, в таком же, в каком был Данте в преисподней. Так вот, предстань предо мной Вергилием: отшиби сотенку из денег Чичкина. Такая сумма помогла бы мне вылезти из ада.
– И без Вергилия?
Филипп пропустил мимо ушей мой вопрос. Не замечая поскучневшего лица моего, веря, что я не откажу ему – спасу его от гибели, Филипп вырос, расцвел; озираясь по сторонам, на студентов, прохаживающихся по просторному, ослепительно-белому залу, таинственно сообщил:
– Вчера балерина Г. была у меня, танцевала в костюме Евы, а я, созерцая ее божественные движения, создал «Соломею». – Он смущенно потупил глаза, заворковал:
Как лань, легка,
Стройна, как Соломея,
Тебя века
Я ждал, надежды не имея.
Подошел Игнат Лухманов, протянул руку. Здороваясь с ним, я не расслышал две-три строфы стихов из «Соломеи». Автор стоял боком к Лухманову и, увлекшись декламацией, не заметил его. Лухманов, бросив взгляд на узкую спину Шипиленко, отошел от меня и, прислушиваясь к его голосу, стал смотреть на книги в застекленном шкафу. Филипп продолжал, наклонившись ко мне:
А мрамор гордого крутого лба
Пылает мыслью, как зарей стремнина,
В провалах мозга оргия и месса,
То Нина,
Смуглый сфинкс и поэтесса.
Лухманов фыркнул, затем кашлянул. Шипиленко вздрогнул, замолчал и обернулся к Лухманову, сердито спросил:
– Откуда ты? Давно, Игнат, здесь?
Лухманов молча повел полными, рыхлыми плечами и, ничего не ответив Шипиленко, с подчеркнутым равнодушием улыбнулся и отошел к весело разговаривавшим девушкам. Автор «Соломеи» хмуро, свысока глядел вслед ему и, не отводя от него взгляда, с испугом в близоруких глазах бросил:
– Украдет.
– Что украдет?
– Тему, – ответил Шипиленко, принял прежнюю позу и стал продолжать, но уже тихо.
Я молчал и думал не о стихах Филиппа, а о странной просьбе его. Я знал, что с квартиры он съехал не просто из-за какого-то неудобства, а по причине довольно щекотливой. Он снимал комнату у пожилой женщины, и женщина была довольна тихим жильцом, бедным студентом. Довольна была она до тех пор, пока не застала свою дочь у него в постели. Скандал вышел невероятный. Женщина потребовала от поэта «прикрыть грех», и поэт, видя скалку в ее руках, дал ей слово, что он женится на ее дочери. Женщина успокоилась, а поэт в тот же вечер, как только она отлучилась из квартиры, связал пачку книг (больше у него ничего не было) в байковое одеяло и сбежал. «Где же Филипп сейчас проживает? – подумал я. – Неужели между небом и землею? Нет, я все же его «Вергилием» не буду». Видя, что я не слушаю «Соломею», а задумался, Шипиленко уверенно сказал:
– Знаю, дашь! Вот спасибо. Не забуду тебя, Ананий, до гроба.
– Не проси, Филипп, не дам!
Шипиленко удивленно, словно из рук выпорхнула жар-птица, вылупил на меня глаза.
– Не имею права, – продолжал я. – Поговори с Игнатом. Он за старшего у студентов, выгружающих дрова и уголь из вагонов. Он возьмет и тебя… Они отлично зарабатывают.
– Я же поэт, а не грузчик! – придя в себя, ответил вспыльчиво Филипп.
– И Лухманов поэт.
– А ты, Ананий, считаешь его поэтом?
– А почему бы и нет? Он пишет довольно приличные стихи, такие же, какие и Алеша Ивин.
– У твоего Лухманова вот тут, – Шипиленко поднял палец, согнул его и постучал по лбу, – под черепком не мозги – труха. Тоже увидел поэта в нем! Как же мне быть, если не дашь денег? Тогда дай из своих. У тебя, Ананий, как знаю я, не одна сотня на книжке.
– Не дам, – ответил я спокойно и пояснил: – Не подумай, что жалко. А потому, что это будет тебе во вред: еще больше обленишься. На фронт тебя из-за плохого зрения не взяли… а работать – дрова и уголь выгружать – вполне можешь.
Шипиленко, закрыв нижней губой верхнюю, насупился.
Я протянул руку, сказал:
– Не сердись. До свиданья.
Он брезгливо и оскорбленно, не снимая нижней губы с верхней, смерил меня взглядом и, отвернувшись, стремительно, легкой походкой вышел из зала.
II
Я получил в этот же день по чеку деньги в банке; получил благополучно: не заметил ни одного шпика. Вечером отнес их по известному мне адресу и передал молодой, скромно одетой женщине (теперь, когда пишутся записки, можно назвать ее имя и фамилию, – это была Софья Николаевна Смидович). Я вернулся в свое жилище, что находилось на Большой Никитской. Войдя в полуподвальную комнату с двумя окнами во двор, слабо освещенный газовым фонарем, я задержался у порога: Влас Капитонович Тютин находился в гневе; вернее, чем-то был ужасно напуган. Увидев меня, он, как ужаленный каким-то гадом, подпрыгнул, вытаращив глаза, замер, затем дребезжащим тенорком завопил:
– Съезжаю! Не желаю жить с тобой! Ты ведешь себя так, что и меня, здравомыслящего патриота, посадят в Бутырки, за решетку! – Он захлебнулся визгом и, маленький, кругленький, в синем с красными искорками костюме и в крахмальной сорочке, вихрем пронесся по крошечному помещению, задевая желтыми ботинками за венские стулья и ящики с карамелью (он от какой-то кондитерской фабрики в свободное время от основной службы вояжерствовал – разносил карамель по бакалейным лавчонкам и на этом деле малость подрабатывал). Его черные усы на круглом сизоватом лице смешно, по-тараканьи, топорщились; небольшая лысина матово поблескивала в его смоляных волосах, вьющихся на висках и затылке.
– Завтра ноги моей не будет здесь! После обеда заявился рыжий, очкастый человек, вполз нагло в комнату и стал меня расспрашивать о каком-то Перепелкине, маленьком человеке с темно-русой курчавой бородой. «Он, Перепелкин, проживает здесь! – рявкнул он. – Да, да, я сам, своими глазами видел, как вошел он в подъезд!» Тогда я заявил ему, что здесь не проживает Перепелкин; в других тоже таких, с птичьей фамилией, нет. Приглядываясь к столу, фотографиям на стене, он сказал: «Что ж, мне придется подождать! Думаю, Перепелкин явится к вечеру!» Этот рыжий, несомненно, шпик. – И Влас взвизгнул еще громче и, размахивая руками, опять заметался по комнате.
Я стоял у порога и слушал. Появление в комнате рыжего обеспокоило меня. Я подумал: Влас правду говорит. Шпик, вероятно, был в общежитии мамонтовских рабочих, сидел где-нибудь за ситцевой ширмой, слушал меня и наблюдал, а когда я попрощался с рабочими, вышел на улицу и последовал за мною. Вероятно, заглянул в окно и увидел меня в комнате, иначе он так уверенно не приставал бы к Тютину, не утверждал бы, что Перепелкин живет вместе с ним.
– А кто развалил книги?
– Рыжий не прикасался к ним. Он только поглядел на них, – бурно ответил Тютин со страхом в глазах. – Я развалил…
– Запрещенных не нашел?
– А что я понимаю в твоих книгах? Ты знаешь, что я не чтец… Да ведь и за эти могут сцапать!
– Влас, ты хорошо знаешь, что я не держу…
– Не ври! – оборвал Тютин. – Две недели тому назад студент принес пачку прокламаций, и она пролежала всю ночь под кроватью. Правду я говорю? – Его верхняя полная губа под черными пушистыми усами задрожала. Пот бисером заблестел у него на лбу.
– Правду, – признался я.
– Из-за этой чертовой пачки я не сомкнул глаз до утра: каждый шорох в квартире пугал меня. Мне все время мерещились жандармы и городовые.
Я рассмеялся, дружелюбно сказал:
– Успокойся, Капитоныч. Я нынче вечером уезжаю далеко. Больше не вернусь в комнату. Останемся друзьями, хотя мы и по-разному смотрим на жизнь: тебя тянет к коммерческой деятельности, меня – к другой… Думаю, из тебя выйдет если не второй Рябушинский, то, во всяком случае, что-то вроде него. Ну как идут дела с мешками?
Он не понял моей иронии, оживился:
– Сегодня с шести часов утра носился по магазинам… и закупил семьдесят тысяч. Завтра сдам интендантству. Получил отсрочку от военной службы на год, – похвалился он, и его круглое усатое лицо засияло улыбкой, глаза подернулись лаком. – Ананий, серьезно уезжаешь?
– Да, да. Уезжаю из Москвы.
– Когда я сделал первые шаги в коммерции, комната мне по положению не подходит, но я все же временно останусь в ней: она в центре столицы, а это важно для дела… – Тютин подобрел, молниеносно выхватил ящик из-под койки и, не глядя мне в лицо, предложил: – Ананий, это тебе на дорогу. Возьмешь карамельку в рот и, посасывая, вспомнишь друга. Надеюсь, что мы встретимся. Гора с горой, как говорят, не сходится, а человек с человеком сойдется.
– Хорошая пословица, – согласился я. – За подарок душевно благодарю, но принять не могу.
– Как не примешь? Ананий, никаких разговоров! – вскричал обиженно Тютин и покраснел. – Не возьмешь – кровно обидишь! Да и счастья у меня на коммерческом пути не будет. Скажи: мы друзья?
– Конечно.
– Тогда не отказывайся! Бери!
Я пожал плечами, принял подарок и стал торопливо собираться в дорогу. Вещей у меня было столько, что воробей унес бы их на своих крыльях. Книги я подарил Тютину, сказав:
– Капитоныч, это классики.
Тютин подозрительно поглядел на них и, вздохнув, промолвил:
– Спасибо. В свободное время полистаю какую-нибудь.
– Не листай, а читай, – посоветовал я. – Книги помогут тебе отшлифовать язык… и ты будешь правильно произносить слова. – Влас обиженно насупился, и я, заметив это, рассмеялся, слегка хлопнул его по плечу. – Сколько зашиб на мешках?
– В течение дня я заработал без малого шестьсот.
– И положил в бумажник?
Тютин грустно вздохнул:
– Не положил.
– Почему?
– Из шести копеек барыша с мешка я четыре отдал тому, кто меня натолкнул на эту идею, кто помог мне получить отсрочку от призыва в армию. Я и за это усердно благодарю господа бога.
– Ты, Влас, не проводишь меня на Курский?
– С удовольствием. Вечерком?
– Нет, вот сейчас.
– Что так? До поезда уйма времени!
– Подожду на вокзале.
– Знаешь, Ананий, я собираюсь жениться, но невесты еще не подобрал. Жена мне нужна твердая, интеллигентная, которая помогла бы мне стать, столичным человеком. На чтение твоих классиков вряд ли я найду время, а жена походя отшлифует.
Я улыбнулся, сказал:
– Дело, Влас, говоришь. Интеллигентная жена и толстый бумажник защитят тебя… и люди, занимающиеся коммерцией, не заметят в твоей речи провинциальных словечек.
Влас отмахнулся рукой от моих слов и, подумав, спросил:
– Ананий, веришь, что я разбогатею?
– Несомненно. Кто же, позволь у тебя спросить, не разбогател на солдатской крови?
III
Я и Влас сели в легковую пролетку и, посматривая на длинную, костлявую, в синем летнем кафтане спину пожилого извозчика, поехали на вокзал; каурая лошаденка, то и дело высыпая из отвислого живота навоз, мелко семенила по булыжной мостовой. Ни я, ни Влас не торопили извозчика, так как выехали за три часа до отхода поезда Москва – Елец. Следом за нами гремела вереница пролеток с седоками – мужчинами и женщинами. Тютин не заметил среди них рыжего, справлявшегося у него о бородатом Перепелкине. Признаюсь, это успокоило меня. Влас сообщил, что в начале второй половины мая будет объявлен приказ о переосвидетельствовании белобилетников.
– Вероятно, Капитоныч, требуется много людей для пополнения поредевших полков и дивизий, вот и вывешивают часто высочайшие приказы.
Тютин промолчал и, заметив розовую церковь, снял шляпу и перекрестился.
В третьем классе вокзала я попрощался с ним. Мы пожали крепко друг другу руки, поцеловались по русскому обычаю и расстались на много лет: он действительно, как услышал я от Шипиленко, стал капиталистом – заработал много денег на поставках мешков, мыла и других товаров интендантству. Но «фартило» ему не более трех лет: революция взломала под ним почву, вырвала лаковую пролетку из-под него, и он очутился на голом месте, совершенно нищим, наполненный невероятной яростью к революции, к народу, совершившему революцию. Из движущейся, ошалелой от жары толпы, пестрой и шумливой, сверкнули черные глаза, мелькнула шляпа канотье, широкая кисть руки Власа, – она помахала мне и сейчас же затерялась вместе с черными глазами и шляпой канотье.
Я купил в киоске «Русские ведомости» и прошел на перрон.
IV
Раздался второй звонок, на перроне стало тише, провожающие уже не суетились, как в минуты посадки, остановились и зорко посматривали в окна вагонов. После третьего звонка вагон вздрогнул, дернулся, лязгнул буферами и зажурчал колесами по рельсам, и платформа с пестро одетыми людьми и вокзальными зданиями стала медленно, затем все быстрее и быстрее отплывать. Но вот она и совсем отстала и пропала в вечереющем иссиня-красноватом сумраке. «И день прошел», – подумал я и отвел взгляд от окна, привалился спиной к стене и стал разглядывать соседей по купе.
На одной лавочке, рядом со мною, сидел старичок с острой бородой; он медленно жевал баранку, и я слышал, как она хрустела у него на зубах. Напротив, на другой лавочке, сидели двое мужчин. Один высокий, с темной аккуратной бородкой, с большими серыми глазами. Этот человек показался мне знакомым. Он, заметив, что я смотрю на него, улыбнулся в бородку, сказал:
– Не узнаете, господин Жмуркин? А мы встречались, хотя не так часто. И каждый раз яростно спорили.
– Здравствуйте, Вячеслав Гаврилович, – кивнув головой, поприветствовал я Малаховского.
Другой человек, сидевший рядом с ним, был толстенький, в ластиковом картузе, в черном пиджаке, с короткими густыми светлыми усами. Он часто зевал и, зевая, крестил красные пухлые губы и что-то бормотал. Потом он, откинув голову назад, закрыл глаза и, задремывая, тоненько, как сверчок, засвиристел. Я не поддержал разговора с Малаховским только потому, что он начал читать газету, закрыв ею свое лицо. Я взял из грудного кармана письма, полученные мною перед отъездом. Надорвав конверт, вынул четвертушку бумаги, исписанную довольно крупным почерком.
«Пишу это именно Вам потому, что около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее. А. Чехов» («Письма»).
Прочитав эпиграф, я удивленно повел плечом и подумал: «Да мне ли сие послание? Уж не схватил ли я второпях и по ошибке письмо, присланное Власу?» Нет, на конверте мое имя, отчество и фамилия.
«Здравствуйте, мой друг! Мне именно хочется начать письмо словами Чехова, это так созвучно с нашими взаимоотношениями и с моим одиночеством. Милый друг! Я хочу Вас называть так потому, что Вы ведь в самом деле мой единственный друг в этом аду, именуемом миром, и Вам и только Вам смогу открыть и свободно сказать о моей печали, как мне хочется припасть к Вашему плечу, к плечу нежного и чуткого друга!»
Что за чушь? Кто так развязно пишет? Да у меня нет никакого такого друга! Я хотел, не дочитавши до конца, разорвать письмо и выбросить за окно, но все же любопытство взяло верх.
«Может быть, Вы не скажете мне ничего, а только с нежной грустной любовью проведете своей рукой по моим волосам. Вы любите густые шелковисто-длинные волосы, волосы женщины?»
Я снова прервал чтение. Я понял, что это откровенно интимное послание, адресованное мне, принадлежит ненормальной женщине, которую я никогда не видел, никогда не прикасался к ее «шелковисто-длинным волосам». Я разорвал письмо и бросил в окно. Ветер подхватил клочки, похожие на белых бабочек, и закрутил их по откосу, красноватому от бликов заката. «А конверт?» Я прочел адрес отправителя и обомлел от удивления: письмо было от Татьяны Романовны, с которой я случайно познакомился на выставке молодых художников. Мы встретились случайно у полотен Архипова, коротко и вяло поговорили о его живописи, познакомились и расстались. Вот и все. Какой же я ей друг? Что она, с ума спятила? Разве у нормальной женщины появится такое желание – припасть к плечу совершенно незнакомого ей мужчины, спросить у него: нравятся ли ему шелковисто-длинные женские волосы? Остальные письма я прочел бегло. Одно было из деревни, от сестры: она просила немножко денег, сообщала, что муж ее на фронте и давно-давно не пишет. Второе – от Кузнецова, работающего слесарем в Н. депо. Он сообщил, что студент Шивелев и его сестра не приняли его, даже не пустили в квартиру, хотя он и сослался на мою фамилию.
«Шивелев, дойдя со мною до калитки ворот и держа дверь за скобку, – писал Кузнецов, – заявил, что он и его сестра уже полгода, почти с самого начала войны, решили жить разумно, как живут все благонамеренно-порядочные люди. Шивелев твердо попросил меня не беспокоить его. Сейчас Шивелев – брат милосердия в лазарете. Устроился он, как думаю я, на такую благородную работенку только потому, чтобы его не взяли на фронт».
Я задумался. Вагон постукивал колесами: летел и летел. Малаховский читал газету, изредка позевывая. Толстенький, полуоткрыв рот, спал и посвистывал носом. Седенький, легкий старичок, поев баранок, неслышно лежал на средней полке. За окном, над полями и селами, висела прозрачная синеватая ночь; божественная ночь! На горизонте, не отставая от окна, розовели и серебрились звезды, – они как бы павлиньим хвостом помахивали поезду, и это было красиво. В открытое окно, колыхая отдернутую занавеску, врывался ласково-прохладный степной ветерок. Он доносил запахи сурепки, молочая и еще каких-то полевых цветов. Донесся скрип коростеля: «Надо мазать колеса, надо мазать колеса» – и тут же замер. В конце вагона плакал болезненно ребенок, и мать, мучаясь с ним, озабоченно и устало-сонным голосом баюкала: «Баю-бай! Испеку я каравай! Баю-бай!» Под потолком в фонарях, воняя салом, светили желудевыми огоньками свечи.
– В вашем городке, как только вы уехали, Ананий Андреевич, произошли большие события, – свертывая «Русское слово», подал голос Малаховский.
– Приезжал архиерей, потом губернатор, – подхватил я. – От приезда их ничего не изменилось в городке: он не сдвинулся с места, крепко стоит все на тех нее холмах. Красивая Меча тоже не изменила своего течения.
– Вы уже, Ананий Андреевич, знаете о приезде таких важных особ? И от кого, позвольте спросить? А я собрался было вас повеселить.
– Вячеслав Гаврилович, когда эти особы приезжали в городок, я проживал в нем и был свидетелем ликования «отцов города». Даже, признаюсь, участвовал в пышной и торжественной встрече.
Малаховский дернул левым плечом, удивленно гмыкнул, обернулся лицом к перегородке, проговорил скучновато:
– Не удалось вас, Ананий Андреевич, повеселить. А жаль? Что ж, будем спать. Спокойной ночи. – И Вячеслав Гаврилович тут же захрапел, прикрыв газетой лицо от мух.
Воспоминания длинной чередой нахлынули на меня, и я так и не уснул до рассвета.
V
…Я не пошел на вокзал встречать владыку. Его встречала вся знать городка, нарядная и торжественно-счастливая. Большие и малые колокола церквей и собора, когда следовал владыка в закрытой лаковой карете, которую везли четыре орловских рысака, по Знаменской улице к особняку Чаева, заливали звоном и гулом не только городок, но и пригородные села и деревни, откуда толпами валил народ повидать владыку.
Вместе со студентом Федей Раевским мы с трудом протискались в собор и, расталкивая осторожно людей, достигли первых ступенек лестницы, ведущей на хоры. Я остановился, а Раевский, не задерживаясь, прошел на клирос, к певчим: у него приятный голос, и он в торжественные праздники принимал участие в соборном хоре. Старенький, но еще бодрый и ядовитый, в стоящей колом серебряно-малиновой ризе, протоиерей Серафим служил обедню. Как только он показался из алтаря, взмахнул крестом, певчие грянули: «Исполаете деспота». Иконостас сверкал, переливался золотом, сиял суровыми лицами угодников, огнями лампад и свечей, тонких и толстых. Пахло ладаном, сладковатым воском, приторно и жарко – туалетным мылом и потом. То здесь, то там вздыхали миряне, тронутые за́ сердце пышным богослужением. Тульский и белёвский архиерей Иннокентий сидел в кресле посреди собора. От богатого облачения архиерея, его холеной гнедой бороды, от полных розовых щек, от осыпанной жемчугом митры разливалось сияние. Справа и слева владыки стояли в светлых парчовых стихарях, с кирпичного цвета волосами, с девичьими краснощекими лицами иподьяконы. Молящиеся – исправник Бусалыго, городской голова Чаев, купцы первой и второй гильдии, учителя гимназии, духовного и реального училищ, чиновники казначейства, землеустроительной комиссии, члены уездной земской управы с ярко разодетыми и сытыми женами и чадами, малыми и взрослыми, двинулись к кресту, а от креста к его преосвященству под благословение. Первым подошел Бусалыго и поцеловал руку епископа. Вытирая платком пунцовую лысину на куполообразной голове, он поспешно отступил к сторонке, вытянулся, приняв важный вид градоправителя. Позади Бусалыго почтительно вытянулся сухопарый, с рябым и густо набеленным лицом, с жесткими красными усами околоточный Резвый. Затем к владыке подошел в черном сюртуке, с черной бородкой и черными, блестящими от помады волосами Чаев. За ним, шумя шелками, подплыла Екатерина Ивановна. Притерся к ним и Жохов, секретарь уездной земской управы, костлявый, с выступавшим кадыком на тонкой шее. Он с постным выражением на толстом лице принял благословение епископа и приложился к его руке. «Откуда его черт вынес вперед меня?» – прошелестел шепоток торговца железными и скобяными товарами Иванова. Его шепот донесся до моего слуха – в соборе стояла тишина. «Вот мерзавец-то, дворянчик прогорелый!» – выразился Иванов громче и злее. Чтобы не задерживать напиравших мирян, он, сопя и отдуваясь, грузно шагнул и, приложившись к кресту, повернул к его преосвященству и тут же остановился в обалделом изумлении: ему преградила путь молодая нарядная женщина. Она не подошла к кресту, как все верующие, а вышла из толпы и направилась к владыке, опередив Иванова.
– Ну разве не нахалка! – рявкнул он, и его толстая шея стала багровой.
Женщина остановилась перед Иннокентием, сидевшим с опущенными, но все видевшими лаковыми глазами, выпрямилась, размахнулась и ударила его по щеке. Пощечина звонко раздалась по собору и, казалось, оглушила иподьяконов. С головы Иннокентия свалилась митра и, как горшок, покатилась по каменным плитам. На розовой щеке преосвященного зардело пятно. Гнедая борода дернулась в сторону. Исправник Бусалыго, купечество и миряне оцепенели от поступка женщины и не знали, как поступить с нею. Пение на клиросе оборвалось. Было слышно только потрескивание сотен свечей перед иконами. Протоиерей Серафим вытянул из ворота ризы косматую сивую голову и, держа крест перед собой, стоял пораженно, с округлившимися от ужаса глазами. Иванов поднял в благоговейном страхе митру с пола и, трудно дыша, вертел ее в руках, не зная, как поступить с нею. Иподьяконы опомнились, один из них бросился к Иванову, вырвал у него из рук митру и протянул Иннокентию. Владыка перекрестил митру, принял от иподьякона, поцеловал образок на ней и надел на голову.
Первым пришел в себя от ужаса Бусалыго. Звякнул шпорами и, налившись злой кровью, – он громко шагнул к молодой женщине.
– Взять! – рявкнул градоправитель.
Женщина полуобернулась, презрительно глянула синими глазами на Бусалыго.
– Вы меня не узнаете, Степан Опанасыч? – Она говорила громко, и голос ее звучал под сводами собора. – Неприлично не узнавать женщину, с которой вы… которой вы, Степан Опанасыч, восхищались.
Бусалыго узнал: он часто бывал у нее, ездил с нею на ярмарку (об этом знали многие в городке), к цыганам. Бусалыго прорычал какое-то ругательство и сказал, наклонившись к Резвому:
– Стерва! Она и меня может осрамить в божьем храме. Неужели и его преосвященство грешен перед нею? Ах, святоша!
Проговорив это, Бусалыго оторопел: страх сковал его язык. Он задохнулся и, отступая от женщины, растерянно пробормотал не то, что хотел:
– Что вы сделали, сударыня? За что вы ударили его преосвященство?
В соборе стало еще жарче. Певчие с клироса скосили глаза в сторону владыки и молодой женщины. Женщина вызывающе рассмеялась и, показывая пальцем на архиерея, громко ответила, на весь собор:
– А вы лучше, Степан Опанасыч, спросите вот у него… у его преосвященства. Пожалуйста, спросите! Он скажет… Пожалуйста, спросите!
Епископ Иннокентий смотрел в пол, но видел насквозь Бусалыго, и глаза его как бы говорили: «Тупоголовый идиот!»
Если бы исправник был умен, он мог бы схватить женщину, зажать ей рот, немедленно вывести из собора, и тогда не было бы никакого скандала, и его, архиерея, популярность стала бы еще больше: все бы говорили, что он пострадал от женщины, в которую вселился сатана. Как бы Бусалыго не арестовал ее… Эта женщина не постесняется на суде, развяжет свой язык… Ее показания подхватят газеты. А теперь что он ответит? Не может же преосвященный сказать, что когда-то, еще молодой, невинной девушкой, она была обманом завлечена в архиерейские покои. Там он напоил ее пьяной и… Потом она покатилась вниз…
Преосвященный Иннокентий вздохнул, его лицо приняло еще более елейное выражение. Он возвел желтые, подернутые маслом глаза к куполу, на котором были нарисованы Саваоф, ангелы с трубами, облака и звезды, как бы вымаливая у всевышнего прощение для грешницы, сказал кротким, всепрощающим голосом:
– Отпустите ее с миром. Она не ведает, что содеяла ее рука. Я прощаю ее, и бог простит ее. – Не опуская глаз, чтобы не встретиться с насмешливым взглядом женщины, не видеть ее прелестей, которые когда-то туманили ему голову, архиерей Иннокентий сказал словами евангелия: – Иди, чадо, и больше не греши!
Женщина нервно засмеялась, повернулась спиной к преосвященному и покачивающейся походкой направилась к выходу.
Миряне, все еще ошеломленные, расступись, давали ей дорогу. Протоиерей Серафим глянул на лицо Иннокентия, вновь ставшее аскетическим, взмахнул крестом. Певчие грянули:
«Исполаете деспота!»
VI
…Картины прошлого вспоминались одна за другой. В них не было последовательности и прямой связи. Но все они напоминали об одном и том же – об однообразной, размеренной жизни Н-ска, лишь изредка нарушавшейся какими-нибудь исключительными событиями.
Теплый майский день. Погруженный в свои думы, я иду по узенькому дощатому тротуару. Дорогу мне загородила высокая худощавая фигура. Это был старик Тимоничев.
– Ананий Андреевич, – со смешком обратился он, – куда вы спешите, – все равно ничего не изменится в нашем городке, все останется по-прежнему.
– И по-прежнему здешние купцы будут бояться и ненавидеть вас, – в тон ему продолжил я.
– Точно, – мрачно улыбнулся Тимоничев, настораживаясь. – Как завидят меня на улице, так сразу прячутся в магазины или в конторки и отсиживаются в них до тех пор, пока я не скроюсь.
– Как же им не прятаться, когда вы при встрече с ними копируете их, смеетесь над ними. Вот они и прячутся от вас. Ну зачем вы недавно, накануне приезда губернатора, обидели супругу и дочь купца первой гильдии Алексеева?
– Чем же это я их, позвольте спросить, обидел? – удивился лукаво Тимоничев и возразил: – Не думал обижать! Я только поприветствовал их. Сказал им, какие они красавицы, белоснежные… и почтительно, как подобает мне, плебею, поклонился им.
– И они закричали: «Караул! Городовой!»
– Они закричали, видно, потому, что я поклонился им нижней частью, а не головой. Голова моя не сгибается перед «отцами города» и их женами, – нахмурившись, отрезал старик.
– Вот они и возмутились, что вы сравнили свою нижнюю часть тела с их белоснежными лицами.
– Не мог же я свою квадратную, землисто-зеленую, в морщинах, похожую на кору старой березы, рожу сравнить с белоснежными личиками купчих. Вот и поклонился той частью тела, которая, несмотря на свою старость, все еще была не так морщиниста. Не понимаю, на что они так обиделись, почему всполошились, закричали на всю улицу «караул» и стали звать городового?






