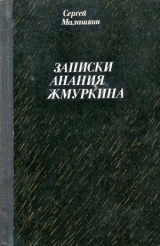
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Знаю, Мария, когда вы писали это последнее письмо, и вы, несомненно, вспоминали Сокольники и Воробьевы горы и решили, что со мной вы больше не увидите их – не поедете туда. И это, Мария, правда, и я не виню ни вас, ни Сокольники, ни Воробьевы горы. И это, Мария, правда, – вместе больше не поедем туда. И я не виню вас… Да разве вы виноваты в том, что случилось со мной? Мария, может, я виноват? Нисколько. Кто же в нашем несчастье виноват, черт возьми? Родина? Нет, нет! Я люблю ее. Нет ничего прекраснее родины. На ее поля, леса, реки и небо мои глаза никогда не устанут смотреть. Она мила мне и в моем отчаянии, как мила мне была и в моей буйной молодости, освещенной счастьем – тобой, Мария. Она мне дорога и в те минуты, когда в моей душе спокойно – нет ни радости, ни горя. Возможно, виновата в нашем несчастье война. У нас в лазарете есть сестра Стешенко – она теософка и идет к богу по какой-то особой дорожке, – заявила недавно нам, что всех инвалидов надо не посылать в тыл на лечение, а уничтожать на фронте, – инвалиды, подобные мне, приносят одно бедствие обществу и вред государству. «Немцы, – заявила она, – и другие цивилизованные народы своих инвалидов сжигают на полях сражения… сваливают в сараи или в дома и сжигают». Я не понимаю, что такое теософия. Может быть, в учении теософии и нет ничего насчет уничтожения инвалидов войны, а это говорит от себя сестра Стешенко, – все это, как я думаю, не меняет положения. Разумеется, Стешенко нрава, и нас, инвалидов, нужно оставлять на фронте, в братских могилах. Мария, вы, конечно, далеки от откровенных и благородных мыслей сестры Стешенко. Не благородны вы только потому, что не учились, как Стешенко, в Смольном институте. Вы, Мария, не предлагаете уничтожать инвалидов, а просто отказались от инвалида. Или вот еще другой пример. Как-то нас, раненых, водили сестры в Скобелевский комитет, который выдает раненым временное пособие. На обратном пути в лазарет мы, безногие, остановились передохнуть на тротуаре у одного дома. Я так устал, что едва держался на единственной ноге, пот градом катился с лица. Чтобы не упасть, я привалился спиной к железной решетке ворот и свесил голову: мне так было тяжело нести тело, что я готов был, если бы это было можно, душой вырваться из него и оставить свое тело у ворот… Остальные раненые стояли вдоль дома, привалившись спинами к стене и опершись на костыли. Что они переживали, я не знаю, но думаю, то же самое, что и я, – о них, конечно, я сужу по собственным переживаниям. Народ шел беспрерывно. Он не обращал никакого внимания на нас. Некоторые люди отворачивались – это больше молодые, – старались не замечать калек, словно эти калеки были враги им, словно эти калеки дали им взаймы свои жизни и вот они сейчас набросятся на них, прогуливающихся по улицам столицы, и, угрожая костылями, потребуют от них обратно долг – свои жизни. Народ валил мимо, а мы стояли, невеселые, мрачные, чужие городу, чужие толпам, чужие государству, – Мария, мы нужны были только тогда, когда были здоровы. Мои глаза встретились с глазами двух мужчин, еще не старых, годных для войны, – они приблизились в мою сторону. Помню их хорошо, до самой смерти не забуду их лиц. Мария, не забуду их, как не забуду и вашего письма, как слова сестры Стешенко, сказанные ею в перевязочной врачу. Я вижу шапки этих мужчин, воротники меховые, розовые щеки от мороза, усы и бородки в легком инее, выпученные, как у петухов во время пенья, круглые металлические глаза. Нет, никогда не забуду их надвигающейся на меня походки, глаз… И вот они, Мария, заметив калек, повели такой разговор: «Эти молодцы портят нам вкус к жизни, – сказал один. – О чем думает правительство? Оно должно избавить общество от обломков войны. Оно должно отвести для них где-нибудь в тундре уголок земли, пусть они там и ползают». Второй ответил: «А вы не обращайте внимания. Живите спокойно, как жили. Меня не волнуют эти отбросы войны. Они для меня те же черви, что копошатся в земле. Уверяю вас, что они не испортят моего вкуса к жизни. Я свою совесть всегда держу в панцире». Они прошли мимо. Их разговор потонул в гуле шагов, в говоре движущейся толпы. Скажу прямо: если вникнуть в содержание вашего, Мария, письма, то и вы выразили то же самое, что и эти два человека об инвалидах войны. Правда, вы свои мысли прикрыли легкой виноватостью перед инвалидом и смущением и жалостью к себе, а они, эти человечки, выразили свои мысли деловито-спокойным тоном, с присущей им наглостью и цинизмом. Но совесть ваша в таком же панцире, как и совесть этих человечков. Испугался ли я того, что происходит с вами и со мной? Можно ли напугать человека, прожившего 740 дней и ночей под пулями и снарядами, участвовавшего в 187 штыковых атаках? Невозможно. Меня даже смерть боялась и теперь боится. Я все время хотел подружиться с нею, а она, чертовка, бежала и бежит от меня, но все же, Мария, я ее поймаю. Но ваше письмо, повторяю, как и разговор двух человечков, страшно… Оно повергло меня в смятение, и я до того растерялся нравственно, что стал слабым и беспомощным. Мне, конечно, трудно набраться сил, но я попробую…»
Семен Федорович перевел дыхание, взглянул на меня:
– Устали, Ананий Андреевич?
– Нет, не успел еще, – отозвался я. А на самом деле у меня дрожали руки, а внутри все ныло.
«Зачем он пишет такое письмо Марии? Да и есть ли у него эта Мария? Может быть, он диктует этот бред мне для тою, чтобы освободиться от накопившегося в его голове хаоса мыслей, которые жгут его мозг и терзают сердце?» – подумал я.
Прокопочкин сидел на койке, глядел в окно. Его голова была втянута в плечи, руки сложены на груди. В ногах лежал протез. Другие раненые, закрыв лица одеялами и простынями, лежали неподвижно. Спали ли они? Прокопочкин уже теперь не был для меня таким простачком, каким он показался мне в первые дни моего знакомства с ним. Я видел в нем не просто сказочника, а человека умного, видавшего много в жизни. Он, видно, в прошлом, до войны, такой же, как и я, бродяга: немало исколесил дорог на земле.
Восковой нос Семена Федоровича качнулся в мою сторону. Я вздрогнул и невольно остановил взгляд на нем.
– Ананий Андреевич, а ты все записываешь, что я говорю? – спросил Семен Федорович.
– Да, – ответил я. – Ты грамотный и можешь проверить. Пока не пропустил ни одного слова.
Синюков откинул с лица одеяло и, открыв правый глаз, сказал:
– Это не письмо, а шкура ежа. Она хотя и будто не для меня назначена, но я чувствую в сердце его иглы.
Семен Федорович не ответил. Промолчал и я. Правый глаз Синюкова синел из-под края одеяла.
– И Марии у него нет никакой, – отрезал он твердо, с ужасом в голосе и закрыл одеялом глаз.
«Неужели и Синюков заплакал? – в смятении подумал я. – Вон и Первухин открыл лицо, взял платок и сморкается». В это время сбросил с себя одеяло Игнат Лухманов и резко сел. Голова у него забинтована, под глазами сизые мешки, щеки пухлы и желты.
– А я сочинил новые стихи, – сообщил он хриплым, испуганным голосом. На его сизых толстых губах просияла дикая улыбка. – Вечером я вам прочту их.
– Лухманов, закройся одеялом, – предложил сурово Семен Федорович. – Не мешай мне говорить, а Ананию Андреевичу записывать.
Игнат послушно лег и закрылся одеялом. Первухин перестал сморкаться, отвернулся к стене, вздрагивая мелко правым плечом.
– «Мария, я уже сказал выше, что я не герой. И не подумайте, что я трус. И не трус и не герой, а человек без крайностей, – стал продолжать Семен Федорович. – В лазарете жизнь не движется вперед, лежит вместе со мной в постели, в белых простынях. На фронте целых два года она была в движении, в дыме и пламени. Но я не помнил ни ночей, ни дней – все числа спутались в моем сознании. Да что об этом писать! Первого октября наш полк пошел в наступление, – говорят, наступала вся армия, – на своем участке он прорвал три линии проволочных заграждений противника, выбивал гранатами и штыками его из окопов. Успех сражения клонился в нашу сторону. Я был жив и невредим, то есть не имел на теле ни одной царапины, – смерть игнорировала меня. Меня облетали пули и осколки снарядов, а штыковые удары, направленные немцами мне в грудь, я легко, как бы играючи, отбивал и шагал по свежим трупам противника вперед и вперед. Видно, полк наш увлекся, и противник ударил нам во фланг, на третий батальон, захватил знамя, и оно уже развевалось в руках его. Взводный обратился к нам. «Братцы, – крикнул взволнованно он, – третий батальон погиб, потерял полковое знамя в бою, мы должны вернуть его своему полку; рота, вперед, за мной!» Рота – ротный был убит в начале атаки – поднялась и побежала в штыковой бой. Я ничего не помню: видел только трепет знамени на древке. Я прокладывал штыком и гранатами дорогу к нему и добрался до него; знамя полыхнуло мне в глаза пламенем, и через несколько секунд оно было в моих руках, обагренное кровью русских и немецких солдат. Взводный в этом бою был убит, и он лежал в нескольких шагах от меня, на груде убитых немцев, защищавших чужое знамя. Я держал знамя над собой. Оно было тяжело и легко: кровь делала его тяжелым, а победа легким. Цепи наших солдат рвались вперед, за немцами. Противник бежал. Винтовочные редкие выстрелы трещали впереди. Оттуда же доносились и крики «ура». Орудия молчали. В туманном небе желтело солнце. Я подошел к взводному и прикрыл его знаменем. Сердце мое разрывалось на части, когда я держал над ним полковое знамя. От взводного я впервые услышал о человеке с фамилией Ленин и запомнил эту фамилию, так как она была взводным произнесена с великой нежностью.
Началась орудийная стрельба. Земля, и дым, и огонь, осколки железа заслонили небо и поле. Я побежал со знаменем в этот движущийся ужас. Мария, сколько времени я бежал – не помню. Но хорошо помню, как мелькали в моих глазах солдаты, вспыхивали огненные шары, выли осколки и шумели, как потоки воды, комья земли, поднимаясь вверх, падали обратно. «Вперед! Вперед!» – подбадривал я себя и бежал и бежал. Из мрака дыма, огня и металла желтело солнце, то уходя от меня, то надвигаясь на меня. Вот оно у ног моих – аааххх! и в глазах – мрак, вокруг тишина, а в лицо запах полыни, родной русской полыни. И мне легко-легко. Слышу, что-то свистит из меня, а мое тело начинает уменьшаться, съеживаться… Мария, дальше ничего не помню. Опомнился я далеко от фронта, на дворе. Я увидел облака, серые и неприветливые. Они кружились над двором. В просветы их блистало далекое, неласковое небо, – оно пахло в этот день родной полынью. Откуда этот запах? Может быть, он проник в меня в первый день моего рождения с молоком матери, в мою кровь? Может быть, в тот день, в который она решила подкинуть меня под двери детского приюта, и ветер пропитал мои легкие не молоком, а полынью? По почему я этот запах не чувствовал до войны, до ранения? Мысли мои оборвали военные люди, которые шли вдоль ряда раненых и негромко разговаривали, Как бы боялись потревожить словами раненых. Они приблизились ко мне, остановились. «Ваше императорское величество, этот солдат… вот и полковое знамя у него на груди…» Кто-то поднял знамя, и его край коснулся моего виска. Курносое лицо с серыми глазами, рыжеватыми усами и бородой склонилось к моему лбу. Я уловил легкий запах водки и мятных лепешек; этот военный робко прикоснулся губами к моему лбу, и положил крест мне на грудь, и отошел. Я поднял руку, поймал край знамени и поднес его к губам… Мария, георгиевские кресты – два серебряных и два золотых – посылаю вам на память. Хотите, храните их, хотите, если не пожелаете хранить, продайте или бросьте в мусорную яму».
– Семен Федорович, я ни разу не видел на твоей груди крестов! – воскликнул в чрезвычайном удивлении и почтении Первухин. – Почему же ты не надеваешь их?
– Кресты легко носить, Первухин, те, какие легко достаются, – улыбнулся жестко Семен Федорович и достал из-под подушки сверток и бросил его мне. – Возьми, Ананий Андреевич, и пошли их вместе с письмом. Конверты лежат в бумаге, в одной пачке. На них уже имеется адрес Марии…
Семен Федорович замолчал, уставился взглядом опять в потолок.
Няни принесли чай.
Я не прикоснулся к стакану. В этот день я в первый раз пошел с Прокопочкиным, Игнатом и Первухиным в клуб. Там играла Елена Карловна, врач второго этажа, на пианино и пела вместе с солдатами песни: пели про Стеньку Разина и княжну, пели «Коробушку», «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»…» и многие другие. Клуб был крошечный и светлый, и в нем столики, диваны и кресла. На столиках живые белые и малиновые цветы. В клубе мне понравилось, и я пробыл бы до ужина в нем, – уж больно мне было тяжело после письма Семена Федоровича, оно как бы придавило меня. Пришли в клуб и Синюков и монашек Гавриил; и они были не в себе – раздавлены письмом Семена Федоровича так, что их лица нервно дергались. В нашей палате остались автор письма и Алексей Иванович. Но до ужина никто из нас не досидел в клубе: взволнованно вбежала сестра Смирнова, позвала Елену Карловну. Хор прекратил пение. Смирнова что-то шепнула врачу. Елена Карловна побледнела и, охнув, бросилась к двери. Сестра – за нею. Взволнованность и бледность лица сестры, испуг врача подействовали и на нас, хотя никто из нас не последовал за ними из клуба. В это время вошел в клуб Шкляр и громко сказал, обращаясь к Прокопочкину:
– Вы все здесь, а в нашей палате большое несчастье.
– Какое?! – воскликнули мы хором. – Алексей Иванович умер?
– Нет, – ответил глухо, с раздражением Шкляр и бросил на меня свирепый взгляд. – Семен Федорович повесился в уборной… Его сейчас будут вынимать из петли.
Мы так и остались стоять с выпученными, полными ужаса глазами.
XII
О самоубийстве Семена Федоровича раненые говорили все реже и реже: у каждого было немало своих забот. Сестры старались совсем не говорить о нем, так как, судя по их растерянным лицам, не понравился им «поступок» его. «Он был сыт, одет и в тепле. Ухаживали за ним, как за малым ребенком, – заявила однажды ярко-красивая, с огненно-карими, чуть навыкате глазами сестра Преображенская. – Он мог повеситься и потом, когда выписался бы из лазарета его величества короля бельгийского». Ее черные брови сердито сомкнулись на лбу. Главный доктор узнал от какого-то раненого о письме, которое я написал под диктовку Семена Федоровича, приказал сестре Иваковской взять его у меня. Нина Порфирьевна пришла за письмом ко мне. Я ответил сестре, что действительно под диктовку Семена Федоровича написал письмо и в тот же день, перед вечером, после того как автор покончил с собой, немедленно уничтожил его. Раненые, за исключением монашка, подтвердили мой ответ. Иваковская, пристально поглядев на меня, возразила:
– Я не верю вам, Жмуркин… и все же придется поверить…
О крестах покойного Иваковская не спросила. Письмо и кресты я послал по адресу, оставленному Семеном Федоровичем. Через две недели от Марии я получил извещение: «Георгиевские кресты получила. Благодарю». Под этими строчками стояла подпись: «Мария». Письмо этой женщины убедило меня, Синюкова и других, сомневающихся в реальности Марии, в том, что Семен Федорович продиктовал письмо подлинной Марии, а не просто мифическому существу. Неужели есть такие женщины, как Мария? Такая оказалась. И это ужасно. Я вспомнил жену, сына Евстигнея, вспомнил, как они хотели, чтобы его взяли на войну. Их желание, конечно, не исходило из патриотического чувства, из любви к родине, из ненависти к врагу, напавшему на их родную землю, а из жадности к «ежемесячным пособиям». Ну чем жена Евстигнея лучше Марии? В письмах жены говорилось больше о хозяйстве, о деньгах, о лошадях и корове, чем о нем. Вполне могла бы посылать такие письма не только своему мужу, а и любому солдату, даже телеграфному столбу. На письма жены он не отвечал, да и она никогда не просила его, чтобы он отвечал на них.
Однажды Прокопочкин, поскрипывая протезом, незаметно подошел ко мне, сел на койку. На нем черный пиджак, брюки навыпуск, – Скобелевский комитет выдал ему суконную тройку и пальто с барашковым воротником, – рубашка в синюю полоску и цвета спелых вишен галстук. Одна половина его лица, верхняя, плакала, другая, нижняя, наивно улыбалась. Я вздрогнул, с удивлением стал разглядывать его.
– Ловко я вырядился? Как находишь?
– Отлично, – похвалил я. – Не домой ли собрался?
– Нет. Какой там! – ответил Прокопочкин. – Теперь мне везде дом. Ты что это, Жмуркин, зажмурился? – Он положил руку на мое плечо, протянул певуче: – Эх, философ! Сколько ни думай, лежа на койке, а течение жизни не изменишь. Так-то вот, Ананий Андреевич. Я решил купить гармонию. Понимаешь, баян. Люблю этот инструмент. Когда-то недурно играл на нем. Малые и старые, бывало, под мою игру плакали, смеялись и, позабыв горюшко, пускались в пляс. Пойдем вместе в магазин? Сестра Смирнова согласилась проводить. Доктор разрешил.
Я не отказался.
Спустя полчаса мы, в сопровождении сестры, отправились в музыкальный магазин. В роскошном магазине, в котором было много интеллигентных покупателей, больше девушек и женщин, Прокопочкин выбрал баян и заплатил за него сто двадцать рублей. Возвращались в приподнятом настроении в лазарет. Я и Прокопочкин несли его попеременно. Помогала нести и сестра Смирнова. Улица, свежий морозный воздух, новенький баян прекрасно подействовали на меня, можно сказать, отвлекли от тяжелых мыслей, угнетавших меня. Вечером, после ужина и чая, состоялся литературно-музыкальный концерт: Игнат Лухманов прочел новое стихотворение, а Прокопочкин сыграл на баяне и спел несколько народных песен. На этом вечере присутствовали раненые из соседних палат и сестры Смирнова, Пшибышевская и Нина Порфирьевна. Потом, к началу концерта, пришли студенты Опут и Гольдберг – они работали добровольцами санитарами при нашем лазарете. Их пригласила Нина Порфирьевна, сказала им, что в ее палате лежит на излечении поэт. Опут, будучи сам поэтом, заинтересовался стихами солдата и пришел познакомиться с ним, послушать его стихи. Гольдберг – будущий инженер. Его отец имел завод красок в Царстве Польском. Гольдберг держал себя просто с солдатами, любил поговорить с ними. Опут был молчалив, напыщен и скользил по палате, как надутый, покрытый розовым лаком шар. Казалось, что вот-вот лопнет от чрезмерной важности. Его черные глаза неподвижны, выпуклы; полные губы красны и имели форму присоска. Нина Порфирьевна познакомила студентов-санитаров с Игнатом Лухмановым. Поздоровавшись, Опут и Гольдберг сели на стулья между койкой Игната и Синюкова. Игнат, сидя на койке, смотрел возбужденно на гостей и ждал, что они скажут ему. Монашек, Первухин, Синюков, Алексей Иванович лежали под одеялами. Прокопочкин сидел на койке и, прикрыв ладонью глаза, слушал. Баян лежал на широком подоконнике. Смирнова, Пшибышевская поместились между койками монашка и Шкляра, Нина Порфирьевна – у моего столика, боком ко мне. В палате тишина. Сизые сумерки вливались в окна. Лучи заката искрились в них, как красное вино в воде. На Большом проспекте изредка поблескивали зелеными молниями трамвайные провода. На Пшибышевской серенькое платье, как в первый день нашего знакомства с нею, старенькие желтые туфли и синие мешки под грустными глазами. Ее сухое лицо еще больше осунулось и было землистого цвета.
– Почему вы бежали в Россию, а не в Австрию? – спросила тихо у нее Смирнова. – Вы же австрийская подданная? Вы не предполагали, что вам будет так тяжело жить в Петрограде?
Сестры стали говорить еще тише. Кажется, что они начали разговор на эту тему в дежурной, а быть может, в другой палате. Мария Пшибышевская подняла на нее серые, с голубым блеском глаза, виновато улыбнулась.
– Кровь моя потянула в Россию… В России – славяне. И я славянка, вот и не могла бежать в глубь Австрии. – Пшибышевская склонила голову и стала разглаживать ладонью беленький фартук на коленях.
– Игнат Денисович, мы хотим послушать ваши стихи, – садясь на стул, сказала Нина Порфирьевна, – Да вот и поэт Опут…
– Прочтите, – подхватил Опут и выпятил алые губы.
– И мне, – поддержал Опута Гольдберг. – Мне так много говорила о ваших стихах Нина Порфирьевна.
– Раньше, может быть, Прокопочкин сыграет на баяне, – предложила Анна Смирнова, – а потом уже прочтет стихи и Игнат Денисович.
– Нет, – возразила Иваковская, – раньше послушаем стихи Игната Денисовича.
Игнат покраснел, сильно смутился и, поглядывая то на студентов, то на сестер, достал из столика тетрадку в коленкоровом сером переплете, раскрыл ее. Вначале он читал робко, неуверенно, а потом, посмелев, стал читать громко и театрально. Опут внимательно слушал и покачивал слегка головой. Полоска пробора в его черных как смоль волосах светилась. Гольдберг, свесив голову с довольно широкой лысиной, улыбался. На его большом розовом носу извивалась, как червячок, синяя жилка. Тонкие губы дергались в уголках. Лухманов читал свои последние стихи, неизвестные мне. Стихи были довольно звучны и мрачны, а поэтому и фальшивы, – я не люблю мрачных стихов, песен, романов и рассказов. Воина в натуре, как мы ее видели и видим, всегда страшнее, чем она изображается в стихах, в рассказах и романах.
Фронта в стихах Игната я не чувствовал, по почувствовал в них и тех чувств и красок зловещих, какие волновали и пугали меня и товарищей, когда я и товарищи по полку лежали под «бертами», пулеметным огнем. Но Опуту, Гольдбергу и сестрам поправились стихи Игната Денисовича. Нина Порфирьевна, конечно, была больше всех взволнована стихами; она даже, слушая внимательно, разрумянилась от их горячей звучности, а ее лучистые карие глаза подернулись влагой и лихорадочно блестели. Подогретый похвалами слушателей Лухманов прочел свое любимое, как он говорил мне и другим, произведение, известное мне еще на фронте. Он не один раз читал его солдатам в блиндаже при мне, и я запомнил его. Вот оно:
Нудно давит вечер пестрый,
Маетою тонкой давит.
Сердце болью бредит острой, —
Не тоска ли сердцем правит?
И летит оно безумно
Птицей, потерявшей зренье,
Над пучиной хляби шумной
В бесконечное движенье,
И парит оно в пространстве,
В свете солнца ледяного,
В самозванстве, в самозванстве
Кляксой хаоса седого.
Не сдавить его стремленье
В стенках тела молодого.
Будь ты проклято, движенье,
Сила солнца ледяного.
Нудно давит вечер пестрый,
Маетою тонкой давит.
Сердце болью бредит острой, —
Кто же сердце ядом травит?
Я увидел, как это стихотворение произвело сильное впечатление на Опута, Гольдберга и сестер. Они выпрямились, раскраснелись и, не сводя глаз с автора, замерли. Игнат Денисович кончил, а они, казалось, все еще слушали его чтение. Сестры и студенты молчали несколько минут, думая о прочитанных стихах. Первым очнулся Опут и попросил Игната еще раз прочесть последнее стихотворение. Его просьбу дружно, даже с каким-то болезненным азартом поддержали сестры и Гольдберг. Раненые молчали. Лухманов, бросив взгляд на меня, исполнил просьбу Опута и сестер. Слушая стихи, Опут опять задумался, слегка качая головой и притопывая ногой. Игнат Денисович ждал суда известного уже поэта.
– Прекрасно, чудесно. Вы настоящий поэт, оригинальный и смелый! – воскликнул горячо Опут.
Гольдберг поддержал Опута:
– Да-да, я согласен с Опутом.
– А вы, Ананий Андреевич, что скажете? – неожиданно обратилась ко мне Иваковская. – Мы хотим услышать вашу критику.
Опут и Гольдберг глянули на меня.
– Жмуркин у нас философ, оригинальный и колючий, – представила Нина Порфирьевна меня студентам-санитарам.
– Философ? – удивился Опут и смерил взглядом мою крошечную фигуру под серым одеялом. – Да, – вздохнув, признался он, – наша матушка-Русь чрезвычайно богата талантами и Каратаевыми. – Он подумал и спросил меня: – Как вам нравятся только что прочитанные стихи?
Анна Смирнова пришла на помощь. Она предложила:
– Критику стихов Игната Денисовича отложим до следующего раза, а сейчас давайте послушаем игру на баяне Прокопочкина.
Раненые охотно поддержали Смирнову. Первухин поднялся с койки и подсел к Прокопочкину. Гавриил лег на спину и, выставив колокол живота, положил раненую руку на него и полузакрыл глаза. Синюков повернулся на другой бок, лицом к баянисту. Алексей Иванович лежал с широко открытыми глазами. Прокопочкин взял баян с подоконника и, надев ремень на плечо, попробовал пальцами клавиши.
– Что же мне сыграть-то? – глядя плачущими глазами в пол, сказал он. – Сейчас вечер, и вам, сестрицы, скоро спать, а нам и подавно… Так разрешите мне сыграть колыбельную. Эту песню я слышал в Тульской губернии, ее пела молодая крестьянка. Она качала ребенка в зыбке, шила рубаху и пела. – Он поднял плачущие глаза и, улыбаясь бледными губами, стал играть на баяне.
Тонкие, грустные звуки разлились по палате, призывая ко сну и баюкая. Не знаю, как другие раненые, сестры и студенты-санитары, а я был захвачен его игрой. Казалось, что я совсем не взрослый, не бородатый мужичок, а грудной ребенок, капризный и обиженный, лежу в плетеной зыбке, под лоскутным одеялом и, задремывая, ворочаюсь и вскрикиваю. На прокопченном потолке, скудно освещенном керосиновой пятилинейной лампой, покачиваются тени веревок зыбки, сонные мухи жужжат, за окнами, в соломенной пелене крыши, трещат воробьи, видно, и им, как и мне, не хочется спать. Я вижу мать за прялкой. Колесо прялки шипит и мелькает, будто течет вода… Из гребня тянется белая кудель. Она очень похожа на бороду деда Филиппа. Отец, такой маленький, как я, сидит в старой шубе и в серых валенках на конике и плетет лапоть. Он лежит у него на коленях, а концы лык и лезвие кочедыка мелькают в его руках. Отец изредка постукивает черенком кочедыка по только что продернутому под лыко лыку, по подошве лаптя. Волосы у него черные, подстриженные в скобку, и лежат они на голове как опрокинутый чугунок; его борода с проседью, сивая. Лошадь на дворе сивая, как отцовская борода. Домовой, хозяин двора, как говорит бабушка, сивый, как и отец. Но мать моя блондинка и на много лет моложе отца. У нее тонкий прямой нос, красивый и строгий, светло-синие глаза, немного грустные и немножко насмешливые. Мне хорошо, я лежу с полуоткрытыми очами и будто сплю. Зыбка плывет и плывет по воздуху, между земляным полом и темным потолком, – это мать, зацепив ногой веревку зыбки, качает меня. От пола пахнет сыростью, мочой ягнят. От потолка пахнет мухами. Пружина приятно поскрипывает, то сжимаясь, то разжимаясь, а зыбка качается и качается, плывет плавно то туда, то сюда. Пружина очень похожа на ужа, которые водятся у плотины мельницы, и я страшно их боюсь. Голос Прокопочкина, чуть хрипловатый, но приятный, оборвал мои воспоминания о моем раннем детстве, возвратил к действительности. Я смущенно оглядываюсь на сестер, на раненых солдат, на студентов-санитаров: на вытянутых их лицах улыбка, глаза расширены и блестят.
Как вечор на речку шла,
Ночевать его звала… —
пел легко, задушевно Прокопочкин. «И мать моя выговаривала не «вечер», а «на вечор на речку шла», – вздохнув, вспомнил я. Баянист играл и пел:
Ходи, Васька, ночевать,
Колыбель мою качать!
Выйду, стану в ворота,
Встрену серого кота.
Я до то́го для дружка
Нацедила молока…
«И мать моя произносила слово «того», как и Прокопочкин, «то́го», – сказал я себе. Баян выговаривал: баянист подлаживался к его звукам:
Ба-ай, ба-ай, баю-бай,
Поскорее засыпай!
Я кота за те слова
Коромыслом оплела, —
Коромыслом по губы:
Не порочь моей избы.
Баян укоризненно, чуть с усталым надрывом:
Молока было не пить,
Чем так подло поступить…
Прокопочкин сурово:
Долго ж эта маета?
Кликну черного кота…
Черный кот-то с печки шаст, —
Он ужо тебе задаст…
Баян сурово выводил:
Баю-баюшки-баю…
Спи, а то за верею…
Прокопочкин кончил играть на баяне и петь, а мы сидели и лежали неподвижно, как зачарованные. Даже монашек, не любивший светских песен, был сильно взволнован колыбельной, ворочался с одного бока на другой и вздыхал: видно, и он перенесся мысленно в свое раннее детство. Опут поднялся, подошел к Прокопочкину и пожал ему руку. Его примеру последовал Гольдберг. Пшибышевская казалась каменной. На ее дымчатых ресницах блестели слезы. Нина Порфирьевна оглянулась на Смирнову и Пшибышевскую, сказала:
– Очень грустно. Плакать хочется. Мне, как я помню, не пели таких колыбельных. Прокопочкин, рассказывайте лучше сказки, – и она поднялась со стула. – А баян вам, Прокопочкин, не нужен… – Она решительно направилась к двери. – От такой колыбельной и я не усну. Завтра же сдайте баян в контору. Когда поедете домой, тогда его вернут вам.
– Слушаю, Нина Порфирьевна, – сказал уныло Прокопочкин и, помолчав, мягко заявил: – Баян не сдам, а сказки рассказывать и так буду.
Нина Порфирьевна рассмеялась, открыла дверь и скрылась за нею.
Я долго не мог заснуть. Но спал и Прокопочкин. Остальные спали. В груди Алексея Ивановича булькало и сипело. В эту ночь я видел во сне много-много лохматых черных собак: они не пускали меня на огород, где росли дыни и арбузы. Я только хочу сделать шаг, а собаки: «Гав!» – так и не допустили. Утром, перед завтраком, я рассказал этот сон Синюкову.
– Собак видеть во сне хорошо, – пояснил он авторитетно. – Собаки – друзья.
– И черные?
– И черные. Всякие.
– И когда сердито лают?
– И когда бросаются на тебя, все равно – друзья.
Я помолчал с минуту, а потом сказал:
– Ишь ты. И черные?
– И черные, – повторил Синюков и, ничего не прибавив, закрыл глаза.
Сон, действительно, был в руку: из деревни, от сестры, пришло письмо. Она прислала обычные трафаретные поклоны от знакомых, а в конце каждого поклона: «…и желает тебе от господа бога здоровья и всякого благополучия». Сестра спросила и в этом письме у меня о том, как мое здоровье, легко или тяжело ранен, скоро ли поправлюсь от ранения. Она сообщала, что от ее мужа все еще нет никаких писем, – вероятно, убит. Спрашивала с тревогой: отпустят по чистой после ранения или же пошлют опять на позиции?
«Пришли мне, братец, справку из лазарета и с печатью, и как можно незамедлительно, а то мне не выдают пособия за тебя. С твоей справкой я сразу получу за три месяца, за которые я за тебя солдатские деньги не получила».
На меня пахнуло холодом от письма, подумал: «И сестра жадничает… Она, бедная, не знает, что за брата не платят». Я вспомнил Семена Федоровича и его письмо к Марии. Я разорвал на клочки письмо и бросил их в плевательницу. После обеда я взял справку в конторе лазарета, вложил ее в конверт и послал сестре. «Пусть она по ней получает солдатское пособие», – сказал я себе, отдавая письмо няне.
– Няня, – попросил я средних лет женщину, – опусти это письмо сейчас же, как спустишься вниз.





