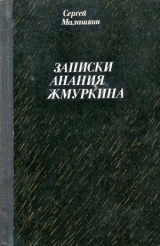
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– На германском – недавно, месяца два с половиной… А вообще-то я работаю на фронте с самого начала войны, но только больше на австрийском…
– А я все время на этом.
– Ты знаешь, что старший доктор послал вестового, чтобы выслали на помощь четырех врачей?
– Да, мне об этом говорили. По-моему, это необходимо. Если не пошлют на помощь – беда: весь лес будет завален ранеными. Ты видишь, как по шоссейной дороге текут раненые? Они текут, как капли из продырявленного океана, и кажется, что этим каплям не будет конца.
– Да, по всем направлениям идут: по лесу, по тропинкам, но больше всего по шоссе. А ты видишь, сколько идет легкораненых?
– Да-а, если бы делать перевязку и легкораненым, то тут бы скопилась не одна армия. А ведь там, в земле, не видно людей – пустыня…
– Да, мертвые Орковы поля…
– По таким полям и Дант не гулял.
– Вы что это стоите? – послышался недалеко от меня третий голос. – Надо подтаскивать.
Я открыл глаза и взглянул: надо мной шумели разноцветной листвой березы, осины, звенели необычайно зелеными иглами сосны, ели; сквозь вершины деревьев и просветы било серо-желтое небо, смотрело на меня единственным глазом, который был не больше сморщенного печеного яблока. От такого неба и солнца мне стало жутко, больно, и я вздрогнул, так как остро почувствовал, что нахожусь не в приятной тишине, а все еще в окопах, вязну в разложившемся человеческом мясе.
– Куда же подтаскивать? У операционных столов больше тысячи.
– Уже?
– Разве?
– А ты думал?.. Теперь, брат, благодаря войне хирургия высоко шагнула. Мне кажется, что в этом лесу мы не людей режем, а кромсаем бревна на дрова и сваливаем.
– Так это мы сейчас…
– Поживей, ребята!
Через полчаса очередь дошла и до меня. Меня положили на носилки и понесли. Когда меня несли, мне было приятно, и от слабости немного кружилась голова. Несли недолго, и меня свалили в общий ворох тяжело стонущих людей. Я поднял голову и попросил одного санитара, чтобы он помог мне сесть. Санитар остановился, посмотрел на меня, но ничего не сказал и направился обратно. Я попробовал было подняться, но сильная боль в левом боку заставила меня стиснуть зубы и повалиться на правый бок.
«Что же это такое? – подумал я. – Боль в боку?»
Недалеко перед моими глазами, в нескольких шагах от меня, за большими, сбитыми из досок столами работали два врача. Они были в белых халатах с высоко засученными рукавами. Они работали быстро, так, что восемь человек еле успевали подавать на столы раненых и убирать из-под ножей. Врачи работали спокойно, изредка перекидываясь словами. Я с жадным любопытством наблюдал за страшной работой хирургов. Изуродованные, окровавленные люди, какие-то обрубки без рук и без ног, похожие на бочонки, лежали около меня, потеряв человеческий облик и человеческую речь, по-звериному выли, ляскали зубами, требовали смерти, а когда их отрывали от земли и несли на столы, под ножи и пилы, они затихали и, побыв несколько секунд под руками врачей на операционных столах, умиротворенно затихали, умиротворенно уходили в вечность. Их уход был страшен и радостен. Они – мертвые – были похожи на большие стеклянные бутыли, на белые бочонки из-под соленого масла. А живые еще хуже. Живые, как надутые пузыри, лежали на земле, жили животом, то поднимая его, то опуская. В такой жизни было больше жути и ужаса. И я, глядя на эти пузыри, содрогался от боли, жалости, и мне невыносимо хотелось, чтоб и эти живые трупы не оставались на земле, а уходили бы вместе со своими конечностями, но врачи равнодушно, со строгой деловитостью делали свое жуткое дело, не желая даже знать, выживут ли эти обрубки или тут же отойдут в вечность. Возможно, так было нужно? Возможно, врачи хорошо знали, что делали? Возможно, они делали это для того, чтобы эти живые, безрукие, безногие бочонки служили памятником человечеству, говорили, кричали своим уродством о цивилизации двадцатого века, о великой культуре? Возможно, они это делали для того, чтобы человечество не так скоро позабыло ужасы войны? Возможно, что врачи хорошо знали, что, не видя этих живых бочонков, человечество опять заживет беззаботно и, ожирев в своем свином логове, самодовольно будет похрюкивать и хвастаться своей культурой?.. Так, размышляя о человечестве, я настолько забылся, настолько увлекся, что даже позабыл, что я нахожусь в огромной куче людей, перемятых мялкой войны. Гуляю с Данте по зловещим пещерам ада и гляжу на изуродованные человеческие тела и громко рассуждаю: «Несносный запах тленья от заживо гниющих исходил туда, где суд всевышнего казнил».
– Это что такое, а? – Я открыл глаза: передо мной стоял со сложенными руками на груди врач и смотрел на меня, улыбаясь.
– Как фамилия?
Лицо врача было сурово, было оно плохо выбрито, но, несмотря на это, оно приятно светилось из светло-рыжей растительности, обливало лаской, а небольшие голубые глаза говорили о том, что и он так же страдает, как вот и эти люди, что валяются рядом со мной и над которыми ему приходится не покладая рук работать круглыми сутками.
– Жмуркин, – ответил я.
– Мужичок… – улыбнулся он и обратился к другому врачу, который стоял к нему спиной и продолжал свое дело: – Знает «Божественную комедию». Ты слышишь, Петр Петрович, этот мужичок знает Данте.
Петр Петрович подошел ко мне. Он был необыкновенно толст и тяжело дышал; на его круглом, хорошо выбритом лице дрожали капли пота. Он, вынимая из кармана черный, с гравюрой Льва Толстого портсигар, спросил:
– Откуда?
Я ответил.
– А-а-а, из центральной России! Да-а, такие мужички, как ты, не редки, братец мой, не редки. Так ты знаешь «Божественную комедию»? Так-так, – протянул он и повернулся ко мне спиной, и покатился обратно к столу, а когда подошел к столу, крикнул: – Михаил Васильевич, давайте его сюда… Мы над ним будем работать, а он нам почитает из Данте.
Михаил Васильевич ласково улыбнулся, сказал мне несколько теплых слов и обратился к санитарам:
– Разденьте и подайте на стол.
Через несколько минут я лежал на столе, надо мной стоял Петр Петрович и черными вишнями глаз внимательно осматривал левую кисть руки и левый бок.
– Пустяки, – сказал он, – ну, а теперь, голубчик, почитай нам из «Божественной комедии», а мы послушаем. Ну, начинай. Читать можешь с закрытыми глазами.
Я стал читать 29-ю песню:
О, что за вид являли безотрадный
Лежавшие недвижно кучей смрадной!
За шагом шаг мы двигались во мгле
Среди больных, стонавших от недуга
И ползавших бессильно по земле.
А в это время Петр Петрович говорил Михаилу Васильевичу:
– Некрасов верно предсказал, что придет времечко, когда не Милорда глупого, а Гоголя, Белинского мужик с базара понесет.
– Вы что же думаете – оно пришло?
– Пришло, Михаил Васильевич, пришло. Ты разве не видишь, что мужичок не Гоголя тащит, а великого Данте?
– Но ведь это редкостный экземпляр.
– Да, но это показательно.
– Еще далеко…
– Нет, недалеко. Он, мужичок, уже идет с своей культурой… Он скоро предъявит нам жестокий счет на понимание не только Гоголя, Белинского, но и Данте.
Невыносимая боль подступила к моему сердцу, в глазах потемнело, и мой рассудок стал мутиться, и слова «Божественной комедии» стали застывать на моем языке:
…и что за вид являет безотрадный…
– Читай, читай, голубчик… Читай!
Но я сорвался со стола, поплыл, поплыл в мутно-розовое пространство, и мне так стало хорошо, а главное – я почувствовал себя гораздо легче пуха одуванчика.
1924—1926
Часть третья
У ЖИЗНИ В ОТПУСКУ
I
Голова тяжелая. Во рту сухо. Вокруг мрак. Тишина. Только где-то в стороне, во мраке, гул, лязг и звон металла. Оттуда же отдельные человеческие голоса. «Что со мной?» – невольно подумал я и стал всматриваться. Никого. Веки закрылись, давили на зрачки… «Кажется, что я нахожусь в яме?» Колыхнулся мрак, поднялся, как занавес. В глазах: зал, раненые на соломе, врачи и санитары в белых халатах, забрызганных кровью, простые сосновые столы. Я хотел поднять голову и не мог. Открыл веки: не вижу зала, соломы и столов. Нет врачей, санитаров и раненых. Мрак. Сладковатый запах. Он неприятен, как смоченная в теплом уксусе вата. Он лез в нос и рот. Я задыхался.
– Успокойтесь. Вы далеко от фронта, – услыхал я ровный голос врача. Ощущаю приятный холодок его руки на лбу. Стало легче. – Температура у вас высокая, но это ничего. Повязку менять не будем до утра. Кхе-кхе, – закашлял врач, и брызги из его рта попали мне в лицо. – Лежите спокойно, – откашлявшись, посоветовал он и отнял ладонь от моего лба.
Шик-шик-шик – зашмыгали его шаги. Он отошел. Я посмотрел ему вслед. Врач раздвинул дверь. Брызнул свет, такой синий, синий. Блеснули лучистые звезды. Пахнуло свежим воздухом. Врач задержался на секунду на пороге, затем спустился в синеву, под звезды. Дверь закрылась. Звезды, синева и врач остались за нею. Мрак. Тишина. Сладковатый запах крови. Я задыхался. Мои губы, сухие и шершавые, кривились от боли. Лицо в огне. Пылало. Я закрыл глаза. Вспыхнули лиловые, желтые и зеленые круги. Вертясь, они то уменьшались до цветов ромашки, белены, васильков и маргариток, то увеличивались до колеса телеги. Огромный в белом балахоне грозил пальцем. У огромного не было лица. Вместо него – зеленый язык. Он говорил, говорил и говорил. А что – не понял. «Бу-бу, бу-бу», – бубнил огромный в мои ушные перепонки. «Бу-бу, бу-бу», – передразнил я огромного и поднял тяжелые веки. Глянул. Никого. В глазах – мрак. Не вижу и разноцветных кругов. Мрак, мрак, мрак.
– Стоим с полночи, – сказал заспанный голос из тишины, – а когда отправят поезд – неизвестно: мешают встречные эшелоны. Впрочем, моим пассажирам некуда спешить. Отвоевали.
– И слава богу, – просипел кто-то недалеко от меня и вскрикнул: – Братцы, ноги нету, а пятка чешется. Доктор, почему так? Кто обманывает?
– Семен Федорович, поищи получше ногу-то, – посоветовал горячий сиплый голос. – Она, может быть, и в целости. Зря беспокоишься. У меня во рту липко, вкус такой поганый, будто я солод ел. А все это, Семен Федорович, оттого, что пулей мне легкое пронзило. Вторые сутки не сплю. Жар томит.
Нарастал гул. Приближался. Семен Федорович и тот, кому пулей «пронзило» легкое, замолчали. Поезд тяжело и стремительно прогрохотал мимо. Гул, звон и лязг потрясли все во мне.
– Чего же искать ногу-то, когда ее нету, – ответил с надсадным вздохом Семен Федорович и плаксиво посоветовал: – Не говори, Алексей Иванович, а то опять, как днем, у тебя пойдет горлом кровь.
– Замолчите. Душу вымотали своим разговором, – прохрипел сердитый голос из противоположного угла. – Ой-ой-ой! – застонал он и начал плакать сперва тихо, потом громче и громче.
– У него ноги остались на позиции, – скрипнув зубами, прошипел Семен Федорович. – Он уже теперь не вскочит на резвые ножки, не побежит. Жена молодая осталась… «Мое сердце, – сказал он, – в Надежде». Вот тут и майся, когда сердце в любимой жене, а ноги под Двинском. Человек без сердца – птица без крыльев. Человек без ног – дерево срубленное: червь живого точит. Фу, как пятка чешется, – пожаловался Семен Федорович и всхлипнул.
Неутешный плач лился в противоположном углу. Кто мог остановить его? Смерть? Она отстала еще в полевом лазарете от раненого. У бессмертной много дел на линии огня. Безногий не интересен для нее. Не убежит. Пусть ползает по земле. Пусть люди спотыкаются на него. Люди? Да, люди, человеки. А что такое люди, человеки? Розы, например, прекрасны: нежно колются, когда их рвут. Да и шипы их на стебельках не скрыты. Красота – алая, белая и золотая – на виду. Люди красивы, красивы так, что, когда смотришь на них, не видишь их шипов. Не люди – ангелы.
В противоположном углу человек перестал плакать. Он сопел, захлебываясь слезами. Я закрыл глаза, чтоб не видеть мрак, уткнулся в подушку, чтоб не слышать сопенья и всхлипыванья.
«Что это? Солома? Как измята солома. На ней кровь? Не кровь – брусника. Алая». Эти слова рвали мой мозг на части, терзали сердце. А санитары клали и клали раненых на нее, друг к другу, как бревна. Легкораненые на улице, на травке, на булыжнике перед вокзалом. В зале, на соломе, тяжелораненые. Они, полуживые обрубки, скрипели зубами, стонали громко, тихо, как слепые придавленные котята. Опять огромный в белом балахоне забубнил своим зеленым языком: «Бу-бу, бу-бу». Воздух насыщен испарением заношенного белья, прелью шерсти и кожи, запахом крови. Недалеко от меня работала женщина-хирург. У нее бледное лицо, синие глаза. Они горят как звезды из-под длинных темных ресниц. Санитары взяли солдата, лежавшего рядом со мной и понесли. Он рычал сквозь сжатые челюсти: «Нны, мыы», – он ранен в печень. На столе, под синим взглядом женщины, раненый перестал выть. Женщина осматривала его рану. Он не издал ни одного стона. Он начал стонать тогда, когда санитары положили его на прежнее место. Санитары подняли меня. Пробираясь между ранеными, они осторожно понесли к столу. Женщина резко сняла повязку, пропитанную кровью. «Ничего, – сказала женщина, – отнимать не станем руку. Заживет». Синий взгляд над моим лицом. Его свет – в мои глаза, в сердце. Я ощутил его теплоту – теплоту и нежность матери. Теплота и нежность заслонили зал, солому, раненых, столы, врачей и санитаров. «Она пришла на свиданье. Как дивно сияют ее глаза». Женщина чистила рану. Я смотрел в ее глаза. Ладонь пылала. Огонь полз к локтю. От локтя к плечу.
Я стискивал зубы так, что слышал хруст в ушах. «Женщина, – думал с неясностью я, глотая соленые слезы, – если б не было тебя, то я не почувствовал бы земли и солнца».
– Женщина, – позвал я.
– Тут, в теплушке, нет женщин, – отозвался сиплый голос, тот самый, что разговаривал с Семеном Федоровичем.
Я открыл глаза, всматриваюсь. Никого. Мрак. Догадался, что женщина – бред, вчерашний день, неправильно отраженный в моем мозгу, в памяти.
– Кто зовет? – раздался голос откуда-то снизу.
– Где стоим? – спросил сиплый голос.
Дверь скрипнула, раздвинулась.
Хлынул голубой свет, показалось загорелое усатое лицо санитара.
– Все еще на станции Дно, – сообщил недовольно санитар. – Теперь, кажись, поехали и мы.
– Поехали, – повторил обиженно-детским голосом какой-то раненый. – А куда?
Вагон качнуло. Ряды коек привинчены к полу, стенам. Моя койка зыблется подо мной. Мне кажется, что я на волне и она слегка покачивает меня. Под суконными одеялами и белоснежными простынями – раненые. В квадрате двери – кусок бледно-голубого неба, пестрые фасады построек. «Станция Дно», – повторил я про себя. Захотелось плакать, но я не заплакал – не было слез в глазах.
– И вот мы проехали Дно, – услыхал я над собой тихий голос. Он нежно дошел до моего сердца.
Я вздрогнул и спросил взволнованно:
– Женщина, это ты?
Никто не отозвался на мою радость. Держась лучами за притолоки, солнце стояло на пороге открытой двери. Оно согревало горячим дыханием мое неподвижное тело, оглушенное сражениями, но еще живое. Поезд мчался. «Та-та-та. Мы все знаем. Не догоните. Не догоните. Не догоните. Та-та-та. Мы все знаем. Мы все знаем», – пели буфера и колеса.
II
Я поднял веки: темно. Где же солнце? Там, где оно алело, – темная стена. А было ли солнце? Думал. Слушал: бунтовала в моем теле потревоженная контузией кровь. Помню, как от бунта ее шумело у меня в ушах и я терял сознание. И это было хорошо. И хорошо потому, что я, когда был без памяти, не чувствовал боли в теле, а главное – не видел перед собой дно, из которого я едва выбрался. Во рту горько. Уж не растет ли в нем полынь? Язык деревянный. Я никак не мог им пошевельнуть. А солнца нет и нет. И порога нет. И жизни нет. И смерти нет. Где я? Неужели между жизнью и смертью? Там, где не светит солнце. Там, где не цветет, не благоухает земля. Ой, кто это лепечет? Напряг слух: тараторят колеса. Они. Они. Еду. Еду. Это шумит у меня в голове. Да и все во мне шумит. Понял, что я в теплушке. Еду. Язык мой тяжел, неподвижен. Он нем, как царь-колокол. Улыбаюсь. Мне смешно. Царь-колокол упал с колокольни Ивана Великого, а откуда упал я, Ананий Андреевич Жмуркин, человечишка простой, с синими глазами? «Ты и не падал, – ответил кто-то из меня. – Ты вылез из ямы, в которой не было дна, но эту яму назвали д н о м. Теперь это д н о далеко. Уж не тоскуешь ли о нем?» – «Пошел к черту», – выругался я. Находившийся внутри меня замолчал. И отлично сделал. Не любил я, чтоб раздражали меня. Успокоился. Но кровь ходила, шумела в моем теле. Прислушался. Тело гудело, как колода с потревоженными пчелами. Минуты бежали. Поезд мчался. Мои глаза – на потолке, на стене, потом на узком окне. В нем голубой свет. Оно – кусочек неба. Не моргая глядел я на него, и мне было хорошо.
Чувствовал себя птицей в лазури. Кровь ударила в голову так, что я чуть не свалился с койки. Лоб и щеки охватил огонь. Вокруг – ни стен, ни коек, ни узкого окна: мир синевы. Он льется в мои глаза. Глаза ослепли от его света, тяжелые веки опустились. Лежу, и мне хорошо. Я не чувствую боли в руке, бунта крови в теле, не вижу синевы, не слышу лепета колес. И в сердце моем не стало страха, боли. Страх я чувствовал не тогда, когда проваливался в небытие, терял ощущение мира, а тогда, когда приходил в сознание и ощущал мир, его и свое дыхание. Каждый раз после такого возвращения к жизни и к миру я дрожал от страха и стучал зубами. Когда вернулось сознание ко мне, а вместе с ним и страх, стоял уже вечер, – я догадался о наступлении его по красноватой звезде, которая светила в квадрат окна, по желтому огоньку лампы в железном фонаре, прикрепленном к потолку. Фонарь покачивался. Он был похож на серого петуха с огненным глазом. По стенам теплушки колыхались тени. В воздухе пахло йодом, запекшейся кровью. За стеной будто звонили: дон-дон-дон. Звонили долго, долго. Я стиснул зубы так, что хрустнули челюсти. Звон прекратился.
Опять слышу нудно-болезненный шепоток:
– Осень. Лес. Желтые мертвые листья. Пахнет прелью. Серое, мокрое небо. И ни одной птички. И только мы одни в лесу, под небом… все как в России. Вылезли из блиндажей и пошли в атаку.
– И ты, Семен Федорович, не добежал? – спросил сиплый голос, похожий на шипение ремня на маховике.
– Не добежал, – вздохнув, продолжал Семен Федорович. – Ногу-то вроде бритвой отхватило, даже не заметил… ну, я и повис на проволочном заграждении. Алексей Иванович, может быть, нога-то и цела? Я во сне, может быть, видел, как отхватило ее? Уж больно пятка чешется. Вот и сейчас… Цела, цела! Слышь, друг, я шевелю большим пальцем ноги.
– Гм, – удивился третий голос. – Это нерва беспокоит… Да-с. Будь, братец, уверен: ножка твоя в солдатском сапожке осталась там… Может быть, она без тебя-то семь раз в атаку сходила. Да-с.
Семен Федорович и Алексей Иванович не ответили. Кто-то всхлипнул. Всхлип напомнил мне бульканье воды в раковине.
– В одном пустом доме я нашел картину на стене, – сказал робко и жалобно голос и стал продолжать: – Глянул на нее – Христос в пустыне. Сидит он на камне, а у ног – море. Сидит и думает. Худищий такой, щеки ввалились. Глаза – темь. Бороденка жидкая. Ну прямо Иван Лысик, точь-в-точь. Крепко думает. Думая, знает: люди – сволочь… страдать не надо за них, – но не может: родился на это. Голгофу хочет принять, чтоб люди…
– Бредень, замолчи, – умоляюще пискнул раненый, лежавший через койку от меня. – Без твоего нытья места нет сердцу.
Робкий голос осекся. Тишина. В ней – храп, стоны, а под полом – лепет колес, словно там бежала вода: «Та-та, та-та. Мы все знаем. Не догоните. Не догоните. Замолчите. Замолчите. Та-та, та-та. Мы все знаем. Мы все знаем». У меня на лбу капли пота. Они, как гвозди, холодны.
В голове звон: дон-дон-дон. Красноватая звезда в окне не отставала.
– Давно уже ночь.
– Голгофа.
– Люди любят, чтобы кто-нибудь пострадал за них.
– Глупо, но это так.
– Находятся дураки, вроде Христа, и страдают…
Что это? Опять шепот? Он навязчивее, громче.
– Бу-бу, бу-бу, – хрипел Семен Федорович.
– Бу-бу, бу-бу, – отзывался сипением Алексей Иванович.
Они опять говорили о ноге, у которой «ужасть» как чешется пятка, об атаке. Раненый, что лежал через койку от меня, завозился, затем стал медленным голосом выкрикивать:
– Вагон покачивает.
Звезда светит в окно.
Колеса хихикают. Буфера лают: ав-ав-ав…
Ночь идет уверенно, неумолимо, без гримас и улыбок.
Не догорев на пламени битв, только мы гримасничаем и, как головешки, тлеем.
«Игнат, – узнав знакомый голос, я вздрогнул. – Ночь, спаси! Он теперь укатает стихами. Я не могу… не хочу. Его стихи, как карты и клопы, надоели мне на позицию). Хорошо бы потерять сознание, уйти в небытие, чтобы не слушать его деревянного голоса, не видеть его лица с толстыми сизыми губами. Но я в этот раз не впал в беспамятство. Я смотрел на Игната. Он сидел на койке. Его голова забинтована, глаза удивленно расширены, зияли, как щели. Его темный рот то открывался, то закрывался. Вздрагивая, я подумал: «Чем бы заткнуть уши? Мраком? Звездой, летящей в окне?»
– «Прометей». Поэма, – объявил хрипло Игнат. – Я сочинил ее накануне вчерашней атаки. Слушайте.
Я в страхе. Я в смятении.
– Опять какая-нибудь ерунда, – проговорил плаксиво голос из противоположного угла. – Игнат, пожалуйста, помолчи! У меня и без твоего Прометея ужасно зубы болят, а в левом ухе – пешня, как в каменоломне, долбит.
Игнат неумолим. Упрямо выкрикивал, с тупой беспощадностью. Его голос заглушил лепет колес, шепоты Семена Федоровича и Алексея Ивановича. Ужас положил лапы на мое сердце и смотрел мне в глаза.
В воздухе пахло йодом и запекшейся кровью.
III
Игнат, глядя перед собой и слегка покачиваясь, читал:
– «Закрыты тучами вершины скал. Гремит гром, сверкают молнии. Ревет ветер. Океан катит волны. Они с яростью налетают на скалы. Прометей, прикованный к скале, висит над бездной.
П р о м е т е й
Как разошелся Зевс. Как никогда…
Как яростно по небу гонит тучи.
Они, рыча громами, стрелы молний
На землю мечут, чтобы мозг людей
Держать в железном страхе. О тиран!
Народ тебе отплатит за страданье,
За Ад, в котором держишь ты его.
О Зевс, грозишь земле огнем небесным,
Цепями новыми грозишь народу.
О Зевс, закуй народ. Ведь ты способен
На это. Так зови Власть, Насилье —
И пусть велят Гефесту-кузнецу
К работе подлой приступить. Гермес,
Скажи, куда бежали слуги Зевса?
Гермес молчит. Раскаты грома, молньи
Над хлябью хаоса сверкают. Ужас.
Скала дрожит, как студень, за спиной,
А океан ощерился волнами,
Ревет неистово, как прокаженный:
Он подпевает Зевсовой грозе.
Где Власть, Насилье, Гермес-глашатай?
Ужель другие муки мне готовят,
Чтоб ум сломить могучий, непокорный,
Чтоб власть тирана Зевса я признал,
Чтоб я в поклоне распластался,
Пред палачами на колени стал,
Как раб, и лебезил и соглашался…
Нет-нет! На это не способен Прометей.
Г е р м е с
Зачем кричишь, развратник непокорный?
П р о м е т е й
А-а… Я не один. Гермес-глашатай,
Как пес, к скале прижался и дрожит.
Глашатай Зевса, что с тобою?
Г е р м е с
Молчи!
Ты надоел своею болтовней
Нам, слугам Зевса, громовержцу Зевсу.
Мы слушать больше не хотим тебя.
Нам яд твоих речей теперь не нужен.
Ты отравил народ. Поднялся он
Не только против Власти, но и Зевса.
П р о м е т е й
Ужель, глумясь над муками моими,
И Власть и Зевс немного поумнели?
Не понимаю я, Гермес?
Г е р м е с
Довольно!
И понимать тебе не надо. Зевс
Разгневан страшно на Насилье, Власть,
Что дали громко так кричать тебе
О разуме народа. Зевс разгневан
И на Гефеста, что язык оставил твой
В устах твоих поганых на свободе,
Не пригвоздил его тогда к скале
Железным костылем. Ошибку эту
Гефест исправить должен…»
Мне не по себе: кружилась голова, тошнило. Игнат глухо читал. Что с ним? Он не узнавал меня. Не видел. Он не видел никого. Игнат страдал не столько от ранения, сколько от потрясения душевного. Разве я не страдаю от этого же? Страдаю. Остальные? О, еще как! Хорошо, что Игнат не видит меня. Вот только поэтому он не обратился с вопросом: «Ананий, почему твои глаза всегда смеются? Идет идиотская бойня, а твои глаза смеются?» Не дожидаясь моего ответа, он сказал бы с укоризной: «Война. Последняя война. После нее, как уверяют нас Ллойд-Джорджи, Вандервельды и Альберты Тома, наступит вечный мир народов… благоденствие, черт возьми».
– Врут, собаки, – сказал он вслух. – Никакого не будет мира. Вот попомни мои слова, что через двадцать – тридцать лет после этой дурацкой бойни будет еще более дурацкая бойня. Раньше, вот до этой войны, я не думал, что человечество так глупо, а теперь убедился, что оно действительно чудовищно глупо.
– Да-а-а? И совсем не глупо, а, скажите, безвольно, покорно, – возразил кто-то сипло.
– Глупо, глупо, – прохрипел Игнат. – Оно как стадо быков, которых гонят на бойню.
– Ничего, Лухманов, – пискнул кто-то из коричневой темноты, – и оно поумнеет, станет разумным в этой бойне, выползет…
– Кхха-а! – кашлянул кто-то и заплакал.
Игнат остановил бы на мне голубые глаза и по-детски улыбнулся, спросил бы: «Ананий, я убежден, что и ты такого же мнения о человечестве? Да-да. Иначе бы твои, Ананий, так горько не смеялись глаза». Я и в этот раз, если бы он спросил, не ответил бы ему, почему мои глаза всегда смеются. «Молчишь», – сказал бы Игнат и с грустью в голосе стал бы журить меня за то, что я ни разу не похвалил его стихи. Это верно. Я никогда не хвалил его стихи, но и никогда их не хаял, как другие слушатели. Я знал и знаю, что поэты любят только похвалу от читателей и слушателей. Похвала действует на поэтов благотворно, как взятка на чиновников. Но я всегда, выслушав стихи Игната, молчал, не хвалил и не бранил его стихов. Золотая тактика? Возможно. Я предпочитал и предпочитаю больше слушать, чем высказываться. Правда, слушать бывает тоже очень тяжело, так как люди, в подавляющем большинстве, лгуны и хвастуны, а главное – почти все, будучи сами невеждами и развратниками, стараются просветить слушателей и помочь им выбраться из мещанского болота. И это так, правда. Люди лгут с церковных амвонов и университетских кафедр; они лгут со страниц книг и газетных полос; они лгут с перекрестков проселочных и столбовых дорог; они лгут на улицах и площадях сел и городов. Словом, люди такого толка не дают смертным и простым труженикам спокойно жить на земле, наслаждаться ее дарами. Вот и Игнат, кажется, читает «Прометея» только затем, чтобы убедить нас, что говоруны и лгуны приковали Прометея к скале за то, что он пошел против говорунов и лгунов, только за то, что он возбудил в простом народе ненависть к богу. Прометей – это свободная мысль человечества. От глухого, деревянного голоса Игната моя голова распухла, в пламени. Как бы я хотел провалиться в небытие, не ощущать плотности мира, его дыхания. Но я не провалился. Живу. Слушаю лепет колес, стоны, храпы, всхлипывание и бред раненых. Страх глубже вонзил когти в мое сердце, и оно сочится кровью. Игнат, не замечая меня, приглушенно выкрикивал:
«П р о м е т е й
Не грози,
Гермес. Ты сам дрожишь, как лист осины,
Зачем опять на землю ты пришел?
Скажи, случилось что? Народ восстал?
Приветствую народ, его мятежный ум
И кулаки, подъятые на Власть,
На Зевса и на слуг его презренных.
Удар грома и блеск молнии. Гермес и Прометей освещены на мгновенье. В ущельях шумит ливень. Гудит волнами океан. Продолжительная пауза.
П р о м е т е й
Гермес, я понимаю Зевса ярость
К народу и ко мне.
Г е р м е с
Свободы ждешь?
Тебе свободы не дождаться. Гнев
Насилья на тебя падет жестокий.
От гнева у тебя застонут кости,
Язык, прикованный к скале, болтать
Кощунственно не будет.
П р о м е т е й
Жду свободы?
От Власти? Нет, не жду. Свободен я.
Насилья цепи не страшны. Слова,
Как птицы…
Г е р м е с
Твой язык молчать заставим.
П р о м е т е й
Хотите вырвать?
Г е р м е с
Зевса свят закон.
Гефест, не дрогнув, выполнит его.
П р о м е т е й
Он совесть потерял. Он выполнит…
Он в палача давно уж превратился.
Гермес, я пыток новых не боюсь,
Лишившись языка, молчать не буду:
Слова из глаз слезами потекут.
Они сердца людей наполнят гневом
На Зевса и на Власть, Насилье,
Гермеса и Гефеста-палача.
Г е р м е с
Болтун, я рот тебе копьем заткну.
Поднимает копье. Удар грома и блеск молнии. Скалы освещены пламенем. Тучи разорваны. Издалека, из глубины ущелий, накатывается гул. Он с каждой минутой громче, грознее.
Г е р м е с
Насилье, Власть бегут. За ними – слуги.
За слугами – разбитые войска.
Что делать мне? Бежать обратно к Зевсу,
Сказать ему о пораженьи Власти?
О нет. Он в бешенстве расколет землю,
Огонь небес обрушит на нее.
Отходит от Прометея и прячется за груды камней.
Спокойно здесь. И наблюдать удобней.
Отсель за битвой наших войск с народом,
Который сбросил цепи Власти, рабства,
Земным богам и Зевсу бросил вызов
Борьбы жестокой. Нет, я не могу
Стоять спокойно, в стороне от битвы:
Я должен в ней принять участье. Я —
Глашатай, воин Зевса.
(Уходит.)
П р о м е т е й
(в раздумьи)
Кто копье
Отвел от уст моих? Куда Гермес
Бежал в своем позорном раздраженьи?
Возможно, Зевс позвал его обратно:
Как лучше разгромить народ восставший?
Возможно, он, Гермес, не вынес страха
И спрятался от мести беспощадной,
Как змей, заполз в расщелину Скалы?
Как зыблется, дрожит скала…
И гул Внизу все больше крепнет, нарастает…
Там бой идет народа с войском Зевса…
Удар грома и блеск молнии. Скала разлетается на части. Освобожденный Прометей падает вместе с обломками скалы в пропасть».
Голос Игната оборвался. Тишина. Запах йода и крови. Под полом лепет колес. Он все громче и громче. «Та-та, та-та. Мы все знаем. Не догоните. Не догоните. Та-та, та-та. Мы все знаем». Лепет колес смыл «Прометея» из памяти, – будто Игнат не читал его. Может быть, это сон? Бред? Звезда не светила в окно, – она отстала, затерялась в посветлевшем туманном кусочке неба. Я понял: ночь прошла. Игнат сидел со сложенными, как на молитве, руками, смотрел щелками глаз все так же в одну точку, перед собой, никого не замечая. Его рот полуоткрыт, темен. Раненые молчали под плюшевыми одеялами. Я стал жадно смотреть на туманный кусочек неба в квадратном окне. «Сядет ли солнце опять, как вчера, на порог нашего вагона?» – подумал я. Кровь, потревоженная контузией, шумела в моем теле, стучала в висках. Язык как бревно во рту. Солнце, я даже не могу поприветствовать тебя, когда ты станешь на порог. Но знай, родное, что каждая капля моей крови будет славить твое появление.





