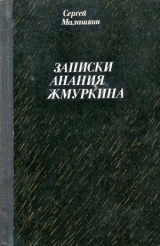
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
В ее голосе чувствовались страх, тоска и боль.
– Это от великого счастья, ваше императорское величество, – проговорил тучный генерал. – Он увидел свою государыню и умер.
Царица молча посмотрела на него, отвернулась.
У смуглолицей дамы и у молодых офицеров побледнели лица.
– Ваше императорское величество, его только что вчера доставили с фронта, – доложила Ерофеева и пояснила: – У него, ваше императорское величество, ампутированы выше колен обе ноги.
Александра Федоровна перекрестилась.
На ее сухом и бледном лице не дрогнул ни один мускул.
– Бедный, как ему тяжело, – вздохнула она и протянула руку к корзинке, которую держала смуглая высокая дама, взяла пакет с виноградом и крестик, золотой, нательный, с серебряной цепочкой, и все это положила на грудь мертвого солдатика. Потом взяла из корзинки, которую держала другая женщина, Евангелие и его положила на столик… Ей никто из свиты не сказал о том, что мертвому не нужен виноград и Евангелие – он уже не воспользуется подарками на этом свете, не полакомится виноградом и не насладится чтением святого Евангелия. Награждая мертвого солдатика, она уже позабыла о нем, подошла к монашку: – Как, солдатик, чувствуете себя?
– Хорошо, ваше императорское величество, – отчеканил Гавриил и густо покраснел.
На лицах свиты появились удовлетворенные улыбки. Александра Федоровна подарила ему крестик, виноград и Евангелие. Монашек перекрестился, поцеловал крестик и надел его на себя. Царица подошла ко мне, а вместе с нею высокая дама, Нарышкина, тучный генерал, доктор Ерофеева и дамы с корзиночками. Генерал тяжело дышал, было видно по его толстому и багровому лицу, что ему трудно дышать. Он остановился ближе к моему изголовью, будто охранял царицу от стены, чтобы она случайно не обрушилась на нее. От него пахло не то щелоком, не то можжевеловыми каплями. Нехорошо пахло! Много-много глаз остановилось на моем лице, заросшем дремучей русой бородой. Мне казалось, что их глаза запутались в ней и никак не могут выбраться из нее.
– Какой, солдатик, губернии? – отводя глаза от моей бороды, спросила глухим голосом Александра Федоровна.
– Тульской, ваше императорское величество.
– Есть жена и дети?
– В крестьянском деле без жены невозможно, ваше императорское величество, – легко соврал я.
Тонкие, бескровные губы царицы дрогнули в улыбке, она протянула руку к корзине, взяла нательный крестик и, не глядя на меня, положила мне на грудь. Пакет с виноградом – на столик.
– Он у нас, ваше императорское величество, самый веселый в лазарете, – доложила почтительно Ерофеева и сердито, предупреждающе, взглянула на меня.
В ее резком взгляде я прочел: «Жмуркин, молчи».
Я понял ее беспокойство, спохватился и поблагодарил за подарки царицу. Царица не обратила внимания на мои слова, не обернулась, она уже награждала крестиком и виноградом Синюкова. Я немного взволновался, но тут же успокоил себя, подумал: «Ничего, что ответил так смешно и не поблагодарил вовремя за подарки. Лучше поздно, чем никогда».
У Синюкова она не спросила, откуда он, как чувствует себя, дала ему крестик нательный, пакет с виноградом и Евангелие и повернулась к Лухманову:
– Ранены в голову?
– Легко, ваше императорское величество, – отчеканил Игнат, уставившись тяжелым взглядом на ордена генерала.
– Болит? – спросил генерал.
– Болеть не болит, ваше высокопревосходительство, а шумит, будто после здоровой пьянки, – не спуская глаз с орденов генерала, отчеканил громче, с глуповатым выражением на круглом и одутловатом лице, Лухманов. – Война, – обратился к царице, – ваше императорское величество, не похожа на свадьбу, а башка от нее трещит… вот-вот развалится на половинки. Отчего это?
У главного доктора лазарета побелело доброе лицо от его вопроса. У молодого красивого офицера появилась улыбка в уголках губ. Генерал еще больше побагровел, потом стал темно-синим, цвета незрелой ежевики, но смолчал. А когда Александра Федоровна наградила Игната Лухманова подарками и повернула к следующему раненому, генерал бросил свирепый взгляд на Игната Денисовича и шагнул вперед так, что звякнули ордена на его груди. Царица молча, не останавливаясь, наградила крестиками, виноградом и Евангелиями солдат, раненных под Ригой, Первухина и Прокопочкина.
– А вы, – обратилась она к Алексею Ивановичу, – как чувствуете себя? Куда ранены?
– В грудь, ваше императорское величество, – ответила тихо и почтительно за раненого доктор Ерофеева.
– Веруйте в бога, молитесь усердно ему… – и царица взяла крестик и хотела было положить его на грудь Алексея Ивановича, но тут же, заметив на себе дикий взгляд, задержала руку.
– А я тебе, царица, – захрипел Алексей Иванович, – подарю черного петуха. Как приеду домой, матушка, так обязательно черного петуха… – Алексей Иванович, застонав, повернулся спиной к царице.
Александра Федоровна, зажав в руке крестик, выпрямилась и резко повернула к двери. Дамы и сестры поспешно расступились перед нею. Высокая смуглолицая дама, Нарышкина и полковник с пышными каштановыми усами поспешили за нею. Главный доктор Ерофеева, врач Дегтярева, сестры Иваковская, обе Гогельбоген, Смирнова и Пшибышевская окаменели от страха и удивления, стояли с серыми лицами, словно они, как жена Лотова, превратились в соляные столбы. Генерал почернел, покрылся испариной и, вытирая платком пот с лица, цыкнул на главного доктора Ерофееву:
– Не лазарет у вас… – Его высокопревосходительство не договорил, бросился в сторону и стал теребить толстыми побледневшими пальцами воротник мундира под жирным багровым подбородком.
Дегтярева и Ерофеева пришли в себя и направились в следующую палату, так как царица и ее свита вышли. Генерал, тяжело сопя, склонил лысую голову, шагнул тупо, как бык, которого оглушили обухом топора по голове, вперед и налетел лбом на косяк двери, отлетел в сторону и, зажав ладонью ушибленное место, охнул и присел на стул. Иваковская нагнулась к нему со стаканом воды.
– Ваше высокопревосходительство, вам плохо?
– Голову срубили своим лазаретом. У вас не раненые, а бандиты с большой дороги. Один одного лучше… Им в глаза страшно глянуть. У одного смех в глазах, у другого – яд, у третьего – черт знает что… Четвертый одной частью рожи смеется, а другой плачет. А этот мерзавец черного петуха государыне пообещал… Их надо, негодяев, не лечить, а перевешать.
– Ваше высокопревосходительство, ведь это серый мужичок, что он смыслит… Сегодня он все время бредил то черным петухом, то белым. Я уверена, что он и теперь, когда его спросили их императорское величество, находился в бреду, в беспамятстве.
Генерал поднялся и, пошатываясь и потирая ладонью лоб, выкатился из палаты. Иваковская, бледная и перепуганная, следовала за ним со стаканом воды.
– Пошли в третью палату, – заглядывая в дверь, тихо сообщил Первухин. – Генерал опять сел, но тут же поднялся и засеменил за царицей. Царица не говорит с ранеными, а молча кладет кресты, пакеты и Евангелия на столики. Ну прямо торопится…
Мы лежали молча до тех пор, пока царица и ее свита не спустились на третий этаж.
– Как тебе, Жмуркин, нравится характеристика, какую нам дал генерал? – спросил Синюков.
– Великолепна. Генерал не ошибся, – ответил за меня с поспешностью и раздраженно Игнат Лухманов. – Для его высокопревосходительства мы, конечно, бандиты с большой дороги. Так и надо понимать его.
– Не давайте волю языкам, – предупредил строго Прокопочкин. – Мы действительно распоясались… Чем болтать всякую ерунду, надо лучше подумать о главном докторе.
Иваковская, запыхавшись, вбежала к нам, сообщила, что генерал на лестнице второго этажа умер от разрыва сердца и его осторожно, чтобы не узнала царица, санитары подняли и отнесли в ванную комнату и уложили на диван. Как только она закончит обход раненых и раздачу подарков, так сообщат генеральше, чтобы прислали карету за ним.
– На вас, Игнат Денисович, я сильно сердита, – процедила сквозь зубы Нина Порфирьевна. – Поэт, а отвечали возмутительно государыне и генералу. Разве так можно? Ну и денек выдался. Александра Васильевна, врач нашего этажа, спать не будет… Кажется, уже заболела от страха. Да вы все надели крестики?
– Сестрица, – проговорил Первухин, – я могу подарить свой вам. Пожалуйста! – и он протянул нательный крестик.
– А я вас, Нина Порфирьевна, угощу царским виноградом, – предложил Лухманов.
Иваковская нахмурилась и ничего не ответила Игнату.
– Как?! Отдаете подарок царицы? – взглянув на Первухина, а потом на крест, который держал Первухин в протянутой руке, удивилась Нина Порфирьевна. – Нет, я не возьму. Вы должны его сохранить на память о ней.
– На память мне дадут деревянный, – ответил с насмешливой грустью Первухин. – Это я, сестрица, чувствую. На следующей неделе, как вы знаете, назначен на комиссию. Члены комиссии скажут: «Годен!» – и я отправлюсь в запасной батальон… Если крестик царицы не желаете принять, сестрица, то я брошу его. И виноградом, как Лухманов, угощу.
– Кушайте его сами. Спасибо.
– От винограда царицы не откажусь, съем, – громко рассмеялся Первухин. – Несколько виноградин уже проглотил.
– Ларионов не надел, – взглянув на раненного под Ригой, лежавшего рядом с монашком, сказала Иваковская и направилась к нему, взяла крестик и, прикоснувшись рукой к затылку его, отскочила испуганно от койки, вскрикнула: – Он мертв! Когда же Ларионов умер? Неужели он был мертв, когда его спрашивала государыня?
– Да, – вздохнул Первухин. – Он от радости умер… повидал на своем веку царицу и умер… не выдержал, значит, такого великого счастья. Вот ему и крестик не потребовался, – сказал громче Первухин и ехидно спросил: – Разве вы не слыхали, как сказал генерал царице, что солдатик от счастья умер, что увидел ее? Вот она, наша солдатская счастливая жизня-то!
Прокопочкин, Синюков и Гавриил вскочили с коек и подошли к Ларионову. Постояв немного над ним, они повздыхали и отошли от него. Я не встал, лежал под одеялом, на душе было омерзительно, хотелось завыть по-звериному. Нина Порфирьевна позвонила. На звонок пришли два санитара. Сестра сказала им, чтобы они взяли Ларионова и вынесли его в мертвецкую. Санитары отбросили с него одеяло и никак не могли приспособиться к его телу, чтобы поднять его: у него не было ног. Один санитар взял мертвеца под плечи, другой подсунул руки под ягодицы… и они кое-как подняли его с койки и положили на носилки, прикрыли простыней и понесли вперед головой из палаты. Нина Порфирьевна пошла за санитарами.
– Сестрица, – позвал монашек, – скоро подадут обед?
Иваковская вздрогнула у порога палаты, обернулась и, бросив дикий взгляд на монашка, махнула рукой и выбежала в соседнюю палату. В эту ночь я отвратительно спал: то мне снились собаки, больше черные и лохматые, то генералы разные, с бычьими шеями, в орденах, то дикие буланые лошади, которые гнались за мной и хотели схватить зубами за голову. Синюков разбудил меня. Я открыл глаза и почувствовал, что я весь в поту.
– Пей чай. Давно принесли, небось уже остыл, – проговорил Синюков.
Я остановил взгляд на столике: рядом с завтраком лежала книга Канта. Я быстро поднялся, надел туфли, халат и пошел умываться.
XXI
Я вернулся из перевязочной.
– Ну как? – крикнул Синюков.
– На комиссию, – ответил я. – Врач сказал, что рука может работать.
– Думаешь, возьмут?
– И меня назначили на комиссию, – задержавшись на пороге, подал голос Игнат Денисович. – Ананий Андреевич, может, в одну часть попадем?
– Завтра и меня назначат на комиссию, – вздохнул Синюков.
Няни принесли завтраки, чай. Тишина. В ней шуршат туфли нянек. Мне очень грустно и так, словно меня стегает пронизывающий осенний дождик. Грусть горит и в глазах Игната Лухманова и Синюкова. Я стал смотреть в окно. Над противоположным домом засинело небо. И оно грустно – грустит вместе со мною. Я отвернулся от окна, сел за столик. Раненые, кто лежа, кто сидя, завтракали и пили чай. Было слышно, как чавкали их рты, как булькал чай в их горлах, как хрустели на молодых зубах поджаренные корочки французских булок и калачей. Поднялось солнце, заглянуло в окна. В каждом по желтому солнцу. Хотелось подняться, подойти опять к окну, погреть руки на солнце, а потом толкнуть его с подоконника – пусть летит вниз, на тротуар. Поднялся, шагнул от столика, но тут же остановился: солнце висело за окном, над крышей противоположного серого дома; чтобы я не столкнул его с подоконника, оно отпрянуло назад и поднялось выше, и горит, и горит.
– Садись, – предложил ласково Прокопочкин.
– Нет, – отмахнулся я и сел на край его койки. – Я хотел ладонью погладить солнце, когда оно сидело на твоем подоконнике.
– И погладил бы.
– Сбежало и висит над домом.
Прокопочкин улыбнулся и моргнул плачущими глазами, доверчиво скользнул взглядом по моему лицу и, подумав немного, шепнул:
– Хочешь, я сыграю на баяне?
– Не надо, – сказал я. – Здесь мы не одни. Ты выступаешь на вечере?
– Да. Буду играть песни. После обеда состоится репетиция в клубе. Приходи.
Я встал и направился к своей койке. Лухманов легкая на спине и, согнув ноги в коленях, писал. Синюков и Первухин из картона вырезали маски. Гавриил скрестив руки на груди, глядел в потолок. Его живот свисал и лежал на коленях. Он был похож на беременную женщину. Вошла сестра Смирнова.
Синюков расцвел при виде Анны, положил картон на столик и, глядя нежно, влажными любящими глазами на нее, сказал:
– Здравствуйте, сестричка. Садитесь вот сюда.
Сестра улыбнулась, села на стул.
– Маски делаете? – спросила она. – Не надо. Нина Порфирьевна купила их больше сотни. Всем хватит.
Вернулся из перевязочной Алексей Иванович, высокий, костлявый. Его большая лохматая голова еле держится на тонкой шее. Глаза провалились и горят и горят темным огнем. Он тяжело ранен, а ему позволили ходить. Его непочтительность к царице принесла много горя администрации лазарета. Его слова о черном петухе, которого он хотел подарить царице, напугали суеверную царицу, даму с белым лицом, полковника с пышными каштановыми усами и ярко-зелеными глазами, тучного, в орденах, генерала. Последний, к счастью главного доктора, не вышел из здания – умер от разрыва сердца на лестнице. Санитары почтительно вынесли его тело из ванной и вестибюля и под печальную, красивую музыку оркестра положили на грузовую машину, в цветы.
– Он жертва анархии, – выразилась какая-то высокая, в дымчатых мехах женщина и, прижимая платок к глазам, разрыдалась.
– Произведут следствие, – всхлипнул какой-то старичок в генеральской шинели.
Главный доктор Ерофеева вздохнула.
– Э-эх, – крякнул Прокопочкин, глядя плачущими глазами из окна на тело генерала на платформе грузовика, – печальнее нет песни «Хаз-Булата». Вот я, если б начальство позволило, и сыграл бы ее на баяне на прощание его высокопревосходительству.
Жандармы не один раз посетили контору лазарета и два раза побывали в нашей палате – они очень интересовались личностью Алексея Ивановича, мужичка из-под Пскова.
– У вас дома есть черный петух? – спросил жандарм затхлым голосом у Алексея Ивановича и сел на стул. – Вы, может быть, что-нибудь расскажете мне об этом петухе?
Алексей Иванович кивнул головой и, сверкая белыми зубами, стал рассказывать жандарму о черном петухе.
– Белый петух подлец, – хрипел он. – Белый петух ожирел и обленился и так обленился, что кур не замечает… – и мужичок из-под Пскова понес такую неразбериху, что жандарм ладонями закрыл уши, поднялся и отошел.
– Действительно, он того… – проговорил испуганно жандарм Нине Порфирьевне и, лихо звякнув шпорами, пожал ей руку. – Душевнобольного приняли за анархиста. Но все же мы обязаны против него принять меры. Прошу, сударыня, прощения… – И он поклонился и вышел.
Звон его шпор долго стоял в моих ушах. Мне казалось, что откуда-то издалека едет тройка, звенит и звенит колокольчиками. Звенит, звенит. Нина Порфирьевна посмотрела ему вслед, а когда он скрылся, обернулась к нам, возмущенно сказала:
– Дурак.
Прошло пять дней, как заходил в последний раз жандарм в палату. В контору, как сообщила Нина Порфирьевна, не приходил больше. Главный доктор Ерофеева, видно, убедила жандармского офицера в том, что Алексей Иванович, мужичок из-под Пскова, тяжело ранен, что в тот день, когда подошла государыня к нему, он находился в бреду. Кроме того, контора лазарета послала срочную телеграмму старшине, в волости которой жила семья Алексея Ивановича, потребовала от него, чтобы он немедленно сообщил по телеграфу о масти петуха в хозяйстве Алексея Ивановича. Старшина немедленно ответил:
«Смысл вашей телеграммы нам не ясен точка все же отвечаем двоеточие супруга Алексея Ивановича Хрулева блюдет честно супружеский закон и никакого петуха в образе мужчины в ее доме не проживает точка ежели вы запрашиваете о петухе в образе обыкновенной домашней птицы запятая то таковой петух запятая конечно запятая имеется у нее тире черного оперения точка волостной старшина Ефим Кузовкин».
Администрация лазарета, получив такой ответ, не решилась показать его жандармскому офицеру. А вдруг он опять прицепится к раненому: зачем и для чего он, Хрулев, держит черного петуха, а не белого? Значит, он не в бреду, а сознательно пообещал черного петуха царице. Ну, и после этого пойдет и пойдет… Нет, пусть лучше телеграмма сгинет в архиве лазарета имени короля бельгийского Альберта. И администрация лазарета спрятала телеграмму старшины. Раненые много смеялись и над канцелярией, пославшей такой запрос старшине, и над ответом старшины. Только сам виновник, хозяин черного петуха, Алексей Иванович, не смеялся во время рассказа Нины Порфирьевны, лежал неподвижно на койке и смотрел большими, лихорадочными глазами на нас. Вчера Алексей Иванович неожиданно поднялся с постели и начал ходить по палате. В груди его, когда он ходил, сильнее хлюпало. Голос его сипел. Впрочем, говорил мало. Даже совсем не говорил. Кажется, он, шагая по палате, не замечал раненых – своих соседей. Его ввалившиеся глаза ярко горели, отчего его длинная костлявая фигура походила на зажженную свечку. Приглядываясь к его неподвижному лицу, заросшему бородой, усами, я чувствовал, что он не видел солнца и голубого неба, – так горели его глаза. «Уж не ослеп ли Алексей Иванович? – подумал в страхе и в смятении я. – Зачем это он все ходит и ходит по палате, от двери и до койки Первухина и обратно?» Его скулы еще больше выперли, нос принял форму ладьи и вот-вот отчалит от лица, заскользит по воздуху. Монашек подошел ко мне, сел на краешек койки.
– Следишь за Алексеем Ивановичем? – и он положил руку мне на колено.
Я чуть не вскрикнул от испуга.
– Наблюдаю, – пробормотал я. – А что? Ему лучше? Кажется, он тяжело заболел, но не от раны… Ему очень больно. А что?
Монашек хихикнул. Подбородок у него отвис. Он не понял моего беспокойства об Алексее Ивановиче. Монашек ожирел, и мысли в его голове, похожей на тыкву, слабо ворочаются – утонули в жире.
– Когда ты, Прокопочкин, Синюков и Лухманов были в городе, Алексей Иванович встал, надел халат и стал плясать и приговаривать: «Чк-чур, чк-чур, чур меня, чур меня. Чур, чур. Карачур. Карачур». Первухин был в клубе, на спевке. Новые раненые, из-под Риги, возможно, спали: их лица были закрыты простынями. Я лежал и читал Евангелие. Мне до того стало жутко, что я не мог пошевельнуться. Я не успел встать и выбежать из палаты, чтобы позвать сестру или няню, как он подлетел к моей койке и уставился взглядом на меня, захрипел: «Чк-чур, чур, чур!» – и начал лаять по-собачьи. «Хочешь, говорит, я тебе сейчас вспорю живот и все, что съел, вытрясу из него? Хочешь? Пойми, тебе без живота легче будет в раю». И он запустил руку в карман халата. И наверно бы пырнул ножом мне в живот, если б не вошла на мой крик сестра Пшибышевская. Христос ее прислал. Она взяла его под руку, отвела в сторону, сняла халат с него и уложила в постель. Ох, если б не сестрица Мария, то зарезал бы…
Я глянул в мутные глаза Гавриила и не верил ему.
– А нож у него имелся в кармане?
– Не нашли, – ответил монашек. – Ножа не оказалось у него.
– Так он и не зарезал бы тебя, – сказал я твердо.
– Нет, зарезал бы, – возразил монашек, бледнея.
– Да ведь у него ножа-то не было, – пояснил я, – чем стал бы он резать тебя?
– Обязательно зарезал бы, – стоял тупо на своем Гавриил. – А дьявол-то на что… Он всегда в такие минуты, когда человек задумает злое дело, вертится под рукой у него. Вот дьявол и сунул бы нож ему в руку.
– И сказал бы: «Режь раба божьего Гавриила», – съязвил я.
Раненые рассмеялись. Гавриил смутился, нахмурился, замолчал. Я ничего больше не сказал ему. Он посидел минуты две-три на моей койке, похлопал глазами, поднялся и молча отправился к своей. Смирнова сидела у койки Синюкова; тот гладил кисть ее руки. «Неужели Анна любит его? – подумал я. – Что ж, это хорошо… Они молоды, красивы. Им надо жить. И будут славно жить, если не помешает война, – не призовут его опять на фронт. Я прожил почти сорок лет и никого не любил. Меня тоже никто не любил. Так ли?» – и я вспомнил Ирину Александровну. Она, кажись, любила. Вспомнив ее, красивую и высокую, я вздохнул. Вошла Мария Пшибышевская. За нею – обе Гогельбоген, нарядные, упитанные, со спокойно блестящими очами. Красавицы. «Без огня, а красавицы, – подумал я о сестрах Гогельбоген. – Хорошо бы поглядеть на них, когда они танцуют». А я одинок, как полынь на меже, качаюсь одиноко на ветру и тоскую в тихую погоду. Что ото я так расквасился? Уж не завидую ли счастью Синюкова?
– Ананий Андреевич, вы кончили читать Канта? – обратилась старшая Гогельбоген, и карие глаза ее сузились, зрачки подернулись лукавым холодком.
Я внимательно поглядел на ее ясно-красивое, румяное лицо.
– Да, – ответил я и спросил: – А вы, сестрица, желаете читать?
Младшая Гогельбоген рассмеялась:
– Не имеем никакого желания заниматься философией. Мы вчера танцевали на балу до шести часов утра. Танцы для нас – интереснее философии.
– Вы правы, сестрица, – подхватил я. – Веселье выше всего… Особенно в таком, как ваш, возрасте.
Сестры Гогельбоген нахмурились и, опустив глаза, отошли от меня и подсели к монашку. Я ругнул себя за эту фразу. «Ведь им, пожалуй, да, двадцать лет, а я…» Мария Пшибышевская, уложив Алексия Ивановича в постель, присела на стул возле него, худенькой спиной к нам. Первухин карандашом рисовал на картоне. Прокопочкин, подперев ладонью щеку, глядел в окно, на улицу, и слезы текли из его глаз. Рот, мокрый от слез, улыбался горько и наивно. Разговор у нас не клеился с сестрами. «И зачем я обидел сестер Гогельбоген?»
– Не веришь, что месяц дадут на поправку? – заботливо, с грустью в голосе, нежно спросила Смирнова.
– Вряд ли, – вздохнув, ответил безнадежно Синюков. – У меня рана на руке зажила отлично.
Я натянул простыню на лицо и повернулся к стене. Я чувствовал себя окрепшим, и лазарет с врачами и сестрами отрывался от меня, отплывал уже в прошлое, – от этого в душе становилось грустно, будто я потерял что-то дорогое. Меня, как и Синюкова, не отпустят по чистой. Если отпустят на поправку, то куда я поеду? Домой, в деревню? Нет, я такой деревни не принимаю. Так куда? А Успенский? Он ведь пригласил меня к себе. «Квартира, – сказал он, – у меня, лю-ли, большая, а я один». Как отпустят, так и к нему. Отпустят на поправку, так прямо махну к нему на Звенигородский. Любопытный старик – прирученным зверем глядит на общество Пирожковых. Нет, жить к нему не пойду, хотя у него, как он говорит, и большая квартира. А вот к Серафиме Петровне зайти надо. Да и как я могу жить у профессора, если меня снова оставят в армии? Нет, и думать не стоит об этом. Надо зайти в ЦК партии и стать на учет. Обязательно. Это я сделаю, как только направят меня в полк… а потом – и к Серафиме Петровне. Я мысленно представил ее себе, ее черные, смеющиеся лукаво глаза, приятные и кокетливые ямочки на смуглых щеках. «А бороду обязательно сбрейте, – сказала она, – таким обросшим не приходите». Она рассмеялась и положила тогда колбасы на мою тарелку. «Кушайте», – попросила она и локтем толкнула меня в бок. «Вот у нее, – подумал я неожиданно, – молнии майские сверкают в глазах, не то что в очах сестер Гогельбоген». Я думал о Серафиме Петровне, и мне становилось спокойнее, теплее. Думая о ней, я забывал о лазарете, о комиссии врачебной, на которую я должен скоро пойти, и не заметил, как заснул и проспал до обеда. Повернувшись на спину, я долго глядел в белый потолок. В палате тишина. В тишине – хлюпающее дыхание Алексея Ивановича. Пахнет кровью и еще чем-то. У Алексея Ивановича глаза закрыты. Возле него Пшибышевская. Ее голова опущена, кисти рук опущены, на коленях. Под ее серыми, усталыми глазами – тени. На ней старые туфли, желтые, с заштопанными пятками чулки. Она очень похожа на увядшую лилию, вот-вот переломится и упадет со стула на пол. «Она в этих туфлях и чулках бежала от немцев, из-под Познани», – подумал я, и мне стало жалко ее. Я решил, что она одинока и томится своим одиночеством. Она бежала, как и обе Гогельбоген, из Польши, но как она не похожа на них. Гогельбоген не было в палате: они, когда я спал, ушли. Гавриил сидел на койке и, скрестив руки на животе, сиял сытыми, оловянными глазами. Он очень похож на сахарного серафима. Его толстые губы полуоткрыты, улыбались. Возможно, он мысленно гулял в садах райских. Возможно, в мечтах о сестрах Гогельбоген – они благоволили к нему. Прокопочкин, Синюков и сестра Смирнова слушали Ямалетдинова, раненного под Ригой. Первухин сидел на своей койке, пришивал пуговицы к новой фланелевой рубахе. Он был очень смешон за этой женской работой. Ямалетдинов, облокотившись черной головой на руку, глухо и отрывисто рассказывал. Я сбросил одеяло с себя и сел. Монашек вздрогнул и остановил взгляд на мне.
– Ананий Андреевич, – шепнул он, – не слушай их.
– Кого? – спросил я, не понимая.
Гавриил показал взглядом на Ямалетдинова и на его слушателей.
– Ямалетдинов и Прокопочкин договорились до ничего, – пояснил со страхом в глазах он. – Ямалетдинов сказал, что аллаха нет. Он не верит в того, кого нет в жизни, при нем. Своих мулл, если б он имел власть, повесил бы немедленно на осинах, – муллы имеются в жизни и, как клопы, сосут кровь из таких, как он, бедняков. Прокопочкин пожал Ямалетдинову руку и ответил ему: «Я тоже не верю в бога – его нет. Он даже не дым, который глаза точит. Но попы есть… Попы и монахи». Ах, если б ты, Ананий Андреевич, слышал… – Гавриил дернул головой, закатил глаза, побледнел.
– А тебе что? – спросил я. – Ведь ты не поп… и не мулла?
– Он выше – херувим из-под лежанки, – сказал Первухин и рассмеялся. – Верно, Гаврюша?
Монашек вскочил, запахнул халат на грузном животе и выбежал в коридор.
– Ананий Андреевич, – обратился Синюков, – подсаживайся к нам. Ямалетдинов и Прокопочкин сказки по очереди рассказывают. На спор, кто больше знает их. А мы слушаем. Занятные. То смешные, то грустные. То смеяться хочется, то плакать от них. Ты за кого держишь пари: за Ямалетдинова или Прокопочкина? Я за Мени…
Мени Ямалетдинов поднял черные глаза, улыбнулся.
– Ой, Ананий Андреевич, Прокопочкин больше меня сказок знает. Моя, знать, проиграла?
– Смотри, Мени, – предупредил Синюков, – не подводи. Если побьет сказками тебя Прокопочкин, то я проигрываю сестрице Смирновой две плитки шоколаду «Гала-Петер».
– А если моя возьмет, то что берешь с такой красавицы? – щуря бронзовые глаза, спросил хитровато Ямалетдинов у Синюкова.
– Я все, что сестрица подарит, возьму, – ответил Синюков, – у нее для меня, Мени, одни хорошие подарки.
– Это правда?! – воскликнул Ямалетдинов. – У честных людей одни только хорошие подарки. Ты счастливый человек, Синюков. Теперь, – метнул он взгляд на Прокопочкина, – твоя очередь. Говори, Прокопочка. Они, – он тряхнул головой, – слушать будут. И моя слушать станет.
– Ладно, Мени, – согласился Прокопочкин и, подумав, стал рассказывать.
– «Скажите, – спросил царь Петр у своих сенаторов, – как высоко небо, как глубока земля?» Сенаторы не ответили. Петр выехал из города. Едет полем. Увидав мужичка за сохой, царь остановился. «Эй, труженик, – позвал он, – обождь пахать маленько, дело у меня до тебя есть». Мужичок остановил лошадь, снял шапку перед царем. «Как высоко небо, как глубока земля? Ответь мне», – потребовал царь Петр и подкрутил усы на своем важном царском лице. Мужичок ответил не задумываясь: «Небо, царь, очень низко. Гром грянет, так глухой его услышит. А земля глубока. Я своего деда похоронил шестьдесят годов тому назад, и он все еще не вернулся». Царь Петр выслушал мужичка, покрутил усы и уехал. Сенаторы узнали, что царь получил от какого-то человека ответ на свой вопрос. Они подозвали к себе царева денщика и стали выпытывать у него: «Где был царь? Куда ездил?» Царев денщик ответил: «В поле царь ездил, с мужиком разговаривал». Сенаторы себе поехали в поле; увидав мужика, остановились, позвали его и стали выспрашивать: «Скажи нам, пожалуйста, как небо высоко и как земля глубока?» Мужичок снял шапку, поклонился сенаторам и ответил: «Я вам скажу, а вы мне что за это дадите?» Сенаторы переглянулись между собой, пошептались, спросили: «А ты что хочешь? Пожалуйста, проси». Мужик ответил, кланяясь им: «Ежли сто целковых дадите, то скажу». Сенаторы поежились немного – жалко им денег было, – но все же согласились на эту плату. «Дедушка у меня помер шестьдесят лет тому назад и не вернулся домой из ямы. Вон как глубока земля. Сейчас все идет. В пути, и не знаю, когда и вернется домой. Небо очень низко: гром ударит – глухой зараз услышит». Сенаторы заплатили сполна мужику сто целковых, почесали в затылках и уехали. Они прямо с дороги вошли в кабинет царев. «Выше императорское величество, – начал главный сенатор, – дело насчет глубины земли и высоты неба мы разрешили на заседании сената, можем ответ держать перед вами. Земля глубока. Мой дедушка умер сто лет тому назад и до сих пор не вернулся оттуда. Небо очень низко: гром ударит – глухой…» Царь Петр не дал договорить главному сенатору: «Не надо. Это вы от мужика слышали». Сенаторы замолчали и удалились. Царь Петр опять поехал в поле. Увидав мужика за сохой, остановил коня, спросил: «Скажи мне, по скольку берешь в сутки за эту пахоту?» Мужик снял шапку перед царем, поклонился ему до земли, ответил: «А вот сколько, царь, – и, подумав, отрезал: – по восемь гривен». Царь Петр воскликнул: «Ох и много же ты денег берешь! Куда же ты эти деньги деваешь?» Мужичок подумал, почесал в бороде, вздохнул и ответил: «Две гривны в долг закладываю, две гривны долг отдаю, две гривны на себя и жену трачу, а две гривны бросаю на ветер. Вот и все мои, царь, и деньги». Царь Петр спросил: «Что это такое, что долг отдаешь две гривны?» Мужичок ответил: «А это значит, что у меня есть отец и мать. Так вот они меня растили и кормили, а теперь я их, старых и глупых, покою. Вот это и есть долг». Царь Петр покрутил усы, подумал и спросил: «Скажи, пожалуйста, кому закладываешь долг?» Мужичок ответил: «У меня есть два сына малых, которых я питаю. Вот это и есть заклад в долг. Когда я стану старый, тогда они будут большими и станут меня питать – долг возвращать». Царь Петр подивился мудрости мужика и спросил: «Ну, а скажи, пожалуйста, еще, что это значит такое «Две гривны бросаю на ветер»?» Мужичок поежился от страха, но все же ответил, так как знал, что царю врать нельзя. «Жалованье плачу твоим сенаторам. Плачу им за то, что они тебе, царь, врут, как цыганы, ничего у тебя не работают, а только сладко питаются и обворовывают твою казну. Вот эти две гривны и бросаю на ветер». Царь Петр выслушал умные ответы мужика, покрутил усы и уехал. В тот же день он призвал во дворец своих сенаторов и объявил им то, что сказал ему мужичок, и прогнал их со службы. Потом послал денщика за мужиком. Пришел он, снял шапку и коснулся лбом пола, а потом упал в ноги царю. «Ну, теперь ты у меня станешь за главного», – сказал Петр и тут же его назначил над всеми сенаторами. Мужичок сел в мягкое бархатное кресло и сразу заважничал. Перестал узнавать знакомых, проходил мимо, а когда они кланялись ему, он поднимал голову выше и еще более важным становился. Не прошло и года, как он зажирел, превратился в каплуна и позабыл, что он совсем недавно был мужиком, стал не лучше того сенатора, на место которого сел, врать царю и обворовывать его казну. Петр, присматриваясь к своему новому сенатору, ничего не говорил, а только отплевывался.





