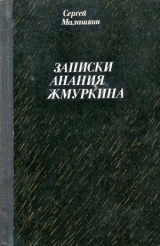
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Сказав это, старик прикрыл веками глаза, и его лицо приняло еще более хмурое выражение.
– И вас за такую вежливость к купчихам, ехавшим в баню накануне приезда губернатора, могли забрать в участок и избить, – сказал я серьезно и посоветовал: – Не выражайте такую почтительность к «отцам города», к дородным их супругам и чадам.
Тимоничев с высоченного, почти саженного, своего роста поглядел насмешливо на меня, вздохнул и, подумав малость, равнодушно пробурчал:
– Вы правы, Ананий Андреевич. Теперь, когда я согласился стать продавцом газеты и буду иметь кусок хлеба, мне не к лицу быть таким «почтительным» к господам купцам.
Мы прошли в конец Подьячевской улицы, остановились у красного здания почты и телеграфа, я вручил деньги Тимоничеву на подписку пятидесяти номеров «Правды» и отошел в сторону от подъезда. Стояла весна тысяча девятьсот двенадцатого года, солнце приятно грело, каменная мостовая под его лучами казалась пепельно-сиреневой, на деревьях прозрачно светили молоденькие робкие листочки. Тимоничев вышел, подошел ко мне и вручил квитанцию на подписку.
– На месяц, а потом как? – спросил он.
– В конце месяца снова подпишитесь.
Разговаривая, мы вернулись на Дворянскую улицу, спустились к реке, прошли мост, вышли на широкий ярко-зеленый луг, пылающий часто разбросанными червонными одуванчиками и еще какими-то ранними голубенькими цветами, и стали прохаживаться по тропочке вдоль берега Красивой Мечи.
– И я помню, как встречали губернатора, – оборвал я рассказ Тимоничева. – Я в день его приезда работал в конторе Чаева, делал из красного дерева божницу для его кабинета.
Губернатор в синем мундире, в орденах приехал в город из имения предводителя дворянства Хлюстина, остановился в гостинице Шульгина, в лучших номерах второго этажа. Отдохнув коротко, он, невероятно жирный мужчина, с тремя подбородками под широченным малиновым лицом, перед тем как отправиться на вокзал, вышел на балкон, принял поздравления от купечества, поблагодарил его и, махнув платком, скрылся. Купцы и купчихи, празднично нарядные, остались на мостовой, потея и тихо переговариваясь. В стороне от них стояла толпа мещан и приказчиков и, не моргая, круглыми глазами уставилась на балкон, стараясь сквозь двойные стеклянные двери увидать хозяина губернии.
Возле парадного гостиницы вдруг началось оживление: из него вырвалось полдюжины в синих фраках и мундирах помещиков, среди которых были толстые и тонкие, круглоголовые и длинноголовые; потом следом за ними грузно выплыли его высокопревосходительство и предводитель дворянства Хлюстин с длинной головой, прикрытой форменной фуражкой. Три тройки, звеня бубенцами, подкатили к подъезду. Губернатор, поддерживаемый молодым, красивым, но совершенно лысым чиновником с звездою на груди, с трудом поднялся в коляску. Подле него пристроился красивый чиновник и, посверкивая звездой, лысиной и голубыми счастливыми глазами, приказал кучеру: «Пошел!» Краснорожий, с усами жандарма, прямой, как палка, кучер в бархатной темно-зеленой безрукавке, в малиновой рубахе со сборками на плечах, в плисовой черной шапочке с павлиньими перьями, горевшими разноцветными огнями, натянул вожжи, негромко гикнул, и тройка вороных коней, грызя удила, сбрасывая с них пену и бешено кося лилово-огненными дикими глазами, рванула от гостиницы и, шелестя дутыми резиновыми шинами, понеслась по главной улице, вымощенной булыжником. За нею покатили и остальные тройки, сияя зеркальными каретами. Впереди них предводитель дворянства Хлюстин с выпученным взглядом, щеки его длинного, лошадиного лица отвисли и тряслись, как бы собирались выпрыгнуть из кареты и вернуться в номер гостиницы. Следом за ними остальные помещики уезда. За дворянами помчался на сером орловском рысаке городской голова Чаев, гласные городской управы Иванов, Бородачев, Алексеев и другие купцы первой гильдии. Они старались перегнать друг друга на широкой центральной улице, каждый из них старался быть первым за дворянами, ближе к губернатору. Резвый, стоя навытяжку на повороте на Вокзальную улицу, грозил рукой в белой перчатке тем купцам, стремящимся на своих рысаках обскакать городского голову, строго прикрикивал:
– Господа, придерживайтесь порядка! Господа, соблюдайте порядок!
Но Резвого никто не слушал, – неслись не гуськом, а вразнобой по всей ширине улицы, так мчались, что животы у купцов поднимались к бородам, а у купчих розоватые подбородки, перья и искусственные цветы на широких шляпах тряслись и подпрыгивали. Толпа мещан и приказчиков, давя друг друга, шумно оживилась, сорвалась с места и побежала не по главной улице, не за каретами и пролетками, провожавшими губернатора, а свернула в узкий переулок, чтобы по нему сократить путь до вокзала. Эта толпа так стремительно скатилась по крутому переулку, заросшему густой травой, на полотно железной дороги, что за полчаса опередила не только приезд на вокзал его превосходительства, предводителя дворянства Хлюстина и дворян, но и купцов, запрудила собой Вокзальную площадь и перрон.
– И вы находились в этой толпе? – обратился я к Тимоничеву.
– Конечно. Глупо было, сознаю, бежать за каретами и пролетками, но бежал, как все обыватели. Да, да, Ананий Андреевич, не помня себя бежал: захватил, как и вас, порыв толпы! – проговорил откровенно Тимоничев и пояснил с саркастической улыбкой на квадратном серо-землистом лице: – Губернатор приехал, вот и решил посмотреть на него! Ананий Андреевич, ведь нам, смертным, как вы знаете, не так часто выпадает счастье в жизни видеть таких блистательных особ.
Я ничего не сказал ему. Он глядел мимо меня, и лицо его в эту минуту было сухим, злым и в то же время ядовито-насмешливым.
Мы помолчали. Потом поговорили о том, как надо распространять «Правду», чтобы ее читали не только рабочие депо и винокуренного завода, но и крестьяне, приезжающие на базары.
Уже надвигались сумерки, когда мы вернулись с луга в город и разошлись, каждый в свою сторону.
VII
Поезд продолжал стучать, и в этот стук как бы вплетались обрывки моих воспоминаний.
…Дни и вечера проходили тускло и медленно в городке. Что касается ночей, то и о них надо сказать, даже необходимо, ибо они, эти ночи-ноченьки в нашем городке черноземной полосы России, бесконечно длинны, приторно-душны, как пуховые перины, на которых понежилось не одно поколение купцов и белотелых купчих, проползали еще медленнее, чем дни и вечера; и купцы и чиновники, занимавшиеся картежной игрой и топтанием вокруг биллиардов до утренних зорь, провонявшие табачным дымом, не замечали того, как ночи-ноченьки проползали и срывались в вечность. Одни только белотелые купчихи и чиновники, томясь в жарких пуховых перинах, чувствовали себя приподнято-нервно, разгоряченно, в сладостно-душных снах видели себя как бы на бархатно-звездных шлейфах ночей: охали, ахали, вздыхали и проваливались в сладостную тьму. Итак, кроме тишины, домашнего уюта, домашних добрососедских приятностей, заключающихся в беседах, в перебирании косточек знакомых и незнакомых, поигрывали в карты, играли в «козла» и в «подкидного дурака», в «короли» и в «пьяницы». Бывали и такие страстные купчихи, которые не удовлетворялись карточными играми и беседами между собой и в отсутствие супругов, проводивших ночи-ноченьки в клубе, допускали к себе в спальни усатых приказчиков или лихих жилистых кучеров и баловались с ними. Впрочем, оставим эти игры купчих, так как они не оживляли жизнь в городке, не делали ее бойкой, веселой, красочной, какой она должна бы естественно быть. В городке стояла непоколебимо тишина и духота. О балах, о свадьбах, и в особенности, о заседаниях управы, иногда весьма бурных, я не говорю только потому, что они не так были часты, проходили за толстыми каменными стенами желтого, приземистого, с невысокой башенкой дома. Умалчиваю о таких заседаниях только потому, что о них может рассказать любой мальчишка, собирающий окурки папирос у растворов бакалейных магазинов, мучных и рыбных лабазов. Да, да, любой мальчишка, сдвинув со лба картуз с промасленным козырьком на затылок или на какое-нибудь ухо, расскажет вам, если вы спросите у него о чьих-нибудь знатных именинах, или о заседаниях в управе, или о буйной свадьбе у купца Чугунова: он дочку выдавал за купца Чёсова, и гости до того упились, что облевали гостиную, лестницу, тротуар и часть улицы, а домой разъехались в синяках, с визгом и гоготом. А два дня тому назад в городской управе гласные, перед тем как открыть заседание, целовали руку Екатерины Ивановны Чаевой. Купец Пулькин, степенный старообрядец, не приложился к руке ее; он только нагнулся и хотел поцеловать, но не мог – солидность не позволила, с треском отлетели пуговицы от длинного сюртука. Екатерина Ивановна откинулась, отчего ее могучая грудь уперлась в подбородок, широкое лицо покраснело и выразило сразу удивление и смущение. Придя в себя, она встряхнула надушенный платочек и помахала перед своим сморщенным носом. Пулькин до того сконфузился, что не обратил никакого внимания, хотя был ужасно скупым, на пуговицы, упавшие на пол, на приглушенный хохоток гласных, в смущении просеменил за длинный стол, плюхнулся на стул и уперся серой лопатообразной бородищей в край стола. Кроме мальчишек, шныряющих всюду, знали купчихи о свадьбах, балах, именинах и заседаниях управы. Они пряли сладостную до приторности словесную пряжу со своими соседями, их соседи – со своими соседями, и эта пряжа тянулась, опутывала и туманила городок так, что весеннее солнце, стоявшее над ним, казалось мухой в паутине.
– Глафирушка, слышала, что Екатерина Ивановна назначила заседание управы на завтра?
– Неужели она такую силу забрала, что вместо головы сама назначает заседания?
– А почему бы ей не забрать, ежели у нее супруг под каблуком, да и все гласные, кроме моего Алексеевича.
– Так уж и все! – вспылила Глафирушка. – Выходит, ежели согласиться, Дарьюшка, с тобой, то и мой Дормидон под каблуком у Катьки?
– Я этого, Глафирушка, не сказала о Дормидоне.
– Верно, не назвала, но подумать можно, что только один твой муженек не под каблуком.
– Не станем пререкаться, Дарьюшка. Заседание это будет о строительстве моста.
– Да-а? Это, говорят, идея Екатерины Ивановны. Вся управа стояла за паром, а она – за мост. Ну и всех смяла!
– Противная баба, что хочет, то и ворочает в управе.
– И я это самое говорю: баранки крутит из гласных, а они, битюги, терпят, лижут жирную руку у нее. Я плюнула бы в ее срамное оголение. Кто из нас, порядочных, решится показывать сиськи, как она?
– Положим! Я вас тоже видела на балу с открытой грудью, – заметила вежливо, с нотками яда в голосе Дарьюшка.
– В меру, в меру, – закатывая зеленые глаза, медово ответила Глафирушка. – Была тогда в бархатном платье, вот я и повольничала. И… только! И мне, милочка, никто не целовал руку и, целуя, не лупил глаза… Я не Екатерина Ивановна, по щеке смазала бы того, кто глянул…
– И все целуют руку у Екатерины Ивановны, – протянула с затаенной завистью Дарьюшка, вглядываясь в постное лицо Глафиры.
– Целуют? А как же не целовать, раз она ввела такой этикет в управе!
– Не говори, милая. Мы ведь с тобой скромницы, не то, что Чаева: ни за тобой, ни за мной владыка не бегал по саду до утренней зари.
– И по росе.
– По росе… промок, длинногривый, до пояса. Рясу сушили на утреннем солнце.
Обе купчихи, потупив глаза, вздохнули. Одна вспомнила, как она каждую субботу (муж в эти часы сидит за конторкой в магазине) ездила с усатым и жилистым кучером в баню и при помощи его смывала с себя грехи в жарком номере, пахнущем березовым веником. Другая вспоминала акцизного чиновника с тонкими черными уликами, сероглазого, похожего немножко лицом на морду рыси, – она принимала его тогда, когда ее супруг проводил ночи в клубе; вспоминала она и тощего длинного конторщика, который был без ума от ее прелестей, но она, будучи влюбленной в чиновника, не обращала внимания на второго… и пострадала. Конторщик, доведенный до отчаяния ее холодностью к нему, насыпал на ступеньки лестницы муки. Чиновник в потемках не заметил, прошел по ней и… наследил в спальне. Конторщик не заснул до рассвета, пока не вышел из дома чиновник. Через час вернулся хозяин из клуба и, увидев на паркете и на красном ковре белые следы, взревел: «Кто наследил?! Мукой, что ли, тут торговали?»
Конторщик ответил, притворно позевывая: «Как только вы, хозяин, изволили уйти в клуб, явился акцизный чиновник Асанов и, не зажегши света, прошел к Дарье Филипповне. Думаю, он и наследил… Да и ушел он только что-с, как вам прийти». Конторщик собрался еще что-то доложить, но хозяин, помрачнев, рванулся от него. Войдя в спальню, он зажег спичку и увидел белые пятна на полу. «Кто здесь был только что?» – взревел он. Дарьюшка не отозвалась, притворилась крепко спящей. Тогда он, не желая терять слова, как говорят, на ветер, начал кулаками ее охаживать. Дарьюшка взвыла таким дюжим басом, что задрожали каменные стены дома. Все это она вспомнила сейчас и томно вздохнула. Эта история была известна не только Глафире, но и многим в городке. После этого Дарьюшка перестала принимать Асанова, заменила его конторщиком и нисколько не скорбит о первом. «Васютка-то оказался покрепче, погорячее, – похваливала она про себя, – а главное – не важничает передо мною, как Асанов, своим дворянским происхождением».
– Ты права, Глафирушка! Мы верны своим мужьям, а верны потому, что бога не забыли, часто в храм божий ходим, – потупив глаза, поддержала свою подругу Дарьюшка.
– И я такого же мнения о Катьке, – подхватила Глафира. – Стоял у входа в зал заседаний дубовый стул, а теперь убрали и на его место поставили, представьте себе, золотисто-бархатное кресло. Говорят, его лично на себе принес Малаховский. Социалист, а подлизывается…
– Он недурен собой, вот и надеется, что миллионерша снизойдет к нему.
– А почему и нет, когда у нее бесстыжие глаза…
Наговорившись в управе, гласные разъезжались на рысаках по домам и, плотно поужинав, рассказывали в сотый раз почти одно и то же своим женам – как они целовали руку Екатерины Ивановны. Жены, округлив глаза, жадно и завистливо слушали, вспоминали имя божье, крестились, плевались и сокрушенно шипели:
– Срам один.
– Груди напоказ, жирные.
– Господи, как срамница…
– И вы, именитые купцы, прикладывались…
– А как же быть, ежели все?
– А я бы плюнула в ее сало!
– Плюнешь и попадешь себе в бороду.
Прополоскав косточки Екатерины Ивановны, купцы говорили, жаловались, вздыхая:
– Мужик обнищал, оскудел, ничего не покупает.
– Мужик не оскудел, а немцы торговым договором задавили.
– В этом и несчастье России!
Обедали в купеческих домах ровно в два часа дня; после сытного обеда и сладкого послеобеденного сна на пуховиках, которые, перед тем как завалиться на них, горничные или же кухарки сбрызгивали одеколоном и духами, чтобы они, пуховики, не пахли по́том или какой-нибудь сыростью и прелью, отдающей запахом глины. В половине пятого купчихи просыпались, степенно, с достоинством, с неторопливой молитвой усаживались за столы, на которых, сияя беловатой медью, приветливо и весело кипели ведерные самовары, пузатились вокруг них позолоченные чашки, громоздились на тарелках ватрушки и с разными начинками пирожки, и приступали со всей деловитой серьезностью к чаепитиям.
Такой же порядок был установлен и в доме Марфы Исаевны Тулиной.
VIII
– Матушка, Семеновна, что же вы не берете варенья-то? Без него чай не чай, – опорожнив чашку и наполняя снова чаем, промолвила все еще сонным голоском пожилая, круглолицая, толстогубая, с бородавкой на подбородке и малиновым носом хозяйка.
Я, пока отдыхала на воздушной перине Тулина, на широкой и длинной террасе покрывал коричневым лаком стулья и кресла, – стучать и пилить мне не разрешалось, чтобы не потревожить ее послеобеденный сон. Я только начинал столярничать – доделывать буфет – в тот час, когда Тулина садилась со своими близкими знакомыми за стол, за долгое чаепитие. Тулина, разговаривая с Семеновной, не только не стеснялась вывертывать наизнанку своих соседей и знакомых предо мной, но, как казалось мне, совершенно не замечала меня. Марфа Исаевна, сказав это, бросила взгляд на окно, выходившее через террасу в тенистый сад, где в зелени и в белом цвете вишен и яблонь стоял птичий гам, частила металлическим говорком сорока, отрывисто каркала ворона – она как бы выполняла роль баса в звонком, заливистом птичьем хоре. Тулина отвернулась от окна, уставилась на Агафью Семеновну Зазнобину и собралась что-то еще проговорить, но та, поймав на себе взгляд благодетельницы, опередила:
– Как же, как же… благодарствую, Марфа Исаевна, выпью и с вареньем. Какое оно у вас?
– Вишневое. Хотя и прошлогоднее, но на вкус такое, как бы только что сваренное, – похвалила Тулина.
– Сами варили?
– Кухарке не доверяю, всегда сама, своими ручками.
– Не говорите! Ручки у вас, благодетельница, золотые, – изобразив на длинном рыжеватом лице удивление, Зазнобина прошелестела тонкими сизовато-шелковыми губами. – Да, оно у вас всегда на диво… – и положила варенья на фарфоровую розетку.
– Все, кто бывает у меня в доме, хвалят варенья. Сама Екатерина Ивановна, супруга городского головы, у меня чай кушала.
– Да ну! Неужели была?
– А почему бы ей, Семеновна, не быть у меня, а? – вскидывая рыжеватые брови, спросила с обидным возбуждением Марфа Исаевна, и ее малиновый нос вытянулся – принял форму клюва. – Была, была… и так душевно разговаривала. А когда собралась домой, взяла баночку вишневого. Да, да, обошлась со мной запросто, как с равной: будто и я для нее, как и она, миллионерша.
– Благодетельница моя, вы не так поняли меня, – испуганно и умоляюще пискнула Зазнобина, зыркая угодливо-влажными, как бы плачущими глазками, готовыми выскочить из орбит и покатиться шариками по синевато-белой скатерти.
– Я все поняла, – смягчаясь, возразила хозяйка, и нос ее принял естественную форму.
Зазнобина успокоилась, налегла на чай и ватрушки.
– Славное у вас, благодетельница, варенье; такого варенья, скажу я вам, в нашем городе ни у кого нет.
– И я так думаю, – ответила Марфа Исаевна и поджала толстые губы.
– И ватрушки вкусные, пышные – тают во рту. С вашего разрешения, благодетельница, я еще положу вишневого и возьму ватрушечку.
– Что за разговор, Семеновна… Кушайте без черемония! Мне ничего не жалко. И на стол ставлю для того, чтобы кушали.
– Дочку еще не просватали? – вонзив желтые зубы в ватрушку, спросила Зазнобина.
– И-и? Это Лидочку-то?
– Ее, благодетельница моя, ее.
– Зимой наклевывались женихи, да… не подошли, какие-то жидкие, а денег, прощалыги, просят уйму.
– Своих не нажили, вот и просят, – ввернула со вздохом Семеновна. – Ежели попадется хороший, серьезный жених, – денег, благодетельница, не жалейте. А прощалыг – в шею!
– Серьезных, матушка, не было, навертывались одни ледащие. Им не девка нужна, а деньги да сундуки с нарядами.
– А за сынка, Сереженьку, не присмотрели? – вонзив зубы в четвертую ватрушку и закатывая глаза под лоб, спросила Семеновна.
– Приглядела, приглядела… и родители ее согласны… и немало денег дают. Завтра бы Сереженьку и под венец.
– И не медлите, благодетельница. Куйте железо, пока горячо.
– Я бы, Семеновна, не промедлила, да ведь Сереженьке трех месяцев не хватает до совершеннолетия.
– А вы, благодетельница, с протопопом собора поговорите. Он для вас все сделает.
– Говорила, Семеновна, на пасхальной неделе говорила, когда он был у меня с иконами и обедал.
– Ну и что же?
– «Нельзя, – сказал протопоп. – Ваш Сереженька молод, он еще в бабки с ребятами играет».
– Фу, длинноволосый черт! Это он, как слышала я, свою старшую дочь метит за вашего, благодетельница, сынка.
– Этому, Семеновна, никогда не бывать! Об этом я наслышана, – собрав на лбу сердитые морщины, отрезала Марфа Исаевна.
– Еще бы, такую квашню и – за Сереженьку. А сколько, благодетельница, невесте-то годков?
– Двадцатый переступил, только-только что, – ответила хозяйка и, вздохнув, пояснила: – А какая, скажу я вам, скромница… В городской сад – ни-ни; вечера у окошка проводит и, глядючи на моего Сереженьку, играющего в бабки с ребятами, иногда и рассмешит меня: «Марфа Исаевна, вы б Сереже штанишки подлиннее купили». И зальется, разольется рассыпчатым, как колокольчик, смехом. И я, слушая ее смех, не вытерплю – рассмеюсь.
– Да чья же эта красавица дочка?
– Алексея Федоровича Бородачева.
– И-и? Наслышана, наслышана, благодетельница моя, о ней: большая умница, серьезная такая. Да и капитал у ее папаши немалый: три дома на главных улицах, четыре булочных магазина. И одевается она как королева. Надо не медлить со свадьбой. Суньте сотенки три-четыре в руки протопопу – и он обведет вокруг аналоя, женит в один миг Сереженьку. Он деньгу любит, какая легко плывет ему в руку, это я знаю.
– Жалко, но придется сунуть.
Солнце село, пепельно-синие сумерки влились в открытые окна, сад потемнел, и из него острее потек в комнаты сладковатый запах яблоневого и вишневого цвета, защелкал соловей за Красивой Мечой, что плескалась за садом, выплыл оранжевый диск месяца, и мне показалось, что он медленно поплыл куда-то вместе с садом. Вошла Лида, на ней кремовое платье; она пухленькая, курносая, но приятная (такой была в молодости ее маменька). Она поздоровалась с гостьей. Та поднялась и, сладенько улыбаясь, чмокнула совочком губ молочно-розоватую щеку девушки, прошелестела, оценивая ее знающим взглядом:
– Ну прямо писаная красавица, первая в городе.
– Первая ли в городе, этого я не могу сказать… но на нашей улице, пожалуй, такой пригожей, как моя Лидочка, и нет, – ответила со скромной улыбкой хозяйка, чрезвычайно польщенная словами Семеновны.
Разговор о Лидочке, ужасно покрасневшей и смутившейся от похвал матери и Семеновны, они, возможно, и продолжили бы, если, бы не появился в эту самую минуту Сереженька. Он вошел вразвалку, небрежно. Одно плечо у него выше; вошел боком, как бы неохотно. Заметив Зазнобину, остановился, прогудел натужливым басом:
– Я – Тулин. Здравствуйте, Агафья Семеновна!
Зазнобина поперхнулась чаем, вытерла губы и подбородок, обернулась к Сереженьке, почтительно буркнула:
– Как вы, Сергей Тимофеевич, напугали меня. Таким голосом, как помню я, говаривал ваш покойный папенька.
– Я это знаю. Простите Агафья Семеновна. Я не хотел пугать вас. А что голос у меня гудит, как труба, так в этом виноват мой папенька: он своим басом, когда пел на клиросе, голос соборного протодьякона побивал. Да и лицом и фигурой я очень похож…
– Иди, иди, дитятко, спать уже время, – разглядывая сына, промолвила ласково Тулина. – Да и мне уже пора. Устала я, и косточки у меня так и мозжат, так и мозжат.
Лида и Сереженька попрощались с Зазнобиной, поцеловали маменьку и разошлись по своим комнатам. Гостья встала, истово помолилась на божницу, коснулась три раза губами к щекам благодетельницы и засеменила к выходу. Выйдя на крыльцо, она поправила концы черной косынки на груди, спустилась со ступенек и пошла.
Сложив в уголок инструмент, вышел и я.
В переулке, который начинался от Красивой Мечи, Семеновна попала в пепельно-желтоватый свет месяца; темная кошка пересекла путь женщине; она вздрогнула от страха, приложила руку к сердцу и, встретившись со смеющимся взглядом кошки, раздраженно плюнула на нее, повернула назад, вышла на Подьячевскую, затем на Никольскую и, помолившись на церковь Покрова, белевшую в робком свете месяца, и проклиная вслух кошку и месяц, свернула на Тургеневскую и по ней, совершив порядочный крюк, добралась до своего домика.
Я незаметно, по теневой стороне, прошел мимо нее.
На длинной горбатой улице горели три керосиновых фонаря. Слышно было, как на лесопильном складе Пулькина хрипло брехали собаки, бегая по проволокам и звеня цепями.
– Эно, царица небесная, как псы надрываются! Не доски и бревна, дьяволы осатанелые, охраняют, а девок, чтобы не забрались к ним их возлюбленные, – проговорила громко обидным голосом Семеновна. – Нашла старшей жениха – так дедушка их меня в шею вытолкал. Охо-хо! – Из открытых окон кирпичного домика, что прилип правой стеной к кособокому домику Зазнобиной, как бы поддерживая его, чтобы не свалился, звонко и печально лилась песня, сыпались звяки ножей и вилок. – Опять Розка, дочь соседки, несчастной вдовы, как и я, поет «Чайку». Далась ей, дуре заседелой, эта Чайка с подстреленным крылом. Марья Ивановна глушит водку с квартальным надзирателем Резвым, рябым чертом, а дочка поет… – Семеновна неодобрительно гмыкнула но адресу соседки, со вздохом поднялась и, распахнув дверь, прошмыгнула в сенцы.
Месяц поднялся выше; цепные псы на лесном складе Пулькина забрехали громче.
Им отозвались дворняжки на соседних дворах.
Я подошел к дому Раевской.
IX
На другой день, ровно в четыре часа дня, Зазнобина прибыла к Ирине Александровне Раевской. Дом Раевской находился на Дворянской улице, в самом конце, за Старой базарной площадью; пожаловала Агафья Семеновна к Раевской как раз к послеобеденному чаю. И в этом доме дни и вечера текли медленно и тускло, текли мирно и лениво, как и в других уездных городках необъятной России. Только в тысяча девятьсот двенадцатом году, в год засухи, зноя, в год ветров и беременных баб, в год блуда купчих и крестных ходов, в доме бывшего присяжного поверенного (папаши Феди Раевского: его папаша умер как раз через три дня после своей свадьбы) пили чай, пили так, как пьют в купеческих домах, пили в пятом часу вечера, не позднее и не раньше, ибо Феденька, несмотря на свое мещанское звание, строго придерживался всех купеческих правил – не отступал от купеческого быта, их привычек и культурных запросов этого почтенного сословия: читал «Новое время», а чаще «Голос Москвы», чтобы быть верным последователем Гучкова, одного из замечательных людей, как любил часто выражаться Феденька.
– Я хочу, Ананий Андреевич, проводить его идеи в общественной жизни в собственном доме, – заявил однажды решительно Феденька, так решительно, что его маменька, услыхав его звонкий, твердый голос, ахнула и, склонив голову в мою сторону (я пил чай слева от нее), шепнула, что ее голубок необыкновенный человек, потому необыкновенный, что родился он не от присяжного поверенного, ее нелюдимо-спокойного супруга, а от божьего человека, порхающего, как ангел крылатый, по земле.
– Если мы, маменька, поглядим внимательно на выдающихся людей, – убеждая маменьку, а больше, конечно, меня, сыпал-рассыпался звонким красноречием Феденька, – ну хотя бы на одного из них, на Льва Николаевича Толстого, который никогда не позволял того, чтобы ему (где и от кого Феденька это слышал, я не знаю) лакей или кто-нибудь из прислуги подавал стул или кресло… Да, да, маменька, он сам всегда брал для себя стул или кресло и садился.
Так ли поступал Лев Николаевич Толстой, я не знаю, но и не могу не верить в этом Раевскому. Да и как я мог не поверить такому талантливому юноше, когда маменька с трепетным сердцем и с благоговейно открытым ртом слушает его, Это еще что! Его маменька, Ирина Александровна, никогда не возражает ему, когда он назидательно, убежденно и почти сурово наставляет ее, если она уклоняется от купеческих привычек и этикета в своей домашней жизни. Заметим: она не любит, даже очень сердится и на тех юношей и пожилых, ежели, когда он говорит, они имеют свое мнение о купечестве, возражают ему. Вот только поэтому и я, ее квартирант, не возражаю Феденьке. Слушая Феденьку, Ирина Александровна краснела, молодела (она была недурна собой, несмотря на свои сорок лет), робко, сладостно, как бы капая медом, лепетала:
– Феденька, я всеми силами стараюсь держаться купеческих привычек, купеческого итикета.
– Не «итикета», маменька, а «этикета», – поправлял с нервным взвизгом Феденька свою маменьку (она была дочерью всеми уважаемого дьякона Успенской церкви).
– Знаю, знаю! Надо говорить «итикет».
Федя Раевский ладонями зажимал свои большие красные уши, кидал недовольно-сконфуженный взгляд на меня и в великом отчаянии убегал в свою комнату или в сад, полный весеннего благоухания и птичьего неугомонного гама, кружился из одного края в другой с зажатыми ушами, от крылечка к забору, от забора обратно. Ирина Александровна со страхом скрывалась в боковую комнатку, служившую спальней и молельней, падала на колени перед иконами, молилась и молилась, прося угодников, чтобы они просветили ее умишко. С разночинцами Феденька не изволил знакомиться; он не мог и слышать их вольнодумства, идущего вразрез его мыслям, установившимся устоям законного порядка. Не уважал он, разумеется, и мещан: относился свысока и презрительно к этому многочисленному сословию, хотя и сам являлся членом его. Ирина Александровна и при Семеновне проштрафилась перед своим ненаглядным голубком: сказала не «этикет», а «итикет». Услыхав это слово, Феденька, вернувшись только что из сада, опять вспыхнул румянцем:
– Маменька, «этикет», а не «итикет».
– И я говорю, Феденька, так, как и ты. Что, голубок, ко мне, старой, придираешься?
Феденька выпрямился, развел руками широко-широко и, как распятие, страдальчески постоял над столом, а затем бросился из-за стола, упал лицом на подушку, лежавшую на диване, расплакался так, что белоснежная, пахнущая ландышевыми духами наволочка взмокла от его слез, потемнела. Ирина Александровна, услыхав рыдания Феденьки, вздохнула и, взглянув на Семеновну и меня, метнулась к сыну.
– Феденька, скажи, чем я обидела тебя? – спросила надрывно она, сквозь слезы, не чувствуя никакой вины за собой.
Феденька, ее ненаглядный голубок, не ответил на вопрос своей маменьки, дергал острыми плечиками, содрогался всем туловищем. Ирина Александровна выпрямилась, села за стол и, роняя слезы на скатерть и чайное блюдце, в котором желтел стынущий чай, уже не спрашивала Феденьку, а безжалостно казнила и казнила себя:
– А, какая я дура… И кто это придумал такое слово «итикет»? Не хочу, не хочу слышать его в доме! Ах какая я дура! – Так она казнила себя мучительно; ну прямо, ну прямо была жестоким инквизитором над своим добрым материнским сердцем; она перестала казнить себя только тогда, когда ее голубок поднялся с дивана, прямой, стройный, и, не поглядев на маменьку, повеселевшую малость, сел за стол и принялся за прерванное чаепитие.
Ирина Александровна, посматривая умильно, украдочкой, счастливо из-за самовара, пылающего серебристой медью, на своего ненаглядного, севшего за стол и взявшего булочку, еще больше повеселела, хотя в ее серо-синих глазах и поблескивали хрусталем слезы.
И Семеновна, глядя на свою благодетельницу, тоже повеселела и смахнула платочком слезинки с ресниц.





