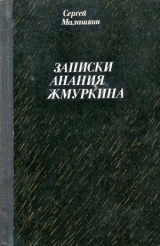
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
– Мы, друзья, все в сборе. Прошу в столовую.
Мы поднялись и друг за другом, цепочкой направились к двери. Хозяин, потирая руки, с радостной улыбкой пропускал нас мимо себя. Когда мы вошли в другую комнату, которая была раза в два больше первой, вошел за нами и хозяин. Ольга Петровна усаживала гостей за большой стол, на котором стояли тарелки с закусками – колбасой копченой, чайной – от нее тонко пахло чесноком, тарелки с ветчиной, с хлебом черным и белым, бутылки с пивом, вином и два граненых графина с первачом, настоянным на лимонных корочках и на майских листьях черной смородины.
– Приятно, – проговорил один из гостей. – Ни одно гороховое пальто, если войдет, не подумает, что мы крамольники.
– Арсений Викторович сумеет создать обстановку. Он в этом деле великий мастер, – похвалил Рыжиков.
– Не скажи, – улыбнулся Исаев и откинулся к спинке стула, – непрошеные гости сразу увидят, с кем они имеют дело. Твоя личность, наверно, им хорошо известна. Думаю, никакими лимонными корочками не затуманишь им очи. Не будем говорить о них! – Он улыбнулся, подкрутил колечки светлых усов на смуглом, сухом лице.
– Да уж полиция и жандармы интересуются рабочим классом, – заметил Володя Карнаухов, молодой тонколицый рабочий со светлыми волосами и голубоглазый, – а вот писатели…
Гости и женщины подняли глаза на него.
– Что писатели? К чему ты вспомнил их? – спросила Серафима Петровна. – Хочешь, чтоб они писали о тебе?
– Конечно, – возразил горячо Володя, – и о других рабочих, – и его лицо зарделось, а глаза засверкали огоньками. – Даже очень хочу. Я вчера закончил читать роман известного писателя. Он описывает Петербург. Понимаете, товарищи, у него в романе герои чиновники, дворяне, купцы, студенты… и ни одного рабочего. И выходит по его роману, что дворяне, чиновники и студенты – Петербург, Россия. О рабочих этот писатель не говорит ни одного слова, будто их не существует в Петербурге, в России. Мы, понимаете, будто и не Петербург, не Россия.
– Врет твой писатель. Плюнь на такого писателя!
– Не мой, – возразил печально Володя, – и это досадно. Пишет здорово, талантливо. Вот потому-то и обида сильная у меня на него. Он, этот писатель-то, должен знать, что мы, рабочие, – Петербург, что мы, питерский пролетариат, – Россия, а не дворяне и чиновники.
– Этот писатель, если не понимает того, кто хозяин страны, плохой писатель, – заметила Серафима Петровна.
– Именно, Сима, так. Отлично сказала, – подхватил Исаев и обвел белесыми глазами собравшихся и, вздохнув, предложил: – Не знаю, как вы, а я пропустил бы рюмочки две-три за пролетарский Питер, за Россию… и, конечно, за упокой монархии и всех тех, кто ее поддерживает. Кто за мое предложение, тот друг и борец.
– Ну, это ты, Семен Яковлевич, перегнул, – возразил Карнаухов. – По-твоему выходит, что если я не пью, то я не друг тебе и не борец? Не согласен.
– Эх, Карнаухов, – сказал возбужденно Семен Яковлевич, – ведь она, водочка-то, смелости придает. В ней, матушка, огонек, и какой. Друзья, – обратился он ко всем, – взгляните на лицо этого юноши, слесаря с завода Лесснера. Видите, как оно у него молодо, здорово и краснощеко. Так это, доложу я вам, лицо нашей будущей власти, России. Хозяин, – метнул он загоревшийся взгляд на Арсения Викторовича, – будь добр, наполни рюмки. Выпьем за наше славное будущее. Оно уже, как сказал в комитете нашего района товарищ Званов, у порога…
Карнаухов смутился, покраснел, но не возразил Исаеву: он, как я почувствовал, не возражал против той власти, которую он будет представлять собой. Особенно его порадовали слова Званова, которые сказал Исаев, что будущее – у порога. Арсений Викторович взял графин, наполнил рюмки.
– Что ж, – справившись со смущением, проговорил тихо Карнаухов, – если назначите министром – не откажусь.
– Ого! – подхватил весело Семей Яковлевич. – Это мне нравится, по душе! Молодец, Карнаухов. Думаю, что тебе недолго придется ждать этого назначения. Вчера я читал в «Речи» статью какого-то кадета-профессора. Он от имени России смутно грозит каким-то отсталым личностям. Эти отсталые личности, конечно, не кто-нибудь, а мы… Ты, Володя, неправ в том, что нами, рабочими, интересуются только полицейские и жандармы. И литераторы интересуются нами! Они, правда, не пишут о нас таких романов, каких бы желали мы. Не пишут о нас-только потому, что днем и ночью думают о нас. Думают о том, как бы покрепче скрутить… – Он зло улыбнулся и подкрутил колечки усов на загорелом и сухом лице.
– Это так, – подняв рюмку, согласился Прокопочкин и предложил: – Я, бывший шахтер Донбасса, голосую за питерцев… за передовой авангард пролетариата.
– За передовое, мыслящее общество, – проговорил взволнованно Володя, – за общество новой России.
– Пожалуйста, гости, не громко говорите тосты, – предложила Ольга Петровна. – Я не хочу, чтобы соседи услыхали наши речи за стеной, в соседней комнате.
Шум голосов затих. Я смотрел на двух рабочих, молодых и прекрасно одетых. Они как-то смущенно и держа перед собой рюмки глядели на них. Эти рабочие не вмешивались в разговор, все время молчали и слушали, что говорили другие. По когда Исаев провозгласил тост за питерцев, они поднялись первыми и сказали в один голос: «Выпьем» – и крикнули: «Ура!» У одного, у которого светлая клинышком бородка и большие, тихие серые глаза, на руке, выше кисти, из-под манжета сорочки синел нарисованный якорь. «Моряк», – решил я. Второй был лет сорока, если не старше. На его широком и добродушном лице – ни бороды и ни усов. «Бреется часто и тщательно», – подумал я. У него черные глаза, блестящие, а нос широкий и немного красноватый. Подбородок тупой, раздвоенный. Первого звали Иваном Фомичом. Второго – Ильей Захаровичем.
– Говорят, святого старца утопили в Мойке? – смочив губы в красном вине, спросила Серафима Петровна и покосилась смеющимся взглядом на меня.
– Пуришкевичи и великие князья вряд ли теперь убийством старца остановят надвигающуюся революцию, – отозвался на вопрос Серафимы Петровны Семен Яковлевич.
– Оставим Распутина. Мир его поганому праху. Пусть раки кушают его на дне Мойки, – бросил Илья Захарович. – Лучше, – остановив взгляд на Исаеве, – Семен Яковлевич, расскажи нам, что произошло на Выборгской стороне. Ты, кажется, был в числе рабочих завода Барановского и ходил с ними на завод Рено?
– И ткачихи, вот они, – Семен Яковлевич показал взглядом на женщин, – были у рабочих Рено и, вместе с представителями завода Барановского призывали к забастовке… – ответил он. – О событиях на Выборгской знает весь Питер. Я удивлен, что вы, Илья Захарович, не в курсе событий. Да и ты, Ольга…
– Я опоздала, – отозвалась хозяйка. – Когда я пришла, район завода Рено уже был оцеплен казаками, полицией и жандармами.
– Мы ничего не слыхали, – удивился Прокопочкин. – Разве была забастовка в Питере? Тогда, Семен Яковлевич, введите и нас, бедных, в курс… – Он задержал плачущий взгляд на Игнате, Синюкове, а потом и на мне.
– Я в это время, Семен Яковлевич, находился на другом заводе, – пояснил как бы в свое оправдание Илья Захарович. – Завод, на котором я работаю, быстро присоединился к забастовке. О положении на Выборгской стороне мы узнали только в два часа ночи… от представителя Петроградского комитета.
Мы поддержали просьбу Прокопочкина и попросили Семена Яковлевича рассказать нам подробнее об этих событиях. Он в знак согласия кивнул нам головой и поднял выше рюмку.
– Выпьемте за предложенные тосты, – он первым опрокинул рюмку в рот.
За ним выпили гости, хозяин и хозяйка.
– Наш завод, как известно, прекратил работу раньше других, – начал Семен Яковлевич, как только все сели и стали закусывать. – Рабочие завода Рено не дали нам определенного ответа. Тогда… – Он запнулся и, подняв глаза на хозяйку и Карнаухова, которые разговаривали между собой, постучал лезвием ножа по тарелке, шутливо потребовал, чтоб выслушали его. – Два дня бастовали заводы Питера. Завод Рено не присоединился. Рабочие Барановского отправились к Рено, окружили завод и стали призывать рабочих к забастовке. Полицейские и жандармы набросились на рабочих. Последние камнями отразили их нападение. Градоначальник вытребовал из казарм, находившихся недалеко от завода Рено, два батальона пехоты. Солдаты тут же прибыли и открыли огонь из винтовок не по рабочим, а по жандармам и полиции. Жандармы и полиция в ужасе разбежались. Солдаты, перешедшие на нашу сторону, вызвали панику в правительстве. Председатель совета министров Штюрмер приказал командующему Петроградским военным округом немедленно послать казаков на подавление солдат и рабочих. Получив в свое распоряжение два полка казаков, градоначальник немедленно бросил их в бой. Казаки атаковали солдат и рабочих. Произошло кровопролитное сражение, и оно длилось несколько часов. Солдаты и рабочие были рассеяны только поздно вечером.
Семен Яковлевич вздохнул и замолчал.
Я, Синюков, Лухманов и Прокопочкин, затаив дыхание и не замечая гостей, смотрели на него. Из кухни вернулась хозяйка. Она поставила тарелку с шинкованной капустой на стол. За нею следом пришел и Арсений Викторович с шумевшим самоваром и водрузил его на середину стола. Хозяин и хозяйка подсели к столу. Семен Яковлевич положил шинкованной капусты на тарелку и просяще взглянул на хозяина, как бы говоря ему взглядом: «Друг, надо больше внимания уделять этим графинчикам. Они могут обидеться, если их не опорожнят». Арсений Викторович понял его взгляд, взял графин с настоянным на смородине спиртом и наполнил рюмку Исаева, а затем и остальные. В рюмки Прокопочкина, Володи и свою он плеснул из другого графина, в котором плавали, золотясь, лимонные корочки.
Синюков спросил:
– Казаки, выходит, победили? Как же они могли победить пехоту?
Семен Яковлевич выпил, поставил рюмку на стол, вытер батистовым платком колечки усов, бросил вилкой капусты в рот и сказал:
– Да, товарищ. Тут, признаться, солдаты, а больше мы, рабочие, виноваты – опростоволосились… Разгромив жандармов и полицию, мы стали приветствовать солдат. Солдаты, конечно, нас. Потом открыли митинг. Ну и, конечно, увлеклись здорово, не заметили, как казаки окружили район заводской и открыли сразу огонь по нас, а потом пошли в атаку. Словом, сильно виноваты. Впрочем, о победе казаков помолчим.
– Выпьемте за солдат, – поднимая рюмку, предложил Прокопочкин.
Все выпили. Арсений Викторович снова наполнил рюмки.
– Э-э, так не годится, товарищи, – запротестовал Семен Яковлевич. – Раньше выпейте сами, сравняйтесь со мной, и тогда…
Гости подчинились его требованию, выпили. Хозяин наполнил их рюмки.
– Теперь, товарищи, за солдат! – воскликнул Семен Яковлевич, повторил тост Прокопочкина и выпил. – А теперь, товарищи, баста: моя душа, как вы знаете, больше пяти рюмок не принимает.
Выпили все, кроме меня и хозяйки. Серафима Петровна, поставив пустую рюмку на тарелку, толкнула меня локтем в бок:
– Ананий Андреевич, а вы? За солдат, заступившихся за рабочих, не хотите выпить? Не хотите, а? Если не выпьете, то в гости не приходите: не приму.
– Вы и не приглашали меня, – ответил я и отказался от водки. Отставил подальше от себя рюмку. Водка чуть золотилась – в ней плавала лимонная корочка, и она казалась огоньком.
– Ну ладно… тогда вот что сделайте для меня… – не закончив фразы, женщина остановила смеющийся взгляд на мне.
– Что?
– Бороду сбрейте, – рассмеялась она громко. – Уж больно вы страшны в бороде… на дикобраза похожи.
Я в свою очередь пошутил.
– Хорошо, – ответил я соседке, – если освободят от службы меня, то я сбрею бороду и усы… И приду в гости к вам.
– Идет, – со смехом звонким подхватила она, и глаза ее стали синеватыми. – Значит, договорились. Теперь закусывайте! – Она наклонилась и вилкой стала отделять кусочки от розового ломтя ветчины и есть их.
Семен Яковлевич глянул на хозяина, сказал:
– Займемся, пожалуй, более серьезным делом, – потом он задержал взгляд на мне, Игнате, Прокопочкине и Синюкове.
Арсений Викторович, видя в глазах Исаева как бы недоверие к нам, представил еще раз меня и моих друзей своим гостям.
– Вот они, – он кивнул головой на Игната, Прокопочкина и Синюкова, – члены нашей партии… рабочие. Ананий Андреевич земляк мне… Честнейший человек… Да что уж скрывать, скажу: большевик, профессионал.
Я покраснел от такой похвалы земляка и чуть было не поперхнулся шинкованной капустой: фраза «честнейший человек» будто лаком покрыла меня с ног и до головы. Я сам почувствовал себя после этой фразы скользким и блестящим. И мне стало, признаюсь, не по себе.
– И отлично, – подхватил Исаев, – теперь мы лучше знаем друг друга… – И он повернулся к Карнаухову: – Володя, опять тебе читать. Не возражаешь?
– А кто позволит ему возражать? – улыбнулся Рыжиков, поглядел выразительно на собравшихся и погладил пышные светлые усы, – Володя, садись вот на мое место, ближе к лампе.
– Ничего, у него молодые глаза, – заметил Иван Фомич. Он наклонился к Лухманову и что-то шепнул ему.
Тот рассмеялся и сказал:
– Постараемся не подвести.
Карнаухов сел на стул Рыжикова, Рыжиков – на место Карнаухова. Исаев достал из бокового кармана пиджака журнальчик, развернул его и подал Володе. Тот положил его на стол перед собой, разгладил ладонью страницы. Стало тихо. Все смотрели на юношу. Семен Яковлевич закурил папиросу. Закурили Иван Фомич и Подольский. Рыжиков достал трубку и кисет из кармана, набил ее табаком и закурил.
– Не особенно дымите, – попросил Илья Захарович Подольский и, посмотрев на нас, пояснил: – Нынешний вечер посвятим чтению статьи Ленина «Империализм и раскол социализма».
Карнаухов, поправив синий с белыми цветочками галстук, начал тихим и отчетливым голосом читать. Гости, отодвинув от себя тарелки и отставив рюмки, приняли свободные положения за столом – позы слушателей: одни облокотились на стол; другие откинулись к спинкам стульев; третьи, отодвинув от стола стулья, заложили ногу на ногу и склонили головы.
– «Есть ли связь, – читал Карнаухов, – между империализмом и той чудовищно-отвратительной победой, которую одержал оппортунизм (в виде социал-шовинизма) над рабочим движением в Европе?
Это основной вопрос современного социализма. И после того, как мы вполне установили в нашей партийной литературе, во-1-х, империалистический характер нашей эпохи и данной войны; во-2-х, неразрывную историческую связь социал-шовинизма с оппортунизмом, а равно их идейно-политическое одинаковое содержание, можно и должно перейти к разбору этого основного вопроса.
Начать приходится с возможно более точного и полного определения империализма. Империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта троякая: империализм есть (1) – монополистический капитализм; (2) – паразитический или загнивающий капитализм; (3) – умирающий капитализм».
– Ясно, – сказал удовлетворенно Семен Яковлевич, – так ясно, что… – Он откинулся к спинке стула и закрыл ладонью левый глаз и часть лица.
Рыжиков, хозяин, Серафима Петровна, облокотившись на стол, сидели неподвижно и внимательно слушали. Прокопочкин, Игнат и Синюков сидели прямо и не спускали широко открытых глаз с чтеца: для них, как чувствовал я, статья Ленина по-новому освещала мировую бойню, разоблачала социалистов II Интернационала, их иудину роль в отношении рабочего класса и крестьянства. Остальные гости, положив перед собой записные книжки, записывали в них отдельные мысли статьи.
– «Пролетариат есть детище капитализма – мирового, а не только европейского и не только империалистского. В мировом масштабе, 50 лет раньше или 50 лет позже – с точки зрения э т о г о масштаба вопрос частный – «пролетариат», конечно, «будет» един, и в нем «неизбежно» победит революционная социал-демократия. Не в этом вопрос, гг. каутскианцы, – Карнаухов возвысил немного голос, – а в том, что в ы сейчас, в империалистских странах Европы л а к е й с т в у е т е перед оппортунистами, которые ч у ж д ы пролетариату, как классу, которые суть слуги, агенты, проводники влияния буржуазии, и б е з о с в о б о ж д е н и я от которых рабочее движение остается б у р ж у а з н ы м р а б о ч и м д в и ж е н и е м. Ваша проповедь «единства» с оппортунистами, с Легинами и Давидами, Плехановыми или Чхенкели и Потресовыми и т. д. есть, объективно, защита п о р а б о щ е н и я рабочих империалистскою буржуазиею через посредство ее лучших агентов в рабочем движении».
– Ясно, – вздохнув, сказал восхищенно Семен Яковлевич, – очень ясно! Ходить далеко не надо: мы видим таких агентов и на своем заводе.
– Они имеются и на нашем, – поддержал Исаева Арсений Викторович, – и ведем борьбу с ними… вытаскиваем на свет и разоблачаем… и они, как ужи, извиваются. Эта статья Ленина не в бровь, а в глаз им.
Карнаухов откашлялся, выпил воды, взглянул на хозяина и стал продолжать чтение. Опять установилась тишина. Только карандаши в руках Подольского и Ивана Фомича Кадимова шуршали по листкам записных книжек. Особенно налегал на карандаш первый, Илья Захарович. Второй, Иван Фомич, водил карандашом быстро, словно не прикасался им к странице. Слушая статью, я видел, как перед рабочими все ярче и ярче возникала картина обмана и лжи, картина мировой бойни во имя капиталистов и помещиков, во имя их «цивилизации». Громово-патриотические речи «демократов» о войне, патриотизме в России, которые они читали в «Русском слове» и в «Русских ведомостях», стали более понятны им в свете статьи Ленина.
– «Механика политической демократии действует в том же направлении. Без выборов в наш век нельзя; без масс не обойтись, а массы в эпоху книгопечатания и парламентаризма н е л ь з я вести за собой без широко разветвленной, систематически проведенной, прочно оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочим, – лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии», – продолжал Карнаухов, волнуясь. Он, как все мы, восхищался мыслями статьи, ее беспощадным сарказмом по адресу «социалистов» и «демократов» – агентов буржуазии.
Среди гостей оживление, на их лицах улыбки радости и гнева. У Рыжикова повлажнели глаза, и он потирал руки.
– Володя, на журнал моя очередь. Сегодня же я возьму его. Прочту эту статью в кружке, на своем заводе.
– А я возьму у тебя, – проговорил Кадимов. – Запомни – моя очередь за тобой. Сам дня через два зайду за ним.
– Приходи, – ответил Рыжиков и вздохнул, потирая руки. – Ленин крепко пригвоздил всех предателей и шовинистов к позорному столбу. – Он вышел из-за стола и возбужденно стал прохаживаться.
За ним поднялись Игнат, Синюков, Прокопочкин и Подольский. Рыжиков резко остановился, шагнул к Карнаухову и взял у него журнал из рук, тут же спрятал его в боковой карман пиджака и застегнул его на все пуговицы.
– А ты, Илья Захарович, письмо ЦК партии о страховании рабочих принес? – спросил Карнаухов.
– Давно. А как же, – ответил Подольский. – Я еще две недели тому назад его передал Арсению Викторовичу. Спроси у него, – и он обратился к хозяину квартиры, говорившему с Прокопочкиным.
– Да, да, Илья Захарович вернул мне это письмо, – отозвался Арсений Викторович. – Володя, не спрашивай с него. Помни, оно у меня. В нашем кружке сняли несколько копий… и распространили. Тебе, Володя, оно нужно?
– Ты заботишься только о своем кружке, – заметил Карнаухов, – как только что интересное попадет к тебе, Арсений Викторович, в руки, так и пропадет – не выдерешь. Нельзя быть только патриотом своего завода.
– У меня не завод, а заводище, – ответил серьезно Арсений Викторович. – Хорошо. Не сердись. Верну. – Он опять обернулся к Прокопочкину и стал беседовать с ним.
Ольга Петровна и Серафима Петровна убирали со стола бутылки и графины. Поставив их в буфет, они вышли в коридор. Гости, за исключением меня, Прокопочкина и хозяина, ходили по комнате, курили и обсуждали горячо статью Ленина, которую только что выслушали. От содержания статьи они переходили к Государственной думе, министерской чехарде, к голоду, к паническому настроению среди буржуазии и чиновников, говорили о росте революционного сознания среди рабочих, о подготовке их к революции – к решительной борьбе с самодержавием, о мире. Прислушиваясь к словам гостей, я чувствовал, что гости земляка говорят серьезно, положительно о политике данного времени, – они уже подготовили себя к борьбе за социализм, за свою власть, за свою родину.
На улице, когда спустились с лестницы, было свежо. Мы медленно зашагали по тротуару; я поддерживал под руку Прокопочкина. Под ногами хрустел ледок. В далеком фиалковом небе сверкали звезды. Из-за домов доносился гул трамваев. Он перекатывался в тишине, то замирая, то нарождаясь. На окраине, вдали от центра столицы, я чувствовал молодое и сильное биение жизни. И оттого, что я чувствовал это биение, у меня становилось с каждой минутой радостнее и светлее на сердце.
XIX
В госпитале все по-старому. Уныло, однообразно тянется время. Утром, после завтрака, пришли полотеры и принялись передвигать с одной стороны на другую койки, стулья и столики, брызгать желтой жидкостью на пол. Раненые, которые уже ходили, отправились в клуб, чтобы не мешать им. Из-за серого противоположного дома всплывало солнце. Его лучи залетели в окна и играли розоватыми зайчиками на белых стенах, на столиках и койках, покрытых темно-серыми суконными одеялами.
В клубе шли разговоры:
– Начальство кого-то ждет.
– Начальство всегда чего-нибудь придумает.
Мы вернулись в палату, когда полотеры уже закончили свою работу. Пол сиял – в палате как бы прибавилось света. Полотеры поставили на прежние места койки, столики и стулья, взяли ведро, швабры, щетки и суконки и, не проронив ни одного слова, удалились в соседнюю палату. Я задержал взгляд на столике и удивился: на нем не было книги Канта. Я вспомнил, что положил ее в ящик стола. Открыл – нет книги и в ящике. Это удивило меня еще больше.
– Синюков, ты взял книгу? – обратился я к соседу.
– Зачем она мне? – проговорил Синюков. – Я таких книг не читаю.
– Зря. Все б лишнее окошко было в твоей голове. Куда же она делась?
– Проживем без лишнего окошка… со своим, – огрызнулся обидчиво Синюков.
– Твою книгу, Ананий Андреевич, взяла сестра Иваковская, – сообщил Прокопочкин. – Взяла нынче утром, когда приносила градусники. Кажись, она идет, спроси у нее.
Из соседней палаты, в открытую дверь, доносился голос Нины Порфирьевны. Она вошла к нам. За нею – няни с кипами простыней, наволочек и белья. Няни положили кипы на стол и стали менять белье на пустых койках.
– Вставайте и вы, – обратилась к нам Иваковская.
– До субботы еще три дня, – сказал Синюков, всматриваясь в строгое и озабоченное лицо сестры, – а пришли менять постельное белье. Зачем?
– Так надо, – сухо улыбнулась Нина Порфирьевна. – Заботимся о вас, защитниках родины. Хотим, чтобы приятнее было вам лежать в чистых простынях. А вы недовольны, а? – И, не дожидаясь ответа Синюкова, приказала: – И белье снимайте. И быстренько.
– И белье? – удивился Синюков.
– Да, свежее наденем. И вы как куколки будете лежать.
– Сестрица, – позвал я, – вы взяли книгу со столика?
– Я. Из стола, – отозвалась Нина Порфирьевна. – Читать взяла. Вам нужна – принесу.
– Читайте, – сказал я.
Иваковская не ответила. Няни принялись менять простыни и наволочки на наших койках. Они дали рубашки и кальсоны нам. Мы быстренько скинули с себя ношеное белье и надели свежее, которое гремело и приятно пахло. Няни подошли к Алексею Ивановичу. Подошла к нему и сестра, – она, когда мы переодевались в чистое белье, стояла у окна, спиной к нам.
– Вы встать можете? – мягко спросила Нина Порфирьевна.
Алексей Иванович приподнял голову от подушки, застонал, а потом начал быстро бормотать. Няни помогли ему подняться, сесть на стул, осторожно придерживая его за локти. Глаза у него мутные, волосы отросли на голове, вьются. Бородка отросла, щеки ввалились, а скулы остро выпирали. Няни меняли белье на его койке, взбивали подушки, а сестра стояла возле него и придерживала, чтобы он не свалился со стула. Раненый все бормотал. Казалось, он не видел ни Нины Порфирьевны, ни нянек. Нас тоже не видел. Что же он видел? Я стал прислушиваться к его словам-бормотанию. Прокопочкин и Синюков легли на койки. Алексей Иванович говорил что-то о деревне, о жеребенке и о белом петухе, которого зря пустили на племена.
– Не надо его, не надо, – бормотал он настойчиво, – черного пустить надо… Черного – и обязательно. Он хорош… И гребешок у него не короной, а топориком, острый. С таким гребешком он будет всех петухов драть… Это уж я отлично знаю. Черного, говорю, надо.
Койка была оправлена. Няни помогли сестре уложить Алексея Ивановича в постель. Его клали, а он все бормотал и бормотал о белом петухе, о петухе черном, о жеребенке.
После обеда в палату к нам пожаловал начальник госпиталя в сопровождении все той же Нины Порфирьевны. Они озабоченно осмотрели все углы, тумбочки, даже заглянули под койки, поговорили между собой по-французски, ничего не сказав нам, удалились. Мы не придали никакого значения появлению главного доктора среди нас, – она часто, в неделю раз, а то и два, заходила к нам. И только перед обедом, когда нам сказали, чтобы мы лежали на койках и никуда не отлучались, поняли, что кто-то из начальства должен посетить лазарет. Вошли сестры Смирнова, Пшибышевская, младшая Гогельбоген. Лухманов не вытерпел, спросил у Смирновой:
– Сестрица, кто приезжает к нам?
– Разве? – подняв тонкие золотистые брови, отозвалась уклончиво она и ответила: – Не знаю.
– Скажите. Не секретничайте, – настаивал Игнат Лухманов.
– Не скажу. Потом узнаете.
– Когда?
– Потом, – улыбнулась Смирнова. – Скоро.
Сестры были в ослепительно белых халатах и косынках, лица чуть напудрены, косички подвиты. Вбежала Иваковская и, окинув быстрым и обеспокоенным взглядом нас, опять скрылась, не сказав ничего сестрам и раненым. Не прошло и пяти минут, как она снова появилась среди нас и, сильно волнуясь, важная и счастливая, так мне показалось, сообщила:
– Через полчаса или час вы увидите ее императорское величество. Вы должны лежать спокойно. – Она не договорила и выпорхнула из палаты.
Младшая Гогельбоген бросилась за нею, шурша накрахмаленным халатом. Смирнова и Пшибышевская посмотрели друг на друга и чуть заметно улыбнулись. Смирнова подошла к Синюкову и села на стул. Пшибышевская осталась у стола. Синюков расцвел от счастья и глядел на Смирнову. Его светло-синие глаза потемнели, заискрились. Он взял ее руку и, держа, вздохнул.
– Сестрица, почему вы так долго не приходили к нам? – спросил он в чрезвычайном волнении.
– Как долго? Всего только четыре дня. Разве это много?
– Ого. Конечно. Где были?
– В Сестрорецк ездила, к родным. А вы соскучились обо мне?
– Очень, – признался Синюков. – Там живут ваши родители?
– Да. Отец и брат работают на заводе. – Она подняла голову и пристально поглядела на Синюкова. – А вы, как замечаю я, и в правду соскучились?
– Очень, – прошептал Синюков и вздохнул. – Как еще соскучился-то. А вы не соскучились?
– О ком?
– Ну хотя бы обо мне.
– Какой вы эгоист, – сказала она шутливо, с дружеским оттенком. – А обо всех вас – да. Среди всех – и вы, конечно… Вот и приехала, – улыбнулась Смирнова и взглянула на меня и, подумав, спросила: – Ананий Андреевич, чувствуете, какой эгоист ваш сосед?
– И товарищ… Ужасный, – поддержал я сестру.
– Вот видите, – обратилась она к Синюкову, – и Ананий Андреевич считает вас эгоистом. Вы хотите, чтобы я думала и скучала только о вас. Это нехорошо.
– Сестрица, вы не так поняли меня, – смутившись сильно, возразил Синюков.
Анна оборвала его:
– Не волнуйтесь. Вам предстоит счастье видеть царицу. Ваше лицо и глаза должны быть веселыми и выражать верноподданнические чувства, – проговорила она не то строго, не то иронически.
Девушка поднялась, оправила халат и отошла к Пшибышевской.
XX
Время тянулось медленно, казалось, что оно остановилось. Солнце, желтое, величиной с апельсин, плыло над белой крышей противоположного дома. Небо белесое. Темнел ряд труб. Но вот солнце зашло за трубу, и тень легла на крышу дома, на улицу, на окна и скользнула длинными крыльями в окна. Прошло несколько минут, солнце выглянуло из-за трубы, а тень стала удаляться в сторону, а окна посветлели, потом и вся палата заискрилась розоватым светом. Тишина. Мы лежим неподвижно. Ждем. Одни – с волнением и радостью. Другие – спокойно и с раздраженным любопытством. Так мне казалось, глядя на раненых. Я лично ждал с интересом: почему не поглядеть на царицу? Царица не просто баба, которую доступно видеть всем. Царица – мечта, ее можно только видеть в воображении да еще на лубочных картинках и в календаре. Кузнечик не сипел в груди Алексея Ивановича; в его груди пело: хлюп-флю, хлюп-флю, хлюп-флю. Я пристально посмотрел на него и заметил, что друг Семена Федоровича уставился огромными серыми глазами на сестер. Я содрогнулся от его взгляда: в нем был смех. Такой же смех я видел и в глазах Семена Федоровича, когда он диктовал мне свое письмо к Марии, в Москву.
– Идут, – проговорил Прокопочкин.
Сестры бросились к приоткрытой двери, распахнули шире. Мы замерли. Я стал заглядывать в дверь, в соседнюю палату. На пороге показалось несколько женщин и мужчин. Женщины одеты скромно и с большим вкусом. Среди них – главный доктор лазарета Ерофеева, врач нашего этажа Дегтярева, попечительница лазарета Нарышкина, сестры Иваковская и обе Гогельбоген. Два молодых офицера и тучный военный генерал. Офицеры одеты скромно, как-то строго. Генерал сверкал орденами, медалями и золотом погон. У него было толстое лицо, бычья, красная шея. Вошел полковник. У него пышные каштановые усы, матовые щеки и ярко-зеленые глаза. Он звякал шпорами, и их звон, нежный и мягкий, приятно струился в тишине. Сухопарая царица, высокая, с белым лицом дама, тучный генерал и еще две дамы, совсем молоденькие, с корзиночками, подошли к первой койке. В двух шагах от царицы, генерала, высокой дамы, Нарышкиной и дам с корзиночками стояли офицеры и полковник с пышными каштановыми усами и матовым лицом. У дверей палаты толпились сестры, врачи, а впереди них – главный доктор Ерофеева. У Александры Федоровны бледное лицо, сухое. Только над впалыми щеками чуть заметно розовел румянец. Ее голубоватые глаза не грели – светили ровным, холодноватым и печальным светом. Она чуть наклонилась к тяжелораненому, спросила:
– Как, солдатик, чувствуете себя? – и остановила взгляд на неподвижно-восковом лице раненого. Солдат молчал, глядя тусклыми, неподвижными глазами на царицу. – Солдатик, кажется, скончался?





