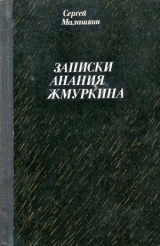
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– И я, Семеновна, стала смело глядеть на божьего монашка, – продолжала хозяйка. – Я уже не робела его, застенчиво по-девичьи улыбаясь, доверчиво поглядывала на него, неизвестно откуда явившегося в мой вдовий дом. Думаю, голубушка, что он, божий человек, тогда явился именно только для того, чтобы избавить меня от смертельной тоски. Да, да, Семеновна! И вот тогда-то, Семеновна, мне впервые самовар представился голубем… Удивившись превращению самовара в голубя, я обратилась к монашку, спросила: «Божий человек, самовар это или голубок?» Монашек, потягивая из блюдца чай, улыбнулся, промолвил: «И самовар и голубь, юная вдовица… и вы при виде такого чуда должны еще более радоваться. И не рците!» – «Нет, это самовар», – возразила я неуверенно ему. «О чадо! – воскликнул он. – Где самовар, тут и божий голубок!» И поднялся из-за стола, прошелся до полуоткрытой двери, ведущей в другую комнату, где белела подушками, пикейным покрывалом и пеной кружев широкая кровать. Вздохнув и помолившись на все, монашек круто повернулся ко мне, сказал: «Чадо, в какой это церкви зазвонили к заутрени?» – «У Покрова, святой отец», – ответила машинально и взволнованно я. «У Покрова? – переспросил он. – Что ж, тогда, чадо, пошли свою кривую девку в церковь, пусть она помолится пречистой матери за наши грехи». Монашек насупился, подумал и пояснил: «Эта кривая девка погрязла и в своих грехах. Пусть и за себя, за свои грехи помолится, непутевая ослица, перед пречистой матерью Иисуса. Так и скажите ей, юная вдовица. Идите и не рците! Я все знаю об этой кривой девке». Я немедленно, Семеновна, выполнила просьбу божьего странника: отослала работницу молиться в церковь Покрова. – Ирина Александровна замолчала, немножко подумала. Суховатое лицо ее выражало смущение. Было заметно по ее выражению глаз, что она вспомнила что-то приятное в своей юной жизни и об этом приятном стеснялась в присутствии меня рассказать Семеновне, у которой лисьи глаза горели, как жаркие свечи, от любопытства. Возможно, она на этом бы и закончила свой рассказ о появлении монашка, если бы не обратилась к ней Семеновна, не сказала подобострастно:
– Благодетельница моя, я вас слушаю.
Ирина Александровна метнула взгляд на меня, обиженно и чуть презрительно промолвила:
– Семеновна, мне не хочется продолжать, когда подле меня сидит Ананий Андреевич и так лукаво улыбается в свою бороду. А впрочем, все равно! Закончу и при нем! Анания Андреевича я отлично знаю, а поэтому сдаю ему комнату со столом. Сдаю, Семеновна, не потому, что я нуждаюсь в деньгах, а исключительно по той причине, что он очень похож собой на того монашка.
Я поднял глаза от чашки, задержал на сухом и презрительно-лукавом лице Раевской, полупочтительно, полушутливо сказал:
– Ирина Александровна, я могу завтра же, если вы так говорите, перебраться из вашего дома на другую квартиру.
– А что я, Ананий Андреевич, говорю? В моих словах ничего нет обидного. Я правду говорю, что вы напоминаете мне монашка. И это, поверьте, мне приятно. Не обижайтесь! Я иногда, поглядывая на вас, думаю, что не вы ли, Ананий Андреевич, двадцать лет тому назад заглянули в мой дом. Конечно, уверенности у меня в этом нет… да и тот монашек был немножко повыше ростом. И глаза у него были немножко мягче, чем ваши, не так насмешливы. Не хмурьтесь! Пожалуйста, но серчайте! Я знаю, вы никогда не были монахом, божьим странником. Вы, как чувствую, безбожник.
Семеновна, услыхав такие слова обо мне, насупилась, часто закрестилась, бормоча:
– Спаси господи, как это можно!
– Уверяю вас, Семеновна, настоящий безбожник!
– Благодарю вас, Ирина Александровна, – буркнул я и вскочил.
– Куда вы? Не уходите! Садитесь, Ананий Андреевич! – твердо и повелительно сказала хозяйка. – Рассказывая о монашке, я не стану замечать вас, а только буду чувствовать, что вы сидите подле меня. Уйдете – так мне станет скучно, и я не закончу рассказа, и Семеновна не дослушает его до конца.
– Истину говорите, моя благодетельница, – подхватила сводня.
Я поспешно сел, взял «Новое время» и стал читать статью о Художественном театре, об игре Москвина.
– Ананий Андреевич, Семеновна, художник, – промолвила приветливо в отношении меня (сейчас в ее голосе я не слышал сердитых и обиженных ноток). – Если бы вы видели, какие он сделал прошлым летом кровати и буфет в квартире Екатерины Ивановны Чаевой, то вы, Семеновна, так бы и ахнули. Чаев специально выписал красное дерево для буфета, а для кроватей – грушевое. Архиерей Иннокентий, глянув на эти произведения, сказал, что они стоят больших денег, не одну тысячу.
– Люди рассказывают, что его преосвященство на одной такой кровати почивал, и не один, – опустив лисьи глаза и вздыхая, заметила негромко и с блудливым страхом Семеновна. – А правда это, не знаю. Но слушок такой густо ходит по городу. Неужели, благодетельница, епископ почивал с самой хозяйкой дома?
– Такой разговор, Семеновна, не прошел и мимо моих ушей, слышала, слышала от многих и не один раз, – отозвалась возбужденно Ирина Александровна.
– Ежели и вы, благодетельница, слышали, то это несомненная правда, – подхватила Зазнобина и снова вздохнула, скользнув лисьим взглядом по иконам, освещенным лампадками. – Что ж, может, и верно, его преосвященство почивал с Екатериной Ивановной. Грех-то, грех-то какой! Ай-ай! – и она истово перекрестилась.
– Точно не знаю, Семеновна. Но в городе говорят, что владыко бегал по высокой траве до полночи за ее старшей дочерью.
– И-и? Неужели за Лариской? Да у нее нос не менее клюва цапли… а глаза серые, будто вываренные! – удивилась чрезвычайно Семеновна. – Уж какой год сидит в девках, а женихов нет и нет: даже миллион приданого их не завлекает!
– Вымокши до колен в росе, епископ Иннокентий все же поймал Ларису… – не слушая как бы гостью, сказала Ирина Александровна, улыбаясь тонкими горячими губами. – А вот переспал ли он с нею на кровати грушевого дерева – не знаю. Чего не знаю, Семеновна, того не знаю и утверждать не стану! – подчеркнула она таким тоном, с такими противоречивыми нотками в игривом голосе, что я решил, что она-то, моя хозяйка, все знает.
Я поднял глаза от газеты, глянул на профиль ее лица. Она, заметив мой взгляд, обернулась ко мне, и я увидел в ее серо-синеватых глазах ласково-блудливых бесенят. Она, встретившись с моим взглядом, цинично ухмыльнулась, привела лицо в прежнее положение – профилем ко мне – и вернулась к прерванному своему рассказу о монахе.
XIII
– Солнце приблизилось к земле; зазвонили и в других церквах. Свет в лампадах стал ярче, чем он был днем, и оклады икон розовато засеребрились. Лики святых совсем потемнели, стали суровыми, поглядывая как бы на одну меня. Перед их неподвижными взглядами я очень испугалась, подумала: «За что же они так все осердились на меня? Неужели и я так грешна, как моя кривая работница, которая сейчас стоит на коленях перед образом пречистой матери и, обливаясь слезами, замаливает свои грехи? Когда же это я успела стать такой грешной, если я поспала-то только три ноченьки с законным мужем?» Так я в тревоге, в отчаянье, Семеновна, пытала, терзала себя вопросами. Монашек, шелестя полами рясы, шагнул ко мне, наклонился к моему уху, проговорил: «Божий дух над вами, юная вдовица». Я в смятении вскинула глаза и, встретившись с взглядом божьего человека, еще больше испугалась, затрепетала, хотела было что-то возразить, но ничего не возразила: его горячие губы прикрыли мои уста. И убежать, Семеновна, я никак не могла: его руки, обняв меня, запрокинули назад мою голову, и я видела одним левым глазом его красное ухо и пряди пшеничных волос и… больше ничего. И больше ничего! Нет, это я, Семеновна, увидела и его красное ухо и пряди волос в первую секунду, а потом, вместо всего этого, голубка́; он, сизокрылый, то взлетал от стола к потолку, то опускался от него, то пропадал, то возникал снова.
– Был у вас тогда, благодетельница моя, истинно дух святой. И он превращался то в сизокрылого голубя, то в монашка, – процедила сладостно сквозь крупные, как у старой лошади, желтые зубы Зазнобина и осенила себя крестным знамением.
– А вы что скажете, Ананий Андреевич? – обратилась неожиданно ко мне Ирина Александровна.
Я промолчал, ниже опустил голову, но читать я уже газету не мог после ее такого вопроса. «Что она задевает меня? – подумал я. – Неужели она и вправду думает, что двадцать лет тому назад я был монахом и заходил в ее дом? Нет, она, сумасшедшая баба, разыгрывает меня!» – подумал я с легким раздражением.
Ирина Александровна, не дождавшись моего ответа, сказала тише:
– Итак, Семеновна, до утра все голуби и голуби… А ровно через девять месяцев и одиннадцать дней после голубя – голубиного гульканья в моем доме появился у меня на свет божий голубок, мой ненаглядный Феденька. А через три месяца, Семеновна, директор отделения Русско-Азиатского банка вызвал меня к себе и сообщил, что неизвестный человек положил на текущий счет на имя Федора Федоровича Раевского тридцать две тысячи рублей. Услыхав это, я, Семеновна, поверите или нет, обомлела и уставилась взглядом на директора, как дура… а потом со мною приключился обморок. И директор же привел меня в чувство, усадил в кресло, а когда я отдышалась и пришла в себя от такого счастья и радости, он сочувственно пояснил: «Я, сударыня, должен вам изложить волю вкладчика, а воля его такова: до совершеннолетия вашего сына вы будете получать ежемесячно по сто рублей, словом, будете жить на проценты с вклада. Когда вашему сыну исполнится двадцать лет, он, как наследник, может распорядиться ими, как ему заблагорассудится. Такова, сударыня, воля вкладчика».
– Какой капитал, – вздохнула Семеновна, и глаза ее совершенно сузились, казались белесыми струйками.
– А я, голубушка, его от людей не скрывала…
– И сколько наросло процентов? – обмирающим от зависти голоском спросила Зазнобина. – Вот вам, моя благодетельница, и голубки… Не зря же они появлялись. Да и теперича, после стольких лет, кажись, появляются? – и она расширила глаза и блеском их облила Ирину Александровну. Заметив слезы на ее побледневшем лице, она так и привскочила, взвизгнула: – И вы плачете? Как это можно, благодетельница моя! Не плачьте, не плачьте! Я сейчас встану на колени и в ножки ваши святые поклонюсь! Своим платочком слезки ваши сниму с прекрасных глазок ваших!
– Семеновна, не смейте становиться на колени передо мною! Если станете, я принимать никогда не буду вас. Да, да, это я правду говорю!
Семеновна охнула, скрестила сухие ладони на своей впалой груди, отступила, села на стул, изобразила грустно-виноватое выражение на длинном лице, осыпанном застарелыми рыжими веснушками, и прошуршала смехом. Хозяйка, как заметил я, не слыхала ее смеха: она в эту минуту задумалась и устремила взгляд на среднее окно, за которым стояла тишина, зеленели березы клейкими и блестящими листьями, чирикали воробьи. Я заключил про себя, глянув бегло на ее лицо: она думала о своем прошлом, о «страннике божьем» и о Феденьке. Да и Семеновна, перестав шелестеть смехом, задумалась о большом капитале Ирины Александровны, приобретенном так странно, почти фантастически.
– Пока вы, благодетельница, думали о чем-то, а я мысленно прошлась снова по уезду, подыскала для Федора Федоровича невесту в одной дворянской семье. Не девушка, а краля. Чернобровая и синеглазая. Не глаза у нее – фиалки темные! Нашла! Нашла! – с захлебывающимся придыханием воскликнула Семеновна и вонзилась узкими лисьими глазками в лицо Ирины Александровны.
– Что это вы, голубушка, нашли? – находясь все еще во власти своих воспоминаний, спросила тихо Ирина Александровна.
– Невесту-дворянку для вашего сынка, Федора Федоровича, – отчеканила с твердой радостью гостья. – Думаю, вы, благодетельница, хорошо знаете помещика Чечулина?
– А-а, – протянула Ирина Александровна, – знаю, знаю. Я даже однажды, несколько лет тому назад, танцевала с ним на одном благотворительном вечере, устроенном в пользу вдов и сирот. Он был довольно грубоват: взял меня повыше талии так, что своей лапищей придавил мне левую грудь и, танцуя со мною, поглаживал ее. Не знаю, как я тогда не посмелела и не оттолкнула его, грубияна, от себя. Видно, потому, что постеснялась людей, наблюдавших за танцами.
– Не понимаю, какое благородство в нем, – проговорила, будто бы про себя, Семеновна.
– Это в ком же? – настораживаясь, спросила Ирина Александровна. – Не о моем ли, голубушка, Феденьке вы так выражаетесь?
Суровые слова благодетельницы испугали Семеновну, перепутали мысли в ее голове, она отшатнулась назад, мотнула головой и, поправив косынку, торопливо и сахарно ответила:
– Что вы, что вы, Ирина Александровна! Как это можно! Я о Федоре Федоровиче всегда и везде говорю, что он высоко благороден, такой умница, каких и нет… Как это можно, благодетельница моя, чтобы я говорила такое о вашем сыне! Да я и во сне-то, когда почиваю, всегда думаю хорошо о нем, как о родном, а вы… – Она не закончила фразы, заморгала, и на ее ресницах повисли слезинки. – Я так сказала о купечестве. Да, да, о нем! Разве оно так благородно, как дворянство?
– Чувствительно благодарю вас, Семеновна. Я так и думала, что вы…
– О купечестве, о купечестве, моя благодетельница! – просияв лисьими глазками и обрадовавшись, отчеканила Семеновна.
– И о купечестве, голубушка, так обидно говорить не надо: грешно это. Мой ненаглядный Феденька, как вы знаете, обожает…
– Истинно, истинно обожает. Это весь город знает…
– Так вот и нам с вами, Семеновна, надо обожать купечество, – посоветовала Ирина Александровна.
– Уважаю, уважаю, моя благодетельница, – рванула Семеновна сквозь злые слезы, клокотавшие в горле, – и буду, если вы так желаете, уважать еще больше!
Ирина Александровна смягчилась и, мягко улыбаясь, проговорила:
– Не плачьте, голубушка. Я уже не сержусь. Утрите глаза, и сейчас же!
– У вас у самих, благодетельница, глазки плачут… и под ними мокро от слез, – вытирая концом косынки лицо, протянула сокрушенно-паточным голосом Семеновна. – Скажу вам: слезы убивают красоту. Берегите ее. Вы еще так молоды и прекрасны. Да, да! Вы только пожелайте, и я подыщу вам такого жениха, что век будете благодарить.
– Ой-ой, как вам, Семеновна, не грех закидывать такие соблазнительные слова! – запротестовала Ирина Александровна. – Мне уже сороковой пошел… почти старуха, а вы… Нет, нет, ни слушать не хочу вас! – И она метнула пристальный взгляд на меня, вздохнула. – Вот и Ананий Андреевич скажет вам, что я уже старенькая.
Тут Семеновна выскочила из-за стола, сухопарая, высокая, заметалась по комнате, скрипя шевровыми полусапожками, заметалась, залепетала:
– Не надо, не надо вспоминать о молодости, когда вы еще молоды. Что молоды – юны, как девушка-раскрасавица! Да, да, я правду вам, благодетельница, говорю. Не старьте свою красоту печалью и слезами! – Она, размахивая длинными руками, как черными крыльями, подплыла к Ирине Александровне, подсела, метнула взгляд на стену, за которой находился Феденька, и зашептала: – Я вас, благодетельница, в один миг просватаю за купца Ряховского, Анисима Трифоновича. У него три дома в городе, хутор в тринадцати верстах от города, более ста тысяч капитала в банке и… – и сводница захлебнулась, – и ему еще шестидесяти нет. Да, да, благодетельница, мужчина хоть куда: можно его, если пожелаете, вместо тройки коней в карету запрячь – и он вынесет на любую гору, не задохнется. Вот какой он, Анисим Трифонович, мужчина! Вы не глядите на его серую и длинную бороду. Да что борода? Ее можно срезать! Повелишь – и он срежет!
– Отстаньте, отстаньте, Семеновна! Не говорите мне таких речей! – махнула рукой Ирина Александровна. – Несуразных речей!
– И почему же, моя благодетельница? Ряховский не мужчина – дуб!
– А потому только, что я слушать не желаю о вашем Ряховском!
– Напрасно! Он умрет – дома, хутор и денежки перейдут к вам, а от вас к Федору Федоровичу. Подумайте! Уж я и постаралась бы для вас, благодетельница! – сыпала неугомонно Семеновна, вонзив уже не лисьи глазки – огненные стрелы в раскрасневшееся лицо Ирины Александровны.
– Вы же сказали, Семеновна, что он дуб, а сейчас говорите – умрет. Нет, такой здоровый мужчина так скоро не свалится в гроб, не оставит наследство жене, – натягивая улыбку на лицо, возразила с кокетливым вздохом Ирина Александровна. – Нет, Семеновна, поберегите своего Ряховского для какой-нибудь вдовствующей невесты: он не подходит для меня. Да и перейдут ли его капиталы ко мне, когда он умрет? Это вопрос. У него есть дети…
– Они незаконные.
– Но он их, как знаю я, обожает.
– Все это, благодетельница, враки! – убрав улыбку, простонала сводница.
– Враки съели собаки! Но это, Семеновна, так! – Ирина Александровна выпрямилась, возбужденно воскликнула: – Вы абсолютно не знаете ничего о Ряховском! – И подлетела к зеркалу, поглядела на свое отражение в его серебристо-аспидном омуте, колыхнула глубоким вздохом грудь под густо-красным капотом, промолвила: – Нет, я нехороша, я не пара Ряховскому. Вот разве для его капитала? Ха-ха! – хохотнула она. – О, о капитале, домах и хуторе Ряховского надо хорошенько на досуге подумать.
– На досуге, на досуге! Вот и я об этом, благодетельница, и речь веду с вами, – натягивая снова улыбку на длинное и обиженное лицо, подхватила с рвением Семеновна и отлетела от нее на свое место.
Ирина Александровна, не слушая гостью, рассердилась, резко обернулась ко мне и, показывая красивую, еще молодую спину в зеркале, шагнула от него и, проходя мимо, рукой задела газету так, что я выронил ее.
– Нет, нет! Больше ни слова о Ряховском! Запомните это, Семеновна! Будете напоминать о нем – выгоню!
– Слушаю, моя благодетельница. Вы, пожалуй, правы, этот бородач и вас и меня переживет! Пока вы смотрелись в зеркало, я уже отказалась от своих слов. Вполне согласна с вами! – прикрыв веками глаза, проговорила с печальной виноватостью Семеновна.
– Вот видите, как вы опрометчивы, Семеновна. Давайте выпьем еще по чашечке чайку.
– С удовольствием, моя благодетельница.
Хозяйка и сводница принялись за прерванное чаепитие; за чаем, вареньями и ватрушками опять разговорились. Их говорки застрекотали, зазвенели, то усиливаясь, то затихая. Передавать их речи у меня нет никакого желания, так как они опять вернулись к купеческим и дворянским невестам, которые росли, зрели и наливались красотой в городке и в усадьбах. Солнце уже давно село (чаепитие затянулось сильно), сумерки изжелта-коричневые наполнили столовую. Я медленно поднялся из-за стола и, поклонившись Семеновне, прошел в свою комнату с двумя окнами в переулок, заросший темно-зеленым бархатом подорожника. Я зажег лампу, немножко посидел у столика, просматривая полученную по почте книгу «Зеркало теней» В. Брюсова. Я так увлекся чтением стихов, что не слыхал, как ушла Семеновна. Возбужденный ими, я закрыл книгу, разделся, погасил лампу и лег в постель. Не прошло и получаса, как влетела ко мне Ирина Александровна. В этот раз я не прогнал ее. Перелезая через меня к стенке, она охнула и запустила свои пальчики в мою бороду и замерла. Помолчав и дыша пламенем мне в лицо, она отрезала:
– Мне все думается, что это вы, Ананий Андреевич, приходили в мой дом двадцать лет тому назад в одежде монашка, а не кто-нибудь другой: уж больно вы похожи на него, – Она скрипнула зубами и крепко закусила клок моей бороды.
XIV
Феденька, которому сейчас шел двадцатый год, сидел в кресле. Ему не сиделось в нем, не читалось, его одолевала икота, а «Новое время» простыней свисало с его острых колен и краями касалось пола; он, икая, вслушивался в тишину; и нельзя было ему не вслушиваться: в ней возились бесенята. (Он был верующим юношей и ужасно мнителен, мистически мнителен! Да и не раз он говорил мне о бесенятах, которых он видел в углах дома.) Стены его комнаты были увешаны медными старинными иконами, складнями, крестами и крестиками.
– Вы, Федор Федорович, студент второго курса и верите?
– И-и? – пуча мутно-зеленоватые глаза и топорща темные стрелочки усов, восклицал вопросительно Феденька и надолго умолкал, затем выпаливал: – И маменька, как вы живете у нас, не верит ни в голубков, ни в бесенят. А я верю. Я вижу их, правда, не часто, а возню и попискиванье их слышу. Да-с!
– Федор Федорович, вы неправду говорите о своей маменьке: она и теперь видит голубков и частенько говорит о них… и вас, Федор Федорович, называет сизокрылым голубком.
– Она притворяется: ханжу разыгрывает перед Семеновной и другими. Я сердцем чувствую, что она стала другой. Если вы еще, Ананий Андреевич, годок у нас поживете, она, пожалуй, социал-демократкой станет, – простучал он язвительно голоском и бесшумно рассмеялся, раздвигая тонкие губы.
Я не стал возражать ему. На божнице, освещенной желтенькими огоньками неугасимых лампадок, висели, стояли в необыкновенной скученности преподобные, святые, мученики и великомученики; все они жались к нерукотворному образу Спасителя; каждый из них хотел ближе быть к божьему сыну; вся божница-иконостас окаймлена широким и длинным славянским полотенцем; края его касались пола; на них – золотые петушки с высокими зубчатыми красными гребешками; казалось, они вытянули шеи, подняли темные клювы для того, чтобы хором запеть и своим пением развеселить Феденьку. На простенке, между первым окном и вторым, висели тоже иконы, и их было так же много, как и на других стенах и на божнице; на этот простенок, как заметил я, глядел пристально Феденька и шевелил губами, усиками. На этом простенке висели Серафим Саровский, Николай Мирликийский, Георгий Победоносец, старец Герасим и лев, Сергей Радонежский и портрет царя Николая, с которым он (забегаем года на два вперед) шагал во главе демонстрации, рядом с исправником Бусалыго, в первые дни мировой войны, в дни нападения Германии и Австро-Венгрии на Россию. На подоконниках росли в банках столетники, бегонии, фикусы. А на левой боковой стене, за которой была спальня Ирины Александровны, не висело такого множества иконок и икон преподобных и великомучеников; у этой стены, которую Феденька больше всех стен любил, находилась его кровать с горкой сливочно-белых подушек, углы которых рдели вышитыми крестиками и голубками. Над изголовьем кровати темнела деревянная иконка Федора Тылина. Под нею на шелковом малиновом шнурке – металлическая фляжка с непортящейся святой афонской водою. В этих вещах и иконке Федора Тылина заключалось сладчайшее счастье Феденьки Раевского, – об этом счастье Федор Федорович не один раз говаривал мне; об этом не вытерпел – сказал и нынче. А вот и шкаф со стеклянными дверками. Я чуть не позабыл сказать о нем, хотя это и мелочь для читателя, но для Феденьки великая ценность: он часто из этого шкафа извлекал идеи, развивался и вырастал на них. Что ж, скажем немножко и о нем; это необходимо. Шкаф – ничего, славный шкаф, сделан он крепко, основательно, с расчетом на спокойный купеческий характер, был он когда-то, возможно в XVII веке, покрыт оловянно-золотистой краской. Она потускнела на нем, и мне трудно сказать, какой он имеет цвет сейчас. Да это и не важно. Я не о шкафе говорю, а о том, что содержится в нем, на его полках. На самой нижней сложены аккуратно газеты «Новое время» и «Голос Москвы»; на другой (от низу) стояли книги Гоголя, Маркевича, Данилевского, Андреева, Чирикова, Стриндберга и Федора Сологуба; на третьей – книги юридические, учебники за все классы гимназии, комплекты «Нивы» за 1909—1911 годы и Библия на русском языке, с рисунками Доре; на самой верхней, если ее можно назвать полкой, стоял граненый стакан с увядшими цветами, купленными Феденькой на вокзале; рядом со стаканом – «Чтец-декламатор», изданный, в Киеве; судя по цветным шелковым ленточкам-закладкам, свисавшим из страниц, он частенько бывал в руках Феденьки: он любил чувствительные стишки; на предпоследней полке находились любимые книги Феденьки. Эти книги были Дубровина, Шарапова, Никольского, Восторгова, Иоанна Кронштадтского, брошюры Гучкова, Суворина, Меньшикова и других. Заметив, что я рассматриваю эти «произведения», Раевский оживился.
– Это кладезь… – Феденька не докончил фразы, захлебнулся от восторга, осторожно взял книгу и шагнул от шкафа, бросился не в кресло, с которого только выпорхнул, а бухнулся на диван в парусиновом чехле, откинулся к спинке, уставился мутно-зеленоватыми глазами на меня. Открыв книгу, Феденька проговорил: – Ананий Андреевич, это гениальная книга. Слушайте, слушайте, что пишет автор! – и Раевский четким голосом, как молоточком по железу, застучал: – «Но вот ты всех пересудил… Но с а м кого лучше? Никого. Но я же и говорю, что нам плакать не об обстоятельствах своей жизни, а о с е б е. Да, да о себе… только о себе! И нечего хихикать и ехидничать о других. Известно, что в России вся собственность – на волоске: не уважается… вот-вот волосок оборвется, и собственность упадет, вспыхнет огнем, превратится в пепел… Так вот, надо держать ухо чутко, прислушиваться к шорохам не уважающих собственность и еще крепче держать вскинутый топор…» Крепко, а? – кинув глаза в мои глаза, взвизгнул Феденька, перекинул три или пять страниц, снова запустил глаза в книгу, застучал: – «Русь, матушка, закружилась, хлопает крыльями, петухом кричит: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» Это она, господа, будит нас, накопивших собственность, будит от сна, призывает на защиту этой собственности, на защиту своего тысячелетия». – Читая, Феденька сейчас очень был похож на таракана: таращил усики, пучил глаза, и зрачки их стекленели от гнева на тех, кто подбирается к собственности, держащейся, как пишет автор книги, на тоненьком волоске. – Да что вам, Ананий Андреевич, читать! – рявкнул визгливо Раевский, швырнул книгу на стол, взлетел с дивана и заметался по комнате, дергая то за один кончик уса, то за другой. – Это вы с своими слесарями из депо как раз и подбираетесь к собственности священной!
– Что висит на волоске, Федор Федорович? – спросил я.
Феденька широко распахнул рот, собрался что-то возразить, но постучали в дверь. Раевский дернулся, вскочил, выкрикнул стеклянным голосом:
– Кто там?
– Я, голубок.
– Кто там? – не узнав ласкового голоса маменьки, прокричал уже в ужасе Феденька.
– Это мы, – отозвались разные молодые мужские голоса. – Феденька, друг, это мы!
– И-и?! – приходя в себя от ужаса и натягивая улыбку на искаженное страхом лицо, воскликнул Раевский, и метнулся, длинный и зеленый, от кресла к двери, и распахнул широко, глянул в темноту коридора. Он услыхал, как шаги маменьки и молодых людей протопали в столовую, – он только заметил в сумраке их спины и затылки.
Феденька прикрыл дверь, вернулся к столу и, заглядывая в зеркальце, пригладил волосы на голове, подкрутил усики, пошевелил тонкими губами, потрогал красноватый прыщик на левом виске, появившийся вчера вечером, кашлянул раза два-три, обдернул тужурку, пристально поглядел на меня, предложил!
– Ананий Андреевич, войдемте вместе.
– Хорошо, – ответил я.
– Каков вид у меня? Ничего?
– Молодцеватый у вас вид, Федор Федорович, – похвалил я и спросил: – А что? Вы нездоровы?
– Я должен сегодня говорить речь перед ними, а для этого у меня должна быть осанка и… Ну, вы, Ананий Андреевич, прекрасно понимаете.
– Конечно, – сказал я чуть насмешливо. – Вы только, как начнете речь, позабудьте про бесенят.
– Постараюсь, Ананий Андреевич. Тогда идемте!
XV
В столовой, кроме Ирины Александровны, за столом находились Семеновна (в этот вечер она была не в черном платье, а в светло-сером, а на ее рыжевато-сивой голове розоватый шелковый чепчик) и молодые люди-студенты, – все сидели за столом и разговаривали. Семеновна, увидав молодых купеческих чад с потертыми физиономиями, наглыми и высокомерными, поднялась и хотела было исчезнуть, но этого сделать ей не позволила Ирина Александровна, усадила насильно на стул подле себя.
– Сидите, – шепнула гостье твердо она.
Семеновна моргнула лисьими глазами, вздохнула и села на место, указанное хозяйкой дома. Над столом полыхала молочным светом лампа-молния. Семеновна, уставившись из-за ярко-белого самовара на студентов, сахарно и льстиво улыбалась каждому, как бы говоря улыбкой: «Всех бы я вас, голубков, оженила… Все бы вы ходили в счастье, добрым словом вспоминали и благодарили меня, пожилую женщину».
Феденька обратился к маменьке:
– Прикажите подать самоварчик.
Ирина Александровна вскинула острые глаза на своего ненаглядного, промолвила!
– Всех ублаготворю чаем, и ты, Феденька, не беспокойся. – И она приказала Лукерье, стоявшей в дверях, подать самовар. Работница сейчас же подала его на стол; он шипел и брызгался, словно был недоволен на то, что в разгар кипения его принесли в столовую. Работница удалилась. – Ананий Андреевич, садитесь и вы. Вернувшись с работы, вы ничего не поели, – промолвила озабоченно Ирина Александровна, чуть склонясь к моему уху.
– Спасибо Ирина Александровна. Я пообедал в трактире Вавилова.
– Ах, этот трактир… Не понимаю, как это вы, Ананий Андреевич, можете есть в нем? Я в рот бы не взяла ужасной трактирной пищи!
Я промолчал, заметив ее обиженный взгляд, коротко брошенный на меня.
– У меня стол, кажется, не так плох?
– Отличный стол, – похвалил я. – Но мне, Ирина Александровна, не хотелось терять время на ходьбу.
– А я ждала-ждала… – сказала она почти шепотом, – и напрасно. – И ее тонкий нос начал розоветь от обиды, – Вы просто не желаете побыть побольше в моем обществе.
– Маменька, – протянул раздраженно Феденька, заметив беспорядок на столе, – вы и нынче, при гостях, не соблюдаете этикет!
– А мне наплевать на этот твой, Феденька, итикет! – неожиданно рванула для Феденьки, а больше для меня Ирина Александровна. – Всё на столе! – бешено прибавила она. – Пейте и ешьте!
Раевский скрючился от ее вскрика, а потом, выпрямив плечи, глупо и растерянно ухмыльнулся. Смутились и растерялись от слов его маменьки и его друзья, стали перебрасываться взглядами между собой. Восстановилось неловкое молчание. Семеновна как-то нервно дернулась из-за стола, но, встретившись с потемневшим и злым взглядом хозяйки, села и замерла. Васенька Щеглов, щупленький студентишка, вытаращил каре-желтые глаза на потолок и ерзал ими по нему. Раевский стоял с полуоткрытым ртом у левого конца стола и, пощипывая усики, с обиженным удивлением смотрел на маменьку, не обращавшую никакого внимания на него. Грузный, сутулый, с водянисто-серым лицом Бородачев и Сашенька Язвин, тонкий и угреватый, сероглазый, похожий на сильно заморенного гуся, сидели с опущенными лицами и разглядывали свои руки, сложенные на коленях. Один Петенька Чаев, сын городского головы, толстенький, большеголовый, с рыхлым, мучнистым лицом, зыркал ядовито-купоросными глазками по иконкам и иконам, чихнул, а потом хрипло брякнул:





