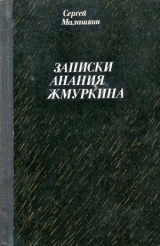
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– Господа, в зале голубой свет… В камине горят березовые дрова… Наша чудесная хозяйка в голубом… Наши музы дружат с голубыми серафимами, – они витают за нашими спинами, они и ясны и крылаты. И вдруг, господа, пришел к нам какой-то бледный, с повязкой на голове солдат и грубо бросил дубовые поленья в камин. Господа, это уже, простите… – Он, зелененький, развел руками, поднял к потолку водянистые глазки, захлебнулся слюной и, глотнув ее, вскрикнул: – И голубой свет в нашем обществе от присутствия солдата стал серым.
Зинаида Николаевна опустила лорнет; чопорно-сладким голосом прошипела, обращаясь к слушателям:
– Поэт Николай Атуев сказал о стихах солдатика и наше мнение.
– И отлично сказал, – раздался голос с другого конца стола.
– Стихи солдатика настолько реальны, что говорить о них действительно не стоит, – вонзая чайную ложку в коричневое пирожное, сказала сухопарая, с большим синим носом женщина.
Игнат Денисович Лухманов чувствовал себя неважно. Розовые пятна на его опухшем лице, вспыхнувшие перед чтением стихов, давно поблекли, и оно выглядело утомленным и болезненно землистым. Его глаза растерянно горели. Он старался не глядеть на сестру, которая сидела теперь не с мучнистым лицом, а с красным и с виновато опущенными глазами. Опут сидел с надутыми щеками, вытаращенными глазами, словно он проглотил не кусочек пирожного, а хватил еловую шишку, и она застряла у него в горле, и ему все время хотелось выплюнуть ее. Но он этого никак не мог сделать. Игнат презрительно поглядел на него и опять опустил глаза. Я остановил взгляд на лягушачьем лице Атуева, тут же с отвращением отвернулся от него и встретился с взглядом Игната. «Не одобряешь?» – спросил его взгляд. Я улыбнулся ему, сказал:
– Прекрасно, Игнаша. Не ожидал от твоей музы такого разительного блеска.
Мои слова, произнесенные в тишине, произвели движение среди гостей. Многие дамы направили лорнеты в мою сторону и стали глазами ощупывать меня, как что-то необыкновенно дикое, необыкновенно неприличное. Я спокойно и почтительно выдержал их взгляды, а одной, очень курносой, широколицей, с крупной родинкой на носу, – из родинки тянулся пучок черных волос, – показал кончик языка. Она покраснела, мотнула головой, отвернулась и, положив на колени лорнет, высморкалась в голубой платок. Поднялся со стула Бердяев, завернул за угол стола и подошел к Игнату Лухманову. Тот, опустив голову, не слышал, как он подошел и остановился за его спиной. Темно-коричневый пиджак висел кофтой на нем. Его темные с редкой проседью, длинные волосы, зачесанные назад, закрывали шею, свисали до плеч. Его темная клинышком бородка была приятна, благородна. Он очень был похож своим обличием на портрет славянофила – поэта Хомякова. Бердяев положил руку на плечо Игната, сказал:
– Вам, молодой человек, надо лечиться, а не стихи писать. Вы больны, и чрезвычайно.
Игнат Денисович резко обернулся к нему и, глядя задорно в лицо богоискателя, выпалил:
– А мне, господин, кажется, что вы больны, а не я. Подите за меня на фронт и поползайте там… Хорошо вам, господин, порхать за моими плечами и кричать: «Война до победы». Известно, господин, на печи не дует.
Глаза Бердяева расширились, остановились.
– Ыыых, – издал звук Бердяев и, повернувшись спиной к Игнату Лухманову, прошел к своему стулу.
Некоторые гости возмущенно поднялись. Они были оскорблены еще больше дерзким ответом солдата Бердяеву, чем его стихами. «Как осмелился он так непочтительно ответить знаменитому философу?» – спрашивали их округлившиеся от возмущения глаза. Сухое и очень длинное тело Зинаиды Николаевны Пирожковой, как чахлое растение из наполненной водой бутылки, просвечивало сквозь голубое шелковое платье. Она звенящим голосом объявила перерыв.
Гости вышли из-за стола, разбрелись по залу, разговорились. Через каких-нибудь две-три минуты жужжание голосов наполнило помещение. Философов, Батюшков, Бердяев и Пирожков окружили знаменитого поэта-офицера. К ним присоединились дамы и, держа лорнеты у глаз, не моргая, как совы, смотрели на покатую грудь поэта, на его тупой подбородок и на толстые, чуть вывернутые губы. Модест Азархович взял меня под руку, прогудел:
– Лухманов-то понравился мне. Он достойно держит себя в этом голубом сиянии. Да и стихи, лю-ли, его оригинальны. – Успенский прогудел что-то еще, но я не понял, так как меня отвлекли от него возбужденность гостей и суетливо-смущенная ходьба Нины Порфирьевны от одной группы гостей к другой, – она, как уловил я, собирала отзывы о стихах Игната и извинялась за его грубовато-непозволительные стихи и особенно за его дерзкий ответ Бердяеву.
Зинаида Николаевна вышла из-за стола и, плеснув ледяным светом голубых очей, скрылась за толпой мужчин. Не прошло и двух-трех минут, почти тут же после ухода хозяйки салона, появилась в белом накрахмаленном фартуке и кружевной наколке горничная и остановилась, отыскивая оживленным взглядом кого-то среди гостей. Увидав Нину Порфирьевну, она поспешно подошла к ней, сияя наплечниками фартука и белой наколкой. Она отвела сестру в сторонку и сообщила что-то. Нина Порфирьевна покраснела, потом побледнела, потом снова залилась румянцем и более густым, чем в первый раз, и слегка кивнула головой. Я понял, что богоискательница предложила через горничную Иваковской как можно скорее увести Игната и меня из ее салона, из общества муз и философов. Мое предчувствие не обмануло меня. Нина Порфирьевна выскользнула в коридор и, постояв там у зеркала, вернулась, – ее лицо было напудрено и выглядело спокойнее. Она поговорила с Опутом. Тот смотрел в сторону. Его темно-карие глаза, как у петуха, неподвижны и отливали металлическим блеском, – он думал, казалось, о другом, о чем-то своем, а не о том, что ему говорила Иваковская, – он слушал и не слушал ее.
– Идите. Ужасно получилось неприятно. Идите! – оборвал он сухо Иваковскую и, не глядя на нее, сунул ей руку и тут же повернулся к ней спиной.
Иваковская, изобразив на бледном лице веселое выражение, подошла ко мне, сказала:
– Нам, Ананий Андреевич, пора домой.
Я простился с Модестом Азарховичем Успенским. Сестрица поманила взглядом Игната Лухманова. Тот торопливо устремился к ней.
– Игнат Денисович, пора… Идемте одеваться.
Лухманов, переглянувшись со мной, зло улыбнулся. Он тоже, как и я, понял причину нашего быстрого ухода из салона Пирожковых. Мы вышли в прихожую, где стояли гости и курили, прошли к вешалке. На ней шинелей не оказалось, шапок не было на полке, среди шляп и цилиндров, бобровых шапок и студенческих фуражек. Среди штатской одежды – одна офицерская шинель.
– Мы повесили на этот крючок, – сказал Игнат и поглядел на Нину Порфирьевну. – Правда, наши шинели еще не проветрились от пороха и гари войны… с них еще не стерлись капли загрубевшей крови.
– А мое пальто? – спросила взволнованно Иваковская, стараясь своим голосом заглушить слова Игната Лухманова, чтобы их не слышали гости, толпившиеся в прихожей. – Ах, вот оно! – обрадовавшись, воскликнула она и стала его снимать с вешалки.
Лухманов помог надеть пальто Нине Порфирьевне.
– Солдатики, возьмите шинели, – обратилась горничная к нам. – Они на сундуке. – Она провела нас в другой коридор, ведущий на кухню.
В этом коридоре не было гостей, стояли корзины и огромный, окованный железом сундук, было темновато и пахло мышами. Шинели и папахи лежали на нем. Когда мы оделись, надели шапки и повернули было обратно в прихожую, чтобы выйти через парадное, а главное – попрощаться с хозяйкой и хозяином салона, горничная предупредила:
– Не сюда, солдатики… – и повела нас через кухню на черный ход, открыла дверь, и мы очутились на площадке узкой и крутой лестницы, от ступенек которой несло промозглостью, следами кошек и собак.
Мы молча, чувствуя себя оскорбленными, спустились во двор, затем выбрались ив него, как пленники из клетки, на улицу, на свежий морозный воздух и вздохнули. На улице – огни. В огромных домах – из-под абажуров красные, синие и голубые светы. По тротуарам густо шли люди, богато и бедно одетые, радостные и печальные, злые и добрые, краснорожие и бледнолицые. Среди них было немало военных: солдат, матросов и офицеров. Последние спешили, звякали каблуками и шпорами, в казармы. На перекрестках широких улиц и проспектов стояли толстые, широкомордые и усатые городовые. Мы молча и незаметно подошли к зданию лазарета. В вестибюле мы сняли шинели, папахи и сдали дежурному швейцару. Когда вошли в палату, Прокопочкин, Синюков, Первухин и Гавриил не спали. Не спал и Алексей Иванович, хотя его глаза были закрыты. Прокопочкин лежал на спине и читал вслух книжку, Синюков, Первухин и Гавриил слушали.
– Что так скоро вернулись? – загибая уголок страницы, спросил пытливо Прокопочкин. – Ай холодно приняли?
– А ты думал, братец, что… Встретят хорошо нас только черти на том свету, в аду. Да и то что-то не верится в доброту и ласку чертей, – сбрасывая с себя халат и прячась под одеяло, отозвался глухо и раздраженно Игнат Лухманов.
– Ананий, – сказал Прокопочкин, – раньше, чем лечь, погаси свет.
Я выключил электричество. В палате стало темно. Облегла тишина, теплая и ласковая. Она как бы втягивала нас все глубже в себя, а мы не сопротивлялись, все погружались и погружались в нее. За окнами, на Большом проспекте, гудели то и дело пробегавшие трамваи, сверкали зеленые молнии над ними. Они опять, как и в первые дни моего лечения, напомнили мне фронт под Двинском, стрельбу из орудий.
XVI
Вечером, за два дня до Нового года, Нина Порфирьевна вошла к нам, объявила:
– Вера Сергеевна, попечительница лазарета, решила преподнести каждому раненому подарок на память о нашем лазарете. Так вот, говорите, что кому нужно, а я стану записывать. – Она взяла из кармана халата тетрадку и карандаш и села к столу. – Любимов, – обратилась она к монашку, – вы крайний, и я начинаю с вас. Какой желаете получить подарок?
Гавриил, придерживая раненую руку на груди, смотрел круглыми глазами на Иваковскую и блаженно ухмылялся: он был застигнут, как и мы все, предложением сестры врасплох и не знал, на чем остановиться.
Выручил нас Прокопочкин – он попросил, чтобы ему подарили красный с белыми горошинами галстук и обязательно шелковый. Иваковская записала его просьбу. Первухин захотел получить на память о лазарете имени короля бельгийского портсигар из серебра и с портретом русалки на крышке.
– Чтобы она играла на волнах, – пояснил он серьезно. – Я такие портсигары, Нина Порфирьевна, видел и в витрине магазина на Невском проспекте, когда ходили в Скобелевский комитет за пособием.
– Обязательно с русалкой? – переспросила со смущенной улыбкой Иваковская.
– Конечно. Если не желал бы, так не стал бы и беспокоить вас такой просьбой. Если нельзя портсигар с таким украшением на крышке, то и ничего не надо мне, – отрезал с легким раздражением Первухин и вышел.
– Хорошо, хорошо, – сказала ему вслед Нина Порфирьевна, – покупать подарки буду я… И куплю то, что вы желаете.
Алексей Иванович ничего не пожелал. Он даже не ответил на ее вопросы. Сестра решила купить и ему подарок по своему вкусу. Игнат попросил ее, чтобы она купила для него стихи Бялика, еврейского поэта. Она записала желание его в тетрадку. Синюков пожелал иметь карманный ножик, и такой, который имел бы среди лезвий шило, ножницы, штопор и бритву.
– Только, сестричка, фабрики Кондратьева, а не варшавских, – предупредил Синюков.
Иваковская записала просьбу Синюкова.
– Ну, Любимов, на чем остановились? – обратилась она к монашку.
– Можно восемнадцать штук пирожных… и чтобы все были с кремом? – произнес тихо Гавриил, и на его розовом кончике носа выступили крапинки пота.
– Вы не скушаете их в один день, – подняв голову и глядя в сторону, чтобы не рассмеяться и не вызвать среди нас смех, возразила Нина Порфирьевна.
– Съем, – признался Гавриил.
– Скушаете – и ничего у вас не останется на память о нашем лазарете. Да вы и не голодны… Пирожное вы частенько получаете к вечернему чаю, – проговорила все таким же тихим и серьезным тоном Нина Порфирьевна, повертывая карандаш большим и указательным пальцами.
– Мало… – возразил монашек, – а я хочу сразу наесться ими.
В палате тихо. Голубоватый свет льется в окна. Паркет зеркалится бронзой. Сверкают ослепительной белизной подушки. Прокопочкин смахнул ладонью слезы с глаз. Синюков фыркал в подушку и вздрагивал плечами. Нина Порфирьевна, собрав на лбу морщинки, постучала по столу карандашом. На ее розовых щеках смеялись ямочки. Карие блестящие глаза мотали искорки.
– Ну ладно, – вздохнув, сказал Гавриил, – раз вы хотите от меня, чтобы я сохранил дольше память о вашем лазарете, так купите часы мне на руку, серебряные.
Синюков поднял голову от подушки, перестал смеяться.
– Эге! Вот это ход! – проговорил с оттенком зависти он. – От пирожных – к часам! Придется вам, сестрица, остановиться на пирожных.
– Зачем же, Синюков? – возразила мягко Нина Порфирьевна. – Мы можем остановиться и на серебряных часах. Я куплю ему, Синюков, то, что он просит.
Монашек шире открыл рот, перекрестился. Иваковская, записав желание монашка, глянула на меня.
– А вы, философ, что желаете?
– Купите мне сочинение Канта, – чувствуя иронию в ее словах, отрезал я.
Если бы сестра не назвала меня философом, то я, конечно, и не попросил бы сочинений Канта – не вспомнил бы о нем. Канта я читал давно, когда мне было восемнадцать лет, читал, когда бродил с топором, пилой и рубанком за спиной по Сальским степям. Ни черта я тогда не понял из его «Критики чистого разума». В голове остался от прочитанной книги какой-то туман. Я решил прочесть это сочинение еще раз… и прочел, – упрямым и любознательным я был парнем. И после второго чтения – иксы и херы… только их больше собралось в моей голове, чем от первого чтения. Добрался малость до сути его философии только в университете. Нина Порфирьевна испуганно поднялась, на ее лице растерянность.
– Вы шутите, Жмуркин, – протянула она строго и обидчиво и, подумав, спросила: – Зачем вам Кант? Вы его не поймете… Мы, студенты…
– Я хочу еще раз прочесть сочинения этого философа, – оборвал я резко сестру и настойчиво пояснил: – «Критику чистого разума» и другие труды.
Нина Порфирьевна ничего не сказала, вышла. «Не записала, – подумал я. – Не купит. Да и зачем мне этот Кант?» – решил я и почувствовал себя удовлетворенным тем, что я так ловко отказался от подарка.
Вечером на другой день, накануне Нового года, Иваковская и обе Гогельбоген с сияющими лицами, милыми и добрыми, внесли подарки в нашу палату и положили их на стол. Нина Порфирьевна села на стул, раскрыла тетрадку и начала называть фамилии и названия подарков. Обе Гогельбоген подавали подарки раненым. Прокопочкин получил галстук. Он горел в руках его пламенем, и с него как бы сыпались на пол белые горошины. Вот до чего был красив галстук! Казалось, вот-вот прилетят жар-птицы и будут клевать падающие с него горошины. У меня даже при виде этого галстука захватило дух. Гавриилу подарили наручные серебряные часы, миниатюрные и нежные. Он надел их и, прислушиваясь к их ходу, стал прохаживаться с таинственно-счастливой улыбкой по палате. Первухин получил серебряный портсигар, на крышке которого бушевали волны и, поднявшись из них до пояса и показывая груди, улыбалась русалка, она, заломив руки под голову, звала к себе. Первухин тут же спрятал портсигар в карман, но улыбка счастья долго светилась на его смуглом, оливковом лице. Игнату подарили в белом шелковом переплете книгу Бялика, с надписью на первой странице:
«На память о лазарете № 226 имени короля Бельгийского Альберта.
30 декабря 1916 г. Попечительница Вера Нарышкина».
Синюкову дали карманный ножик фабрики Кондратьева, такой, какой просил. Я получил толстый том Канта. Я открыл и прочел на титульном листе:
«Критика чистого разума».
На обложке было написано:
«Рядовому 178 Новогинского пехотного полка Ананию Андреевичу Жмуркину.
Попечительница 226-го лазарета имени его Величества короля Альберта Бельгийского Вера Нарышкина».
Пришла Ерофеева, главный доктор, полная и пожилая женщина. Она очень добра ко всем нам, поговорила с каждым, получившим подарки, похвалила их. Обратилась к Синюкову:
– Острый? Бреет?
– Ловко, – вздохнув, радостно ответил Синюков. – Ножи фабрики Кондратьева без обману…
– А вам что подарили? – обратилась доктор ко мне и взяла книгу со столика. – Кант? – Серые мягкие и добрые глаза Ерофеевой сузились, черты лица вытянулись от удивления. Ерофеева еще раз пристально посмотрела на меня и, ничего не сказав, отошла. Сестры последовали за нею.
Ерофеева остановились у койки Прокопочкина и стала тихо говорить с ним. Потом, уходя из палаты, сказала:
– А вы, Прокопочкин, дружите со Жмуркиным. Кажется, вы поймете друг друга и сойдетесь… станете товарищами.
После ужина в палате остались только я, Алексей Иванович да Прокопочкин. Что-то мурлыча, Прокопочкин достал книжку из-под подушки, взял костыль и подошел ко мне, сел на койку в ногах и, пристально взглянув на меня, спросил:
– А вот этого автора, философ, когда-нибудь читали?
Я взял из его рук книгу и прочел на обложке:
«В л а д и м и р И л ь и н. Развитие капитализма в России».
– Не читал, – соврал я. – Первый раз слышу эту фамилию. Интересная книга?
– Когда прочтешь, тогда поговорим, – ответил Прокопочкин и встал с койки и отправился на свою, недоверчиво косясь на меня. – Читай так, чтобы сестры не замечали, – предупредил обиженно он меня, прилаживая костыли к стене, между столиком и изголовием койки.
Я промолчал, положил книгу под подушку.
XVII
На второй день нового года я, Прокопочкин, Синюков и Игнат Лухманов отправились в город. Прокопочкин уже хорошо ходил на искусственной ноге, опираясь на трость с медным набалдашником. Скрип протеза не действовал мне на нервы, как в первые дни моего пребывания в лазарете. На Прокопочкине суконный костюм, белая с отложным воротником рубашка и красный шелковый, с белыми горошинами галстук, черные, ярко начищенные ботинки. Поверх костюма ватное пальто с барашковым воротником. На голове – шапка из искусственного каракуля. Я, Синюков и Игнат Лухманов – в солдатской одежде. Над столицей – сиреневые сумерки. Оранжевый шар солнца скатился за дома и там догорал. Над ним фисташковым светом отсвечивала полоса неба, розоватые лучи поблескивали на небосклоне. На широких тротуарах потоки жителей. Они гудели говором. Мы шли тихо. На лице Прокопочкина капли пота. В его глазах сверкали слезы. На его бледных губах улыбка. Мы пересекли улицу, мост через Неву, завернули за угол, другой, подошли к трамвайной остановке, сели в трамвай и поехали. Ехали не меньше получаса. Задержались на перекрестке улиц. Дома высокие, угрюмые. Они как бы ворчали на нас: «Проходите. Да проходите же, черт возьми, скорее!» На тротуарах шире потоки людей, чем были на тротуарах за мостом; гул города выше, грознее. Я достал из кармана шипели записную книжку, открыл ее и прочел адрес.
– Дом должен быть недалеко, – пряча книжку за обшлаг рукава, сказал я.
Мы молча сделали несколько шагов и остановились у железных ворот четырехэтажного дома, похожего на казарму. Ряды его узких окон освещены. Вход со двора, третье парадное. Вошли во двор. Опять остановились. Мне показалось, что мы не на дворе, а на дне какой-то фантастической высокой клетки, в пустые отверстия которой вливались разноцветные светы. Только ее плоская крыша была дымчато-темной. На дворе – ни души. Синел снег, темнели дорожки на нем, проложенные от одного парадного к другому.
– Вам кого? – раздался сиплый голос из угла двора, полного теней, похожего на собачью конуру.
Мы оглянулись, чуть вздрогнув. Из угла, как бы поднимаясь из норы, выползла темная фигура. Вырастая, она медленно подошла к нам. Это был пожилой человек. На нем из простых овчин тулуп, из-за краев высокого воротника – красные одутловатые щеки, острые глаза, моржовые усы. На груди тулупа – медная бляха. От тулупа исходил затхло-горьковатый запах.
– Вам кого? – раздался вторично сипловатый голос, и тут же этот голос стал мягче, теплее. – Солдатики… раненые. К кому идете? Номер квартиры?
Я назвал. Дворник показал рукой парадное. Мы прошли по тропинке через весь двор, на красный огонек над темной дверью, похожей на крышку гроба. Скользнули в нее и стали подниматься по крутой каменной лестнице, пугая кошек. Прокопочкин часто останавливался и, держась рукой за железные перила, отдыхал: ему было тяжело нести протез. Я, Синюков и Игнат Лухманов задержались. Пахло кошками и противной гарью кухонь. Из-за дверей смутно долетали до нас голоса женщин, шипение примусов. Поднялись на четвертый этаж. Я дернул за ручку звонка. За дверью звякнул колокольчик. Тишина. Затем – шаги. Они все ближе. Остановились у двери. Щелкнул крюк. Звякнул. Открылась дверь. На ее пороге, освещенном электричеством, – брат Евстигнея.
– Входите, входите, – предложил приветливо Арсений Викторович и подался назад, чтобы пропустить нас.
Его пушистые рыжеватые усы освещены радостной улыбкой. Мы вошли. Мы поздоровались. Хозяин запер дверь на крюк и повел нас через крошечную кухню в коридор, короткий и светлый. Здесь мы разделись, повесили шинели и шапки на вешалку. В коридор выходили кроме кухонной еще три двери.
– Теперь вот сюда, – позвал Арсений Викторович и распахнул перед нами дверь в светлую комнату, находившуюся почти против вешалки. Мы вошли. Протез Прокопочкина чуть поскрипывал. В небольшой комнате чисто, светло. Посреди нее стол, на нем белая скатерть. В уголке – столик. На нем – будильник. На стене – портрет Максима Горького, писатель в шляпе, осеннем пальто нараспашку, в русской вышитой рубашке, в сапогах. Одет крикливо. В этом наряде он не понравился мне. Рядом со столиком этажерка с книгами. У противоположной стены – диван под белым чехлом. Чехол не смят, – на диван еще, как заметил я, никто не садился. У стен – стулья. У стола – стулья венские, с круглыми спинками. Над столом – лампа с кремовым шелковым абажуром. В помещении фисташково-серебряный свет.
– Присаживайтесь, – предложил Арсений Викторович, – будьте как дома.
Прокопочкин, Лухманов и Синюков сели на диван. Я на стул, возле этажерки. На земляке крахмальная сорочка, черный галстук, темно-синий костюм, жилетка, такого же цвета ботинки. Его рыжеватые, с легкой проседью волосы зачесаны назад.
– Закусите сейчас или потом, со всеми? – предложил Арсений Викторович.
Мы отказались. Поблагодарили, сославшись на то, что недавно пообедали.
– А по рюмочке водочки пропустите, – сказал хозяин и, покручивая усы, подмигнул мне.
Мы и от водочки отказались. Арсений Викторович знал, что я трезвенник. Отвращение имею с юношеских лет к водке, с того самого дня, в который спился мой отец. Его труп лежал три дня и три ночи у лестницы винной лавки, лежал на спине, с запрокинутым, темным, как чугун, лицом. Его левый глаз был широко открыт и, подмигивая, смотрел в небо, как бы дивился его синеве, такой чистой и ласковой. Труп отца охраняли понятые. Приехали власти – становой, урядник и старшина, приехали земский врач и фельдшер. Понятые подняли отца на простой стол, освободили его тело от посконной рубахи и тяжелых порток, онуч и лаптей. Фельдшер, маленький, с веснушчатым лицом и сивыми, чуть выпученными, насмешливыми глазами, взял ланцет и стал привычно вспарывать живот отцу. Моя мать, увидев, что отца стали резать, завыла громко и страшно. Я зажал уши и побежал через выгон к околице, а затем в поле и провалялся на меже, скрытой цветущей рожью, в пахучей полыни до следующего дня. Я вернулся домой только тогда, когда гроб с останками отца взвалили на телегу и повезли вдоль деревни на кладбище – поп Никанор не разрешил опившегося грешника внести в церковь для отпевания. Не пил я до мобилизации на фронт и разрешил себе выпить в день проводов, в семье Евстигнея, – уж больно тогда не легко было у меня на сердце: мне хотелось взять топор, котомку, две-три книги и отправиться опять на заработки на Дон, на Кубань, в Сальские степи, на Нижегородскую ярмарку, к черту на кулички, но только не на фронт. Вошли молодые женщины и, поглядывая на нас, остановились у порога. Мы поднялись и поклонились им. Хозяин представил нас сначала своей жене, потом ее сестре. Мы познакомились. Жену Арсения Викторовича звали Ольгой Петровной, ее сестру – Серафимой Петровной. Несмотря на то что они родные сестры, были совершенно не похожи друг на друга. Ольга Петровна высока и полна, с пышной русской прической, с серыми спокойными глазами, с веснушками на полном и сытом лице. Ее глаза и лицо как бы говорили своим выражением: «Я все от жизни получила, и мне больше ничего не надо от нее. Я счастлива, господа». Серафима Петровна была много ниже сестры, смуглолицая, черноглазая. Ее глаза и ямочки на смуглом и круглом лице были насмешливы, говорили: «И я много взяла хорошего от жизни, но хочу взять еще больше от нее. Я жадна, ненасытна». Женщины работали ткачихами на Невской мануфактуре. Жена Арсения Викторовича была моложе своей сестры. Серафима Петровна села возле меня. На ней шерстяное темно-серебристое платье, белый воротничок. В черных, гладко причесанных волосах золотистые гребенки с серебряными бусинками на роговых дужках. Рот у нее маленький, с белыми, как жемчуг, зубами, насмешливый. Верхняя губа чуть вздернута. Крылья небольшого носа прозрачны и нервны. Она повернула лицо ко мне и, глядя черными глазами на меня, строго сказала:
– Служивый, бороду-то надо снять. Вы до того запустили ее, что в ней пес запутается. Одни только глаза светятся из нее. Да еще разве пуговка носа. Не люблю неряшливых мужчин. Для солидности, что ли, бороду-то отпустили? – и она окинула насмешливым взглядом мою крошечную фигуру.
Я смутился, закашлялся. Сказать по совести, я не ожидал, что она способна, будучи мало знакомой мне, начать такой разговор о моей бороде и хулить ее. Откашлявшись, я робко запротестовал:
– Серафима Петровна, что это вы сразу накинулись на мою бороду? Если она нравится мне и удобна…
В коридоре раздался звонок, и я не закончил фразы. Арсений Викторович вышел встречать гостей. Игнат Лухманов, Прокопочкин и Синюков разговаривали с Ольгой Петровной. Серафима Петровна улыбнулась, сказала:
– Не обижайтесь. Я привыкла говорить в глаза то, что думаю. Многие говорят, как я знаю, совсем не то, что думают. Я не из таких… И я скажу вам еще раз: борода у вас гадкая. Она не подходит к вам: больше вас.
Я пожал плечами, но не рассердился на женщину, привыкшую говорить то, что думает, а не то, что не думает, в глаза собеседнику, который ей даже мало знаком и совсем незнаком.
– Арсений часто рассказывал мне о вас… Говорил, что вы интересный… много видели, начитаны невероятно. Вы, судя по вашей бороде, не проповедуете ли какую-нибудь веру? Это теперь модно. – Она говорила это, как показалось мне, серьезно, и глаза ее и ямочки на лице смеялись, и я не мог сердиться на нее.
Я молчал. Слушал. Да, не сердился. Но от слов Серафимы Петровны мне все же стало грустно и обидно. Слушая ее, я вспомнил свое детство, юность и отрочество и сказал про себя: «Бродяга». Так земляки, знающие коротко меня, – я ведь из деревни ушел десятилетним мальчиком, – понаслышке называют «бродягой», «грамотеем», «крамольником» и «безбожником». А моя сестра называет ласково и насмешливо меня «скубентом». Сестра?.. Я не сержусь на нее: люблю. Да и она знает то, что я не бродяга… А студентом был… С четырех лет я научился грамоте, пристрастился к чтению… И жажда к книгам, к учению не угасает во мне и теперь, с каждой минутой становится все сильнее. И не один раз я прошел вдоль и поперек Россию. И Россия была для меня книгой, да еще какой… И я прочел какую-то часть ее, и она помогла мне в моем развитии, в понимании жизни. Я хотел было сказать об этом Серафиме Петровне, но, взглянув на ее смеющиеся лукаво ямочки щек и черные, как угли, глаза, раздумал. Раздумал, признаюсь, не потому, что она не поймет меня так, как надо, или не поверит мне, а только потому, что на этот рассказ потребовалось бы много времени. Кроме того, у меня не было никакого желания быть нелюбезным с Серафимой Петровной – обрывать ее бойкую и чуть насмешливую речь. Серафима Петровна долго говорила обо мне, о моих скитаниях, но в ее словах, как я уже сказал только что, имелось много неправильного и фантастического. Не перебивая Серафиму Петровну, я покорно и терпеливо слушал и молчал. Я заговорил только после того, как она серьезно и неожиданно для меня перешла к другой теме.
– Ананий Андреевич, знаете что, – проговорила она твердо, – вас совсем не отпустят… и вы, наверно, пробудете в какой-нибудь казарме месяц, а то и два.
– Возможно, – проговорил я. – Пошлют в команду слабосильных, а может, по чистой.
– Я стану ходить в гости к вам, – не слушая меня, пообещала Серафима Петровна, – конечно, по воскресеньям и только изредка в будни. И вы введете меня в общество своих товарищей. Согласны?
Ольга Петровна обернулась к сестре:
– Сима, что ты взялась мучить Анания Андреевича? То борода его не нравится тебе…
– Противная у него борода.
– Постой! То в гости напрашиваешься к нему… Нехорошо это!
– А к кому же мне ходить в гости, как не к нему?
– Ананий Андреевич, идите сюда, на диван, – позвала Ольга Петровна.
– Нет, сестра… Я не отпущу его от себя, – рассмеялась женщина. – И в гости буду ходить к Ананию Андреевичу, только с большого разрешения.
Ольга Петровна, Прокопочкин, Синюков и Игнат Денисович загадочно улыбнулись. Улыбнулся и я, подумав: «Неужели она знает, кто я по убеждению?» Из коридора кто-то из гостей открыл дверь, и из нее показались два лица, молодые и серьезные. Хозяйка встала с дивана и весело направилась к ним. Гости открыли шире дверь и шагнули вперед. На одном пальто с каракулевым воротником, котелок. На другом синий костюм, – он уже разделся и пальто повесил на вешалку. Остальные раздевались. Раздался еще звонок. Хозяйка пошла открывать, увлекая за собой от порога гостей.
– У нас, в Риге, так не одеваются чисто рабочие, – сообщил Синюков. – Может, это служащие? Из конторы?
– И не служащие и не из конторы, – пояснила Серафима Петровна, – а самые настоящие питерские пролетарии – токари и слесари с Путиловского и… – Она не докончила, так как из коридора вошли шестеро гостей и, поздоровавшись с нами, стали усаживаться на свободные стулья.
XVIII
Гости, как и Арсений Викторович, были одеты в отличные костюмы, на всех были крахмальные сорочки. Трое – одних лет с Арсением Викторовичем, со мною, остальные много моложе. Их прекрасные костюмы и сорочки меня не удивили, как Синюкова; я знал, что питерские рабочие – это европейцы, цвет русского пролетариата, не то что москвичи, которые по одежде смахивали на крестьян и на чернорабочих по обличью. О сормовичах, орехово-зуевцах, о туляках и говорить не приходится – они своей одеждой почти не отличались от местных крестьян, а также от жителей уездных городков. Они отличались мало и говором от сельского и пригородного населения. Нижегородцы, например, окали. Туляки произносили слово мягко. Они уже не скажут «идет», «пьет», как нижегородцы, а скажут «идеть», «пьеть». Питерские рабочие не говорили на «о» и не произносили слова по-тульски-орловски мягко, с окончанием на «ь», а говорили твердо, правильно, литературно. Вернулся хозяин и, улыбаясь и потирая большие мозолистые руки, но чистые, как бы отлитые из самой доброкачественной светлой меди, сказал:





