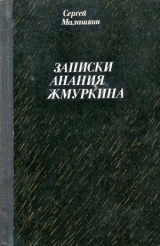
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Слушатели переглянулись. Ямалетдинов не вытерпел, сказал:
– Нехороша твоя сказка. Эту сказку сам придумал. Мужик не такой, как в твоя сказка. Неправда твоя сказка. Ленин о мужике не так писал…
– Ленин? – оживился Прокопочкин и густо покраснел. – Мени, ты знаешь Ленина?
– Моя не знал лично Ленина, – вздохнул Ямалетдинов и пояснил: – Моя был в Баку, на нефтяных работах, и встречал Коба… Моя участвовал в забастовке и нес красный флаг, а рядом шел Коба… Он говорил о Ленине, о мужике говорил, что у мужика одна дорога с рабочими. И это так, Прокопочка, а сказка твоя нехороша… Моя – тоже мужик, потом рабочий, а теперь моя солдат. Моя не убьет – опять станет рабочим, бастовать будет, бороться будет. А твоя, шахтер, как? – Глаза Мени остановились на Прокопочкине, затем на Синюкове.
– Я шахтер. Теперь, Мени, им не буду, – сказал Прокопочкин. – Я шахтер без ноги, а бороться буду… вместе, Мени, с тобою. А конец сказки я придумал. Мужичок, Мени, станет таким, если он не пойдет по нашей дороге.
– Правда твоя, Прокопочка, – согласился Ямалетдинов. – Так моя у Ленина читал… Так моя очередь говорить сказку.
Мени Ямалетдинов оживился, его черные глаза зажглись.
– Я вам расскажу веселую. Слушайте.
Койка Мени стояла возле Игнатова, которого четыре дня только назад сняли с санитарного поезда, и он слушал сказки Прокопочкина, как и Мени, и стихи Игната Лухманова. Ямалетдинов и Игнатов поняли, что мы, как и они, рабочие, одного с ними мировоззрения. Мени Ямалетдинов подружился сперва с Прокопочкиным, потом с Лухмановым и Синюковым. Он только долго приглядывался ко мне и к Игнатову; от меня его, видно, отпугивала моя борода и мои насмешливые глаза. Игнатов был молчалив, и вот поэтому Ямалетдинов менее дружил с ним. Я свесил ноги с постели, надел туфли, накинул халат на плечи, поправил одеяло и стал ходить, прислушиваясь к певучему и очень приятному говорку Мени Ямалетдинова. Его сказку «Красный цветок» я передаю без акцента рассказчика, своими словами и немножко вольно. Я знаю, что в моей передаче эта сказка Мени потеряет тонкий восточный колорит, пронизанный горьковатым юмором. Но я все же решил записать ее.
Вот она.
XXII
Пастух пас стадо. Он был до того стар, что едва переступал. Вокруг степь. Над нею синее небо, знойная тишина. Но пастух был равнодушен к природе: он одряхлел телом и душой. К палкам хана старик тоже привык: когда они опускались на его сухую спину, вернее, на мешок костей, он уже не ощущал острой боли. Его желтое, в морщинах лицо как бы говорило: «И горе, если оно продолжительно, и радость, если она обычна, одинаково остужает кровь и делает сердце черствым». Пастух не заметил, как подошел внук. Несмотря на лохмотья, болтавшиеся на нем, он был строен и красив. «Дедушка, – сказал юноша, – мне надоело жить одному: я хочу жениться. Сходи к хану и попроси его, чтобы он позволил мне взять в жены дочь садовника. Я не видел ее лица, но знаю, что она прекрасна и благородна». Пастух поднял глаза, поглядел в степь. Там, как облака, белели овцы из голубой травы. Как раскаленные угли, пылали цветы мака. Потом старик остановил взгляд на внуке и долго смотрел на него. Лицо его было неподвижно. Юноша терпеливо ждал ответ деда. Старик, увидав во внуке свою молодость, оживился. «Как он похож на меня, когда я был молодым». Он вздохнул и сказал: «Я пойду к хану», – и в его потемневших глазах показались слезы. Он поднял руку и закрыл рукавом чапана лицо, как бы от солнца, – это он скрыл слезы. Юноша не заметил плачущих глаз деда: думал о дочери садовника. «Хан хочет взять ее в гарем, – не глядя на внука, сообщил старик и ниже опустил голову. – Не все орлята женятся на орлицах». Юноша стоял на своем: «Ты скажи ему: «Средоточие мира, дозволь жениться моему внуку на дочери садовника». – «Я скажу хану так, как просишь», – ответил пастух. Пришел вечер. Солнце коснулось земли. Погасло. Небо потемнело и, хрустальное, засветилось звездами. В садах защелкали соловьи. Старик отправился к кибитке хана. Юноша остался пасти овец. Пастух вошел во двор хана. На дворе ожидало много подданных. Одни ожидали милостей от божественного, другие палок и цепей. Старик стал в очередь и повернул сморщенное и черное от горя и нищеты лицо к трону. Средоточие мира полулежал на шелковых подушках. Старик слышал, как хан приказал палачу отрубить одному просителю голову, второму вспороть живот, третьего отправить в тюрьму и посадить на цепь, – все они просили руки дочери садовника. Пастух испугался за внука, вышел из очереди просителей и покинул двор. Он провел ночь у колючей изгороди ханского сада. Из сада доносился аромат роз. Сон не коснулся его очей. В ханском саду журчали фонтаны, щелкали соловьи. С ханского двора доносились дикие стоны и вопли подданных – слуги хана били палками их. Ночь прошла. Посветлело небо. Покраснел восток. Крыши женского двора порозовели. Старик привстал и, глядя на солнце, вздохнул: «Что мне пользы в том, что я вижу себя в моем внуке. Вот если бы у меня были резвые ноги, его живые черные глаза, его горячее сердце, я не стал бы так жить, как жил в молодости», – проговорил он и заковылял в степь, к ханскому стаду. «Аллах, что я говорю? Разве мой внук ступил на след моей молодости и хочет следовать по нему до своей старости? Аллах, ты мудр и видишь, как бесславен мой путь. Аллах, ты не позволишь внуку идти по моему рабскому пути. Аллах, если ты позволишь ему идти по моему пути, то я больше не знаю тебя», – закончил он взволнованно.
Когда старик пришел к стаду, солнце уже было высоко над степью. То здесь, то там белели стада овец, как красные угли, рдели из голубой травы цветы мака. «Был у хана? И что он сказал тебе?» – встретив деда, спросил юноша. «Да, я был во дворе божественного, видел, как палач по его приказу вспарывал животы, рубил головы подданным, осмелившимся просить у него в жены дочь садовника. У средоточия мира не двор милостей, а живодерня. Я не вынес страдания людей и ушел», – проговорил старик.
Выслушав внимательно деда, юноша твердо сказал:
«Завтра, дедушка, непременно повидай хана, скажи ему то, что я просил тебя».
Рано на рассвете пастух отправился к хану. Божественный только что проснулся, возлежал на шелковых подушках, поглядывал в степь. Его жирное коричневое лицо лоснилось, как снег белела его чалма. Увидав старика, хан насупил брови: «Что тебе надо, старая крыса?» Старик поклонился, почтительно сказал: «Средоточие мира, у меня, как ты знаешь, есть внук. Его глаза ослепли от красоты дочери садовника, и он послал меня сказать тебе об этом. Что ты, божественный, прикажешь ответить ему?» Хан громко рассмеялся. Чалма с его головы съехала, свалилась набок. «Аллах, уж не подавился ли хан моей просьбой? Вот было бы хорошо», – подумал пастух. Хан похлопал в ладоши. Прибежал слуга и поправил шелковые подушки, чалму на его голове. Когда слуга скрылся, божественный повелел старику: «Иди возьми внука и немедленно приведи его».
Пастух до того испугался, что едва вышел с ханского двора. Он испугался не за себя, а за внука. Солнце село, когда он вернулся к стаду. Сумерки легли на степь. Тишина звенела пеньем цикад. Пастух передал повеление хана внуку. Утром, как поднялось солнце, дед и внук были у двора божественного. «Войдем», – предложил внук. Они вошли. Поклонились. Средоточие мира позвал их к себе. Когда они кланялись, хан отвернулся и стал смотреть на большой, окованный серебром сундук. Дед и внук не хотели первыми начинать разговор, чтобы не разгневать хана. Хан перевел взгляд с сундука на старика, потом на юношу.
«Говоришь, дочь садовника ослепила своей красотой тебе глаза? – спросил строго божественный. – Я помогу тебе стать зрячим». Хан замолчал, сверля глазами юношу; он задумался и сказал: «Знаешь, что я решил взять дочь садовника к себе? Она рождена для меня, а не для вонючего пастушонка. Как ты, негодный, посмел пойти по другой дороге, чем твой дед и все твои предки? За твою дерзость я посажу тебя на кол. Будешь вертеться на нем столько времени, сколько пройдет солнце от одного края земли до другого».
Божественный вспомнил песню дочери садовника. Она песней призывала к себе не его, властителя мира, а вот этого оборванного пастушонка, но сильного и красивого. Хан опять задумался. «На кол сажать его не буду, – решил он, – а отправлю к мулле, чтобы тот хитростью заточил его в подземелье. Он молод и силен, так пусть он дни и ночи ищет в земле золото для моего сундука». Полузакрыв глаза, чтобы видеть пастухов, божественный сказал сладким голосом: «Хорошо, я согласен отдать тебе дочь садовника, если ты выполнишь мое повеление».
Юноша поклонился до земли.
«В нашей стране есть большой ученый, мулла, – возвысил голос божественный, – если принесешь мне знания от муллы, то я разрешу тебе жениться на дочери садовника».
Юноша согласился, он этого и хотел от хана. Дед и внук отправились домой. Старик совсем пал духом, так как знал, что все, кто ступал на эту дорогу, проваливались навечно в подземелье. Не минует эта участь и его внука. «Аллах, мой внук не женится на дочери садовника», – пробормотал печально старик и опустил голову. Дед и внук молча поели черствых лепешек и заснули. «Дедушка, – проснувшись, обратился юноша к деду, – отведи меня к мулле. Скажи ему, что я хочу учиться у него уму-разуму». – «Идем, – ответил неохотно старик, – я так и скажу, как ты говоришь, святому».
Идти было недалеко. Когда они подошли к богатым палаткам, мулла стоял у двери самой роскошной и чесал спину. Его сердитые глаза блестели. Пастухи почтительно приветствовали святого. Мулла бросил взгляд на юношу, спросил: «Ради чего пришел? По какому-нибудь делу или ради чего другого?» Юноша благоговейно смотрел на него – он прикинулся юродивым. Дед покосился на внука, покачал головой, сказал: «Святой мулла, не сердись на несмышленого: он молод и немного глуп. Я привел его к тебе, чтобы ты, святой, научил его мудрости». – «Я займусь с ним, – пообещал сухо мулла, – можешь уходить». Пастух поблагодарил муллу и ушел. Юноша стоял с наивно-глуповатым выражением на красивом лице и улыбался в глаза святого. «Он и вправду глуп, – решил про себя мулла, – его легче будет спровадить в шахту. Пусть он днем и ночью рубит породу и ищет в ней золото». Мимо кибитки муллы прошла дочь садовника. Она была так прекрасна, что затмила собой свет утра. Увидав ее, юноша вздрогнул. Мулла не заметил его волнения, – он тоже смотрел на девушку. Мулла послал юношу во двор, а сам направился в самую лучшую кибитку. Юноша ходил по двору, заглядывал в сад. Там тишина, тени деревьев и солнечные пятна на дорожках и между деревьями, щебетали птицы, сквозь блестящую листву деревьев струился солнечный свет, работали, не разгибая спин, батраки. Юноша не заметил, как солнце село, и он без приглашения муллы вошел в кибитку: ему захотелось есть. Мулла пил чай и вытирал часто лохматым полотенцем лоснящееся лицо. Увидав юношу, он поставил пиалу с ярко-зеленым напитком, закричал: «Как без моего зова посмел войти сюда? Что тебе надо?» – «Святой мулла, мой дед привел меня не караулить твой двор, а научиться у тебя мудрости», – ответил почтительно юноша. «Хорошо, – пообещал сердито мулла, – я сегодня же займусь с тобою. Сейчас выйди вон и жди на дворе». Пастух удалился во двор и стал ждать там. Восток багровел. От него протянулись красные полосы света, легли на постройки, на темные деревья. Батраки все еще работали в саду. Мулла показался из кибитки. «Идем», – позвал он юношу и повернул к воротам. «Я никуда не пойду, – ответил почтительно юноша. – Святой мулла, я не гулять пришел, а набраться от тебя мудрости. Я не хочу быть глупым и походить на твоих батраков, которые день и ночь, как верблюды, трудятся в твоем саду и пухнут от голода. Я хочу быть мудрым и жирным, как ты. Святой отец, научи меня тому, чтобы я мог быть похожим на тебя».
Мулла позеленел. Он ни от одного батрака еще не слыхал таких речей. Святой окинул змеиным взглядом юношу. Под лохмотьями его чапана он увидел стройное и сильное тело.
«Средоточие мира, ты большой осел, – раздраженно сказал про себя мулла. – Ты должен бы сам отрубить этому разбойнику голову, а не посылать его ко мне».
Заря догорала. В небе зажигались звезды. Мулла, не сказав ничего пастуху, зашагал по дороге. Юноша осторожно, чтобы слуги не заметили его, перелез через забор и отправился за ним. Мулла пришел на пустырь, заросший сорными травами, остановился, лег на земле и стал произносить заклинания. Юноша притаился, не дышал в сорняке, недалеко от муллы, стал слушать. Земля задрожала, открылась яма, и мулла нырнул. Юноша подполз к ной, куда только что скрылся святой, и стал прислушиваться. Тьма. Ничего не видно. В дикой траве шуршат какие-то гады, сипят цикады. В эфире, как изумруды, переливаются звезды. Плещется фиалковая синева. Прошло много времени. Услыхав шум, он отскочил в кусты, притаился. Мулла вылез, отряхнул халат от пыли, сделал заклинание и свернул в другую сторону.
Святой шагал по дороге. Юноша поспешил на то место, где только что был мулла, сел и совершил заклинание. Земля задрожала, и открылась перед ним яма. Он спустился в нее и увидел человека. Тот сильно перепугался, встретив юношу.
«Один? Откуда? – спросил он испуганным и глухим голосом. – Сюда спускаются люди только с муллой и никогда не выходят обратно». Юноша смотрел на человека и дивился тому, как держится в нем душа. Перед ним стоял не человек, а тонкий длинный мешок с костями. Он узнал от человека все то, что ему было нужно. «Теперь иди, – сказал человек, – и ничего не бойся, раз знаешь тайну муллы. Мы тоже, узнав ее от тебя, выйдем все». Юноша вернулся во двор святого. У его усадьбы он опять встретился с дочерью садовника, прекрасной, как весеннее утро. Не останавливаясь, она спросила: «Где был?» – «Мой свет, ты даже и подумать не можешь, в каком месте я был», – ответил с нежностью юноша. Девушка сказала: «Ты отнял у муллы и хана искусство наслаждения жизнью. Если они узнают, что ты был в подземелье, они посадят тебя немедленно на кол. Я пойду и скажу твоему деду, чтобы он пришел к мулле и взял тебя домой». И дочь садовника дала ему красный цветок. «Храни его в сердце, всегда помни о нем, как о своей крови, а когда тебе будет грозить несчастье, обратись к нему за помощью». Юноша не успел ответить ей, как она скрылась. Он перелез через забор, лег под столетний дуб и, закрыв глаза, провел остаток ночи.
Утром пришел старик к мулле. «Святой отец, я не могу один справиться с ханским стадом, – сказал он, – и позволь мне забрать домой внука». Мулла ответил: «Бери его, он мне не нужен. У него в голове не мозги, а песок. Он никогда не научится мудрости». Дед и внук ушли. Мулла смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись. Наступил вечер. Зажглись звезды. Защелкали соловьи. Мулла отправился на пустырь, чтобы взять дневную добычу золота. Увидев у шахты следы, мулла остолбенел от удивления: юноша украл у него и у хана искусство наслаждения жизнью. Он в гневе, не заходя домой, побежал в степь, чтобы там настигнуть юношу и убить его. Дед и внук находились у стада, ничего не подозревая. Увидав их, мулла залег в густую траву и пролежал до утра. Старик, опершись на палку, дремал. Внук пел песню, славя красоту дочери садовника.
Поднялось солнце. Степь засверкала, заискрилась разноцветными цветами, травами синими. Мулла превратил себя в сокола, взмыл и стал кружить над стадом. Услыхав шум, юноша тотчас же сообщил деду: «Дедушка, берегись, это мулла переметнулся в сокола», – «Внучек, беги, а я останусь, – приказал в страхе старик. – Он ничего не сделает мне: я и так скоро помру. А вот тебе не надо бы связываться с ним. Жил бы покорно, как я… Хан всегда будет ханом, мулла – муллой». Старик замолчал, опустил ниже голову: он уже давно примирился со своей участью. Юноша бросился в аул, не спуская зорких глаз с сокола. Он забежал в огород. Сокол опустился следом за ним. Увидав его на огороде, недалеко от себя, юноша при помощи красного цветка превратился в дыню. Сокол стал муллой. Не теряя минуты, он приказал огороднику: «Сорви вон ту дыню и принеси мне, а я дам за нее хорошую молитву тебе».
Огородник побежал к дыне, нагнулся, чтобы сорвать ее, а она поднялась и полетела. Огородник в изумлении сел на грядку: он никогда в своей жизни не видел, чтобы дыни летали, да еще с его огорода. Мулла переметнулся опять в сокола, погнался за дыней. Дыня залетела в ханский сад и превратила себя в цветок – юноша все время помнил о красном цветке. Прибежали садовник и его дочь. Садовник радостно воскликнул: «Дочка, смотри, какой только что распустился цветок!» Он сорвал его и подал дочери. Та нежно прижала его к своему сердцу. Мулла сразу догадался, сказал себе: «В этот цветок превратился пастух. Я должен взять его и уничтожить». Он подбежал к садовнику, потребовал цветок: «Дай мне его». Садовник ответил: «Святой отец, я этот прекрасный цветок отдам божественному». – «Тогда неси его немедленно хану», – приказал строго мулла.
«Я здесь! – воскликнул хан. – Что шумите?»
Садовник взял у дочери красный цветок и подал его хану. Не успел божественный поднести цветок к носу и понюхать его, как подскочил к нему мулла: «Средоточие мира, сейчас же уничтожьте этот цветок! Это не цветок, а тот самый юноша, который украл у меня и у тебя искусство наслаждения жизнью».
Хан побледнел, в гневе бросил цветок. Мулла нагнулся к нему, чтобы поднять. Цветок в одно мгновенье, почти под его рукой, превратился в просо, рассыпался по земле. Мулла с такой же быстротой, как и цветок, переметнулся в петуха и стал жадно клевать зерна. В суматохе и в спешке святой не заметил, как одно из них попало в туфлю дочери садовника и, выскочив из нее, стало львом. Лев схватил петуха и оторвал ему голову. Хан в ужасе вытаращил глаза и не избежал участи муллы, – лев и средоточию мира оторвал голову.
На шум садовника прибежали батраки, пастухи и женщины. Лев снова стал юношей. Народ сильно изумился и узнал в нем внука старого пастуха. «Как же нам теперь быть без божественного хана и святого муллы?» – обратился батрак с рассеченной губой и выбитыми зубами к батракам и пастухам. Подошли шахтеры: они, узнав тайну муллы от юноши, вышли из шахты. «Думаешь, отец, – начал юноша, – твоей сутулой спине будет труднее жить без ханских палок и сладких молитв муллы?» Пастухи, батраки и шахтеры, услыхав вопрос юноши, задумались, а потом радостно воскликнули все вместе, почувствовав свое счастье в жизни: «Да будет наш праздник на земле!» Юноша взял за руку дочь садовника, сказал: «Мой свет, я хочу показать твое лицо всем». Собравшиеся увидали под покрывалом красный цветок, а в нем, как в зеркале, цветущую землю.
Вот и моя сказка конец, – сказал Мени Ямалетдинов, – а теперь моя пошла обедать. – Он встал, запахнул халат и, опираясь на костыль и припадая на левую ногу, направился к выходу. – В столовой веселее, моя любит на народе… – пояснил он от двери и помахал рукой.
XXIII
На втором этаже, в огромном зале, было много раненых, но больше гостей – дам, сестер милосердия, офицеров. В конце зала, в уголке, – военный духовой оркестр. Вошла Вера Сергеевна Нарышкина. Ее окружили главный доктор, врачи и старшие сестры, молодой белобрысый стройный капитан и в черном костюме Опут. Из петлицы его пиджака светила белая роза. Его черные волосы, приглаженные на прямой пробор, отливали синеватым лаком. Густо-карие выпуклые глаза маслянились. Оркестр грянул гимн «Боже, царя храни». Звуки духовых труб заглушили говор, шаги, звон шпор. После гимна оркестр заиграл какой-то марш. Из дверей коридора ворвалась толпа масок, нарядных и страшных, в зал и, оттесняя дам, сестер и военных к стенам, стала танцевать, кричать на всевозможные голоса, то подражая зверям, то птицам, то животным. Среди ворвавшихся находились черти и домовые с короткими и длинными рогами и бородами, лохматые и смешные медведи, тигры, львы, леопарды, козлы и птицы, Пьеро и Коломбины. То здесь, то там мелькали рога, свиные и козлиные морды, длинные усы Вильгельма. Все это кривлялось, кувыркалось, гримасничало, визжало, пищало и фыркало, обгоняя друг друга. Я и Прокопочкин сидели на подоконнике, недалеко от оркестра. Мы видели с него все, что происходило перед нами. Игнат и Мени Ямалетдинов были на другом подоконнике, недалеко от нас. Синюков и Первухин, нарядившись домовыми, носились по залу, то вскидывая рога, то склоняя, как бы желая ими кого-то зацепить и подбросить к потолку. Монашка не было в зале, – он, видно, отлеживался в палате, замаливая наши грехи. Обе Гогельбоген, Нина Порфирьевна и сестры других этажей танцевали с офицерами-гостями и солдатами, студентами – братьями милосердия. Опут подошел к Нарышкиной. Она, не глядя на него, а куда-то в сторону, строгая, красивая, в темно-коричневом платье, в белом фартуке с красным крестом, далекая мыслями от нашего маскарада, положила руку в перстнях на плечо Опута и закружилась с ним. Ее черные, чуть выпуклые глаза сверкали холодом. Казалось, что танцевала с Опутом не Вера Сергеевна Нарышкина, попечительница лазарета имени короля бельгийского Альберта, а мраморная статуя. Поднялось несколько рук, взвились разноцветные ленты, повисли в воздухе, над головами и на плечах веселящихся, засеребрились снежинки и разноцветные бумажные звезды. В это время вошел из коридора в зал высокий и худой Алексей Иванович. Вошел и, дико озираясь широко открытыми, горячими глазами на танцующих, на пробегавшие с криком и визгом маски, застыл у открытой двери. В его запавших глазах – ужас. Большая курчавая голова едва держалась на тонкой шее: вот-вот сорвется и покатится под ноги кривлявшихся в несущемся вихре масок, танцующих пар – сестер, офицеров, солдат и студентов. Из темной бороды желтели восковые скулы, заострившийся нос, белые зубы. Его длинные руки беспомощно висели по швам. Он был, как заметил я, оглушен музыкой, топотом, шумом голосов, напуган смертельно мордами чертей, домовых, ведьм, медведей, тигров и других зверей и животных.
– Зачем он здесь? Кто ему разрешил встать с постели? – возмутился Прокопочкин. – Его надо немедленно увести в палату и уложить в постель. Он так тяжело ранен… да и в своем ли рассудке? Надо сказать сестре Смирновой. Ты, Ананий Андреевич, сиди, а я пойду поищу сестру.
Прокопочкин хотел было слезть с подоконника и не успел: его предупредил в маске и в костюме водяного черта какой-то раненый. Он вывернулся из толпы масок, подпрыгнул к Алексею Ивановичу и, выгнув шею, стал угрожать ему рогами и громко визжать, так, как должен, по его понятию, визжать водяной черт. Алексей Иванович дико вскрикнул, поднял руки, чтобы защитить себя от черта, и бросился на водяного и стал душить его. Пробегавшие мимо маски и танцующие вначале не обратили на это внимания, а потом задержались и окружили клубок тел, катающийся у двери. Они с трудом отняли у Алексея Ивановича водяного черта, которого он уже подмял под себя и душил; черта, видно, спасли только маска и вывернутый лохматый мех пальто. Алексей Иванович поднял голову и, опустив руки, выпрямился, еще более дико заорал, схватился за голову и бросился на танцующих, сбивая встречных с ног. За ним побежали санитары, сестры и два офицера, стараясь задержать его и успокоить. Я соскочил с подоконника и поспешил за сестрами и санитарами. Алексей Иванович, воя и сжимая руками лохматую голову, выбежал в коридор и на площадку, поднялся быстро на четвертый этаж, вскочил на перила и бросился вниз. Санитары, сестры и офицеры замерли в ужасе на лестнице. Я закрыл глаза, привалился к стене и, держась рукой за перила решетки, стал медленно спускаться по ступенькам вниз, в зал, в котором все так же гремел оркестр, кружились маски, танцевали дамы, сестры, офицеры, санитары-студенты, многие из них и не заметили той сцены, которая произошла с Алексеем Ивановичем и водяным чертом. Я не помню, как пересек зал и, обходя маски и танцующих, чтобы не быть ими сбитым с ног, пробрался к противоположной стене, сел на подоконник рядом с Прокопочкиным и, ничего не понимая, стал смотреть невидящими глазами на ярко и крикливо проносившиеся маски. Прокопочкин что-то спрашивал у меня, но я ничего не ответил ему: мой мозг был пришиблен поступком Алексея Ивановича, – его самоубийство было так же страшно и нелепо, как и его приятеля Семена Федоровича. Прокопочкин больше не заговаривал со мной, но я чувствовал его плачущие глаза на себе: в них была тревога и забота обо мне. Не помню, в каком часу прекратился маскарад, как не помню, что пели лучшие артисты императорской оперы, – не помню! Не помню, какие стихи читали Опут и Лухманов: в глазах стояла смерть Алексея Ивановича, его высокая костлявая фигура с безумными глазами на перилах лестницы, ее падение. Только остался в памяти тоненький, как звук игрушечного колокольчика, голосок артиста Сладкопевцева: «Солдатики, а я вам сейчас расскажу сказочку про миндальное молочко». И он, крошечный, поднялся на стол и стоял на нем, как запятая, и рассказывал «серым» солдатикам о том, что бабушка приготовляла миндальное молочко для внучка.
Спал я в эту ночь отвратительно. Все время снились мне добрая старушка, медная ступочка и медный пестик, миндаль, и миндальное молочко. Старушка угощала меня из ступочки этим молочком. Я пил его, а потом меня тошнило, и я выбрасывал его обратно в бабушкину ступочку, а потом спрятался от нее под стол и плакал. Проснулся я поздно, с тупой головной болью. На койке вместо Алексея Ивановича лежали его вещи: три медных пятака, кумачовый кисет с махоркой, коробка спичек и небольшой осколок от снаряда.
День начался, он выглядел низким, серым.
XXIV
Прошло четыре дня, но шум бала стоял у меня в ушах. Я не мог разобраться в нем. Вчера принял ванну. Тело после лежания в горячей воде стало легким, а грусть на сердце тоньше, острее. Она неудержимо тянула куда-то. На простор. Бродяжить по земле родной, такой печальной, пахнущей полынью и чеборем.
Вошла Нина Порфирьевна, я посмотрел длинным взглядом на нее, румяную и красивую. Ее глаза лучились – в них цвела весна, губы улыбались.
– Прокопочкин, Жмуркин, Синюков и Лухманов, надевайте халаты, идите на третий этаж. Там в кабинете главного доктора комиссия. Ждите в приемной, когда вызовут, так и войдете в кабинет. – И она тут же удалилась.
Мы молча надели халаты и отправились туда, куда нам сказала Иваковская.
В приемной главного доктора было человек тридцать. Я сел на стул. Прокопочкин привалился к стене и, передохнув от лестницы, тоже сел. Синюков и Лухманов уселись на диван, за круглый столик, на котором лежали газеты «Свет», «Новое время», «Речь» и «Биржевые ведомости», журналы «Огонек», «Лукоморье», «Нива» и «Солнце России». Возле двери, за письменным столом, – сестра. Она вызывала людей по списку и посылала их на комиссию. Люди не задерживались долго в кабинете, быстро выходили из него. Одни довольные, с сияющими лицами, другие туча тучей. Если лицо у вышедшего из кабинета веселое, то его отпустили совсем или же дали ему месяц-два на поправку здоровья. Если у вышедшего лицо пасмурно, туча тучей, то его и спрашивать не надо – назначили в запасной батальон.
Я взял журнал «Нива» и открыл; рассматривая картинки, я на предпоследней странице увидал стихотворение и прочел. Вот оно, эпически спокойное и страшное:
И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена́,
И так же буйно издевается
Над нашей мудростью война.
Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
. . . . . . . . . . . . .
С победной музыкой и пением
И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?
Иль зори будущие ясные
Увидят мир таким, как встарь? —
Огромные гвоздики красные,
И на гвоздиках спит дикарь!
Чудовищ слышны ревы мирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.
Не все ль равно! Пусть время катится,
Мы повяли тебя, земля!
Ты только хмурая привратница
У входа в божие поля!
На сердце у меня после этого стихотворения стало еще мрачнее, будто передо мною погасили свет в будущее человека и я провалился в душно-теплый мрак – в чертову нирвану. Из нее выпрыгнул огромный, покрытый бурой жесткой шерстью и с багряно-желтыми глазами дикарь, высунул кровавый язык и затанцевал. Я вздрогнул и бросил от себя журнал, махнул рукой по глазам. Мрак нирваны рассеялся, дикарь, танцующий на красных гвоздиках, пропал. Вместо теплого мрака и дикаря – солдаты, столы, сестра, диван и стулья, белые стены и сероватый день на улице, за большими окнами приемной, – он заглядывал в окна. Я стал смотреть во двор. Глядя на крыши соседних домов, высоких и мрачноватых, я не заметил, как дошла уже очередь и до меня, – меня вызвали раньше Прокопочкина, Лухманова и Синюкова. Из кабинета вышел высокий солдат, лицо у него было красное, а глаза виновато-растерянные. Он чуть не сбил меня с ног.
– Ослеп от радости, – посторонившись, сказал я добродушно.
Солдат даже не взглянул на меня, махнул рукой и выбежал из приемной. Сестра поднялась и открыла дверь и, пропуская меня мимо себя, строго сказала:
– Входите, Жмуркин!
Я переступил порог и прикрыл дверь. Остановился. Свет высоких окон бил навстречу мне, в глаза. Толстые и узкие, бородатые и безбородые лица – за длинным столом.
– Подойдите сюда, к столу, – позвал громко знакомый голос.
Я подошел. Из-за стола поднялись главный доктор Ерофеева, седой, с орденами на груди старичок, коренастый, с крупной лысиной на шарообразной голове, потом привстал со звездою на узкой груди генерал и, поглядев на меня, тут же сел.
– Покажите руку, – попросила Ерофеева.
Я протянул руку.
– Пошевелите пальцами, – приказал лысый генерал и выпучил серые глаза на кисть моей руки.
Я пошевелил пальцами.
– Прекрасно, – протянул решительно генерал и сел на свое место.
– Прекрасно, – повторил старичок тоненьким голосом и смахнул пылинку с левого плеча сюртука.
– И совсем не прекрасно, – возразил я довольно громко, а главное – неожиданно для себя, – пальцы-то у меня еще не работают, а двух нет – под Двинском остались.
Члены комиссии вытянули лица, еще больше выпучили глаза и с возмущенным удивлением уставились взглядами на меня.
– Ничего, – опомнившись первым, гневно сказал лысый генерал, – отечеству еще можете служить!
Физиономии над столом, над его зеленым полем и чернильными приборами, оживились, по ним пробежали гримасы и спрятались, вместо них выступила чопорно-суровая деловитость, и она превратилась предо мной в стену. Видя перед собой не лица комиссии, а стену, я понял, что они очень заинтересовались моей наружностью: крошечным ростом, бородой, а главное – тем, что я осмелился возразить генералу на его «прекрасно».





