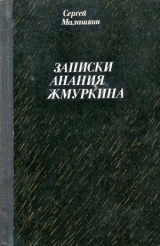
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Это мы сейчас узнаем, – успокаивал ее наш ротный и нервно помахивал хлыстиком. – Это мы сейчас, мадам, все разузнаем.
Маршевики тоже не дали маху: они за несколько десятков шагов заметили тревогу жены начальника станции и свое начальство и ждали прихода начальства и пострадавшей. Я было хотел, как и некоторые «солдатики», бежать в кусты и оттуда окружным путем к себе в теплушку, но Евстигней так на меня прикрикнул, что я даже присел и не двинулся с места.
– Вы что это, Ананий Андреевич, себя хотите выдать и нас?!
– Смирно! – крикнул ротный и обратился к жене начальника: – Говорите, мадам: кто?
Мадам всплеснула руками:
– Господи, разве я могу узнать, господин офицер, кто из них украл гусей и стащил картошку? Они все зеленые и все на одно лицо.
– Ну, это ты врешь, барыня, – крикнул неожиданно Евстигней, – не все! Ты, чай, видишь: есть с бородами, можно сказать, в папаши тебе годятся, а есть совсем мальчики.
В это время, когда говорил Евстигней, остальные солдаты тоже набрались духу и оскорбленно заговорили:
– А ты, барыня, обыщи, а потом и говори. Что мы, жулики, что ли, какие, а? Подумаешь, нужна нам твоя картошка и гуси! Что мы, этого добра-то не видали, что ли, а? Мы, чай, едем родину защищать, а не воровать твою картошку.
– Да вы же варите, – взвизгнула женщина, – а говорите – не воровали!
Маршевики были озадачены неопровержимым ее доводом, не знали, что надо, ответить, и стали переминаться с ноги на ногу, а глаза устремили в котелки, в которых действительно варилась картошка. «Пропали», – подумал я и попятился немного назад.
– Говорите: кто ходил воровать картошку? Живо! – крикнул свирепо наш ротный; остальные сурово смотрели на нас.
Евстигней неуклюже завозился.
– Мало ли, ваше бродь, картошки-то, в лавке, можно сказать, сколько хошь. – А потом обратился к барыне: – А ты обыщи котелки-то и, ежели узнаешь свою, тогда и обзывай ворами. Твоя, наверно, картошка-то молодая и только что из земли вырыта. – И он быстро схватил с огня свой котелок и поднес его к женщине. – Смотри! Ежели твоя-то…
Женщина и ротный нагнулись над котелком и стали рассматривать картошку.
– Ну что? – подавая все ближе к носу женщины котелок, спросил Евстигней. – Твоя?
Женщина, озадаченная, пятилась назад. Видя растерянность, неуверенность женщины, маршевики встряхнулись, почувствовали себя смелее и изредка стали подавать голоса:
– Известно, солдат вор!
– Солдат идет кровь проливать, а его вором!
– Эх-ма! Всё и во всем солдат виноват!
В это время, пока женщина не узнала свою картошку и растерянно пятилась назад, наш ротный с большим трудом сдерживал улыбку, а остальные, чтоб не расхохотаться, пошли в сторону. А когда женщина сконфуженно ушла от нас, ротный поднял кверху хлыст и погрозил:
– Я вас, сукины дети, проучу, если вы еще раз опозорите честь солдата! – и, еле сдерживая смех, пошел в сторону.
В поезде тоже не нашли ни одной картошинки, а также ни одного гусиного пера. После обыска долго ротные удивлялись, как это мы могли так ловко украсть гусей, содрать почти весь огород и не оставить ни одного пера.
Вечером, на закате солнца, наш поезд тронулся дальше.
Тяжелое дыхание войны становилось ближе.
VIII
В Двинск приехали поздно вечером. Большая узловая станция была загромождена поездами. Фонари не горели, была жуткая тьма. Только изредка рдели темно-фиолетовым огнем семафоры. Несмотря на большое движение поездов, на огромное скопление войска, была какая-то особая, придушенная, потрясающая тишина и придавленность. Паровозы, делая маневры, еле слышно перекликались, предупреждая друг друга: «Тише. Как можно потише». Солдаты выгружались из товарных вагонов, осторожно, бесшумно, давая ногу, в полном боевом снаряжении, но только без винтовок, уходили во мглу, в какую-то бездонную пропасть, которая тут же, как только скрывался последний ряд бессловесных солдат, закрывала свою беззубую пасть и ожидала новых. Я чувствовал, как все больше и больше давила тишина, наваливалась на грудь, спирала дыхание, заливала сердце жутью, от которой по телу пробегали мурашки.
– Вот она где, война-то, – проходя мимо нашего вагона, сказал шепотом какой-то солдат.
– Ну, брат, это еще не война, цветочки, а ягодки впереди, – ответил ему другой.
Солдаты прошли и скрылись в густой мгле. Евстигней выпрыгнул из вагона, подошел ко мне, хриповатым голосом проговорил, переходя на «ты»:
– Вылазь, пройдемся около вагона, ужасно надоело лежать.
– Не приказано, – ответил я и свесил ноги из двери вагона, посмотрел на улицу, во мглу, в которой смутно двигались солдаты, – влетит.
– Не все ли равно, – засмеялся Евстигней. – Мы ведь не на радость к теще едем – под пули и своими костями тело родины унаваживать. Ты, наверно, хорошо помнишь, как наш барин поливал кровью сад, когда резал больных и старых лошадей, а также и рогатый скот?
– Нет, что-то не помню, Евстигней, – ответил я и задумался. – А что он делал?
Евстигней объяснил, что барин раньше, чем убить какую-либо скотину, приказывал вывести ее в сад, поставить под яблоню и под ней приказывал убивать, а когда животину убивали, то кровь вся уходила в землю, давала особенный жир земле и она богато рожала.
– Так вот и мы с тобой идем унаваживать землю родины, чтоб она была жирнее опосля войны и больше рожала. Понял теперь? – сказал он и хрипло засмеялся.
– Я это и без тебя знаю, – ответил я и, удивленный его словами, выпрыгнул из вагона; за мной и остальные.
Походить, поразмяться около поезда мне с Евстигнеем, а также и другим товарищам не пришлось, так как начальство приказало немедленно погрузиться в вагоны и ждать особого распоряжения. Я и Евстигней влезли в вагон, но не прошло и двадцати минут, как нам скомандовали выгружаться и строиться около вагонов, а когда мы выстроились – повели с вокзала в город, на ночлег. В городе не было ни одного огонька. Дома казались вымершими, жутко смотрели своими темными и ободранными скелетами. От такого впечатления становилось еще тяжелее на душе, чем это было на станции за тридцать верст и на вокзале Двинска. Мы не прошли и четверти версты, как нам приказали остановиться, разрешили стоять «вольно», но не греметь котелками, громко не разговаривать и не курить. Мы остановились. А когда начальство – ротные командиры – отправилось, как говорили нам отделенные, в штаб армии за распоряжениями, мы стали осторожно завертывать цигарки и курить, из рукавов шинелей, чтоб не было видно огня. Я отошел немного в сторону для естественной надобности, потом отыскал Евстигнея, который тоже вышел из своего ряда, и мы стали тихо разговаривать.
– Ну, Жмуркин, мы уж больше с тобой не выберемся отсюда.
– Это почему? – удивился я.
– А так, – отвечает он грустно, – сердце мое чувствует, что мы останемся с тобой тут и унавозим землю.
– Полно тебе, Евстигней, преждевременно хоронить-то себя и меня с собой. Мы еще с тобой, Евстигней, поживем, много делов на земле понаделаем – не одну избу срубим, не один монастырь отстроим, – стараясь утешить его, проговорил я.
Но он не слушал меня, смотрел куда-то в сторону, а потом вздохнул:
– Нет, Ананий Андреевич, чувствую, что мне больше не плотничать с тобой, да и тебе тож: убьют нас при первом наступлении, – в этом я, как пить дать, уверен.
– Пошел к черту! – выругался я. – Что принялся ты, рыжая ворона, каркать! Мы еще с тобой, можно сказать, пороха не нюхали, а ты отходную читаешь.
– Ты посмотри, Жмуркин, какое небо.
– Все такое же, – ответил недовольно я.
– Нет, не такое, совсем-совсем другое: темное и похоже оно на глубокий колодезь, что у нас в селе.
Я посмотрел на небо, и действительно – небо было над городом особенное: вокруг нас и над нами была густая тьма, и эта тьма мягко, но плотно припадала к нам и никак не могла от нас оторваться и мы от нее, а все больше и больше давила нас своей тяжестью. Только высоко, высоко в небе, как раз над нашими головами, осыпанный редкими, едва мерцающими звездами, висел небольшой круг неба и робко, чуть-чуть заметно улыбался своей темной синью и напоминал далекую молодость.
– Смирно! Становись!
Незаметно прошли центр города. Потянулись узкие, кривые улицы окраины. Одноэтажные дома напомнили большую деревню. Остановились. Вошли во двор, потом в грязное пустое помещение, в котором на полу густо лежала перемятая солома. «Это будет ночлег», – сказали нам, и мы стали брать места назахват. Мы с Евстигнеем одновременно упали плашмя, торопясь захватить место, но я хорошо не рассчитал, главное, не принял во внимание своего малого роста. Шлепнулся я здорово, но очутился между ног соседей – Евстигнея и еще какого-то здоровенного парня, а головой уперся в мягкое место какого-то третьего человека, лежавшего выше меня. Я недовольно поднял голову, чиркнул спичку: впереди меня лежал книзу лицом человек, крепко держался за пук измятой соломы, как собака за кость.
– Как ты сюда, братец, попал, когда это мое место?
– Если бы это было твое, то ты, наверно, на нем и лежал бы, а то ты лежишь в ногах, а я лежу на этом месте, – значит, мое.
Дальше говорить мне было нечего, и солдат с нерусским акцентом был вполне прав: если это было бы мое место, то я лежал бы обязательно на нем, а не в ногах. Я поднялся на колени и стал осматриваться кругом, вслушиваться в перебранку солдат. Солдаты бранились из-за мест, из-за лишних охапок соломы. Оказывалось, что многие, более хитрые, более ловкие, во время падения так хорошо работали руками, что, падая на пол, в один момент и захватывали руками солому и подгребали ее под себя…
– Ты все еще сидишь? – повернул назад голову Евстигней.
– А что же ты прикажешь мне делать? – огрызнулся равнодушно я. – Плясать, что ли, пойти?
Евстигней засмеялся.
– Философствуешь? Тут, брат, с философией ничего не сделаешь. Надо на кулаки надеяться. Лезь сюда.
– Разве есть местечко? – обрадовался я и полез к Евстигнею и сладостно растянулся.
Утром нас никто не будил, и мы лежали с открытыми главами и ждали команды «вставать», но этой команды не последовало. Я лежал лицом к Евстигнею; Евстигней, положив руки под голову, смотрел в потолок, затянутый паутиной и украшенный сосульками рваных шпалер, прислушивался к глухому гулу орудий и молчал.
– Не пора ли вставать? – предложил я Евстигнею.
Он помолчал с минуту, потом повернулся ко мне:
– Да, давай, Ананий Андреевич, вставать.
Мы не торопясь поднялись, стряхнули с гимнастерок приставшую солому, разгладили складки штанов и гимнастерок и пошли во двор умываться. За нами поднялся и солдат с нерусским акцентом. Я смотрел на него и недовольно сказал:
– Как вам было не стыдно занять мое место?
Он испуганно поморщился и ничего не ответил, а только подошел ко мне ближе и пошел со мной рядом. Я посмотрел на его лицо: это был еврейский мальчик. У него было очень молодое и розовое лицо с едва заметным черным пушком над губами, правильный нос, живые, цвета кофейной гущи, глаза, которые были испуганно напряжены и рвались в разные стороны, но как будто ничего не видели перед собой; нижняя губа была немного оттопырена, казалась припухшей, на самой середине имела глубокое раздвоение и была похожа на заячью губу, да и вообще все его лицо походило на перепуганного зайца.
– Как тебя звать? – спросил я.
– Соломон, – отвечал он и протиснулся в середину и стал между мной и Евстигнеем. Он был повыше меня ростом, и мне стало его жалко.
– А меня звать… – начал было я и хотел назвать свое имя, но Соломон перебил:
– Я знаю, как звать тебя и твоего товарища.
И он назвал мое имя и Евстигнея. Потом, когда мы умылись, он сказал, что мы ему очень понравились и он хочет быть вместе. Евстигней ласково похлопал его по плечу и сказал:
– Правильно, братенок, со мной тебя никто не обидит.
Соломон радостно засверкал глазами, и, как мне показалось, на его длинных темно-коричневых ресницах, пересыпаясь, в первый раз заиграла солнечная пыль радости. Глядя на него, я тоже улыбнулся, а Евстигней вздохнул и засвистал любимую песенку: «Провожала жена мужа, на широкую дорогу…»
Потом, после завтрака, мы втроем пошли бродить по городу. Город был мертв и был похож на кладбище, а дома – на могильные плиты. Только изредка выглядывали из грязных лачуг лица евреев и подозрительно смотрели по сторонам. Они напоминали мне выглядывающих ящериц из-под разрушенных развалин.
IX
Двое суток пропадало начальство, потом появилось и приказало приготовиться и далеко не уходить от квартиры. Мы весь вечер толпились около дома, а некоторые, чтобы не скучать, резались в «двадцать одно». В этот вечер мы хорошо рассмотрели город, видели, как с трех сторон за городом вспыхивают то и дело молнии орудийных выстрелов и дрожат на бледно-желтых горизонтах зарева пожаров. С горизонтов все выше и выше поднимались зарева пожаров к зениту и желто-красной сукровицей ползли в наши наполненные испугом глаза. Поздно вечером, когда наступила густая тьма и эта тьма в кольце желто-красного зарева казалась бездонной и зловещей дырой, нас выстроили около квартиры и погнали на позицию, как раз в эту дыру. Нам так же строго, как и на вокзале, было приказано не шуметь, не курить и как можно тише ступать по разбитой мостовой. Такая предосторожность нагоняла на нас еще больше жути и ужаса, чем раскаты орудий, зарева пожаров и светло-зеленые ленты ракет, которые, взлетев на определенную высоту, рвались и, рассыпая ярко-зеленые искры, ослепительно освещали под собой землю. Через несколько минут город остался позади, и мы переходили Двину. Она нежно насвистывала под мостом песенку; слушая ее песенку, мне тоже захотелось свистать, но я не засвистел по очень простой причине: я был не я, а был кусочек большого тела, чужого для меня, и поэтому мой язык, сознавая это, прилипал к гортани, губы не вытягивались, как раньше, совочком, чтобы засвистать любимую песенку Евстигнея «Провожала жена мужа на широкую дорогу…». Пока я так рассуждал, Двина осталась далеко позади: мы проходили мимо изрытой окопами и рвами земли, вступали в жутко чернеющий лес, от которого тянуло на нас сырой прохладой и при виде которого ночь становилась еще темнее, а на душе – еще страшней и неопределенней. Орудия гудели по бокам и почти рядом, и мы слышали шипение и свист пролетающих снарядов над нашими головами. Перед каждым свистом и взрывом наши тола жадно притягивала к себе земля, и мы были готовы плотно припасть к ней, больше не подниматься, лежать на ней и не отрывать от нее своих глаз. Шли мы всю ночь, и среди нас распространился слух, что мы заблудились и сейчас находимся поблизости от немецких окопов. Такое мнение подтверждали снаряды, что падали недалеко от нас и своим взрывом заставляли нас шарахаться на землю, крепко цепляться пальцами за ее шероховатость… Добрались мы до штаба на рассвете. Но было трудно понять, с какой стороны восходит предвестница утра, так как все четыре стороны были в зареве огня. От рева содрогалась земля, по нашим телам пробегали мурашки. Мы остановились в саду, около нежилой постройки. Я, Евстигней и Соломон вошли в амбар и залезли в глубокий закром. Нашему примеру последовали и другие. Рядом с нами лег отделенный. Он, растягиваясь во весь рост, сказал:
– Если попадет сюда снаряд, то от нас и мокро не останется.
Но ему никто ничего не ответил, так как всем страшно хотелось спать. Сколько мы пролежали, трудно сказать, но я, получив хороший пинок в зад, быстро вскочил на ноги.
– Буди остальных, – дернул меня за руку отделенный. – Немцы стреляют по амбарам.
Я с большим трудом растолкал товарищей, а когда растолкал, мы неохотно вылезли из закромов. Евстигней нехорошо ругался и все время искал удобного места завалиться и опять задать храпака, но упавший снаряд в соседний амбар быстро привел его в чувство, и он как ошпаренный вскинул рыжую голову, вытянулся во весь рост и бросился бежать, а за ним Соломон и остальные. Я видел, как у Соломона тряслась губа, подпрыгивала на голове сбившаяся набок фуражка; на костлявом, освещенном заревом туловище Евстигнея, как просторный хомут, трепалась свернутая шинель. Опомнились они далеко под горой, да и то только тогда, когда к ним наперерез бросился взводный.
– Сволочи! Куда вы бежите! – дрожа от испуга, рычал взводный командир. – С вами не воевать – яйца тухлые есть.
После этого нас собрали и погнали дальше. Гнали опять долго и все под какую-то большую гору, потом низиной. К вечеру пригнали в полковой штаб, где нам выдали винтовки и патроны. После выдачи к нам вышел седой, небольшого роста полковник, одетый в кожаный пиджак, сияющий бронзой, сказал нам несколько слов и приказал беречь выданное оружие. Потом нас повели обедать, после обеда погнали в лес. Когда нас гнали к лесу по шоссейской дороге, над нами вились два стальных голубя, бросали зеленые ленты. Ленты медленно спускались в нашу сторону; за лентами, не дав им еще погаснуть, над нашими головами послышался шум снарядов, похожий на шум быстро мчащейся телеги, потом – недалеко от нас и тут же взрывы. Но роты одна за другой быстро двигались вперед. И только тогда, когда один снаряд попал в заднюю роту и побил и поранил несколько человек, остальные роты бросились в сторону и припали к земле. Снаряды пачками ложились на шоссейную дорогу, осколки со свистом пролетали над нашими головами, а с ними камни и земля. Снаряды рвались несколько минут. Нам скомандовали бежать налево, и мы бросились в сторону, в лес, в котором снова приняли боевой порядок, и, пробираясь через кусты и кочки, двинулись вперед. На этот раз мы прошли немного и остановились недалеко от шоссейной дороги. Тут, в лесу, нам приказали вырыть землянки. Мы принялись за работу. Работали усердно, и землянки вышли на славу, но увы! – жить в них нам не пришлось: пришел приказ – в наступление. Нас выстроили. Рассыпали цепью и редкой перебежкой погнали по лесу. Мы были недалеко от опушки леса. Там шла сильная ружейная и пулеметная стрельба. От сильной стрельбы получился один всхлипывающий свист, вроде чавканья миллионного стада свиней. Я не знаю, как другие, а я стучал зубами, и меня всего трясла лихорадка. Я думал, что сейчас, как только выберусь на опушку, жизнь моя будет окончена и черви, жирные белые черви, которых я видел веснами на трупах дохлых собак, будут похлебкой кишеть на моем вздувшемся и вонючем теле. От такой мысли корешки волос зашевелились на моей голове и, как острые гвозди, стали сверлить мне черепную коробку. Я почувствовал, что что-то из-под фуражки потекло по моим щекам. Я остановился, притаив дыхание, прислушался; это текли по моему лицу холодные капли пота, падали в пожелтевшую лесную траву. Я тупо посмотрел вокруг себя и увидал большую позднюю ягоду – землянику, что выглядывала из-под желтого листа осины большою каплей крови. Мне очень захотелось подползти к ней, сорвать и положить ее в рот, и я было двинулся, но страшная лень тяжелой волной апатии нахлынула на меня, так что мне все стало безразлично, и я тупо посмотрел на ягоду. Затем необыкновенно захотелось спать, и я ткнулся головой в холодную траву. Холодная земля подействовала на меня как душ ледяной воды, и я острее почувствовал весь ужас предстоящего момента. Я снова припал к земле и посмотрел на Евстигнея; он лежал на боку и, заломив фуражку козырьком назад, тупо смотрел в сторону. На его лице не было никакого признака жизни, его глаза, как две капли застывшего сала, неподвижно стояли, и только на левом виске билась сильно вздувшаяся от крови жилка и была похожа на навозного червяка, прихваченного к земле прозрачной паутиной. Моего взгляда Евстигней не заметил, да и я не мог разгадать, что творилось в его голове в эту минуту, когда человек становится на поле битвы и под чужую дудку собирается играть «в жизнь и смерть». Рядом, за его широкой спиной, как за хорошей мишенью, уткнувшись лицом в землю, лежал Соломон и нежно, словно под взглядом родимой матери, насвистывал носом. Его храп так был нежен и громок, что даже заставил на минутку позабыть чавканье воздуха, разрываемого тяжелым дыханием снарядов, которые, квохча, как глухари, пролетали над нами и тяжело и шумно садились на землю.
– Вперед! – вдруг крикнул ротный.
Мы быстро скатились в какой-то ров, на дне которого бежала небольшая, но глубокая река. По обоим берегам реки росли высокие деревья; по одному берегу тянулась узкая тропа. Дальше, за противоположным берегом, раскинулось поле, изрытое снарядами; еще дальние, за полем, на самом холме, торчали остатки развалин какого-то хутора. Только один журавль колодца смотрел гордо в небо, грозил приподнятым ведром, похожим на человеческую голову, – возможно, приглашал утолить страшную жажду измученных людей. Мы редкой цепью потянулись по этой тропе. Немецкие снаряды громыхали над нашими головами, рвались недалеко от нас. Немцы стреляли. Они хорошо видели нас. Мы то и дело ложились на землю, прятались под деревья, порой, как утки, втыкали головы в крутой, извилистый берег реки. Потом опять бежали и бежали. А когда вышли из полосы огня, поднялись в огромный парк когда-то роскошного, а теперь разбитого имения, потом из парка в фруктовый сад, обнесенный высокой каменной стеной, разбитой и разбросанной местами от снарядов. По этой стене мы должны были пробраться в окопы. Противник хорошо знал это место и бил по проходу. От взрываемых снарядов с осколками металла поднималась земля, взлетали камни, и все это вместе летело кверху, как фонтан грязно-бурой воды, потом сыпалось в разные стороны. Мы с трудом, небольшими партиями, как мыши, ныряли мимо разрушенной стены в глубокий ров окопов. Начало окопов тоже было разрушено и засыпано землей, так что приходилось ползти более десятка сажен под осколками то и дело рвущихся снарядов и под тявканьем пуль.
Мы трое – я, Евстигней и Соломон – благополучно миновали стену сада, разрушенный проход окопов. Мы с радостью ткнулись в третий блиндаж, прилипли к земле, как жалкие земные твари, почувствовали, как над нами стонала земля, трещали блиндажи. Евстигней заговорил первым:
– Это бомбы? – и показал на блестящие предметы, похожие на бутылки.
– Да, это бомбы, – сказали солдаты, сидевшие рядом с нами, которых мы пришли сменять.
– Они не взорвутся? – спросил Евстигней.
Солдаты улыбнулись.
– А не все ли равно? Если попадет снаряд, и без бомб мокроты не найдешь, – и стали собираться уходить.
А один повернулся и на прощание попросил табачку, а когда закурил, сказал:
– Не бойтесь: накат мы сделали хороший, да и земли насыпано больше двух аршин, – для себя старались.
Мы, когда он говорил о блиндаже, робко подняли головы и посмотрели на бревна: бревна были действительно на славу. А когда они ушли, Евстигней сказал:
– Давай мы их лучше зароем.
– И верно, – согласился Соломон.
Но треск дерева, огромные обвалы земли полетели на нас, заставили припасть к земле… Мы все трое лежали не шевелясь. Я даже не чувствовал себя, не шевелился, – только лежал и думал: «Готов!»
– Жив? – не поднимая головы, спросил глухим голосом Евстигней.
– Жив, – ответил я и посмотрел на Евстигнея, потом на Соломона. Соломон лежал без движения. – А ты?
Соломон поднял голову, поводил ею, как ящерица, по сторонам, но ничего не ответил. Я смотрю на него. Глаза у Соломона красные, нижняя заячья губа отвисла на целый вершок и дрожала. Левое плечо у него было в крови.
– Ранен? – спросил я и приподнял немного голову.
Соломон все так же тупо смотрел по сторонам и ничего не отвечал. Тогда поднялся Евстигней и подполз к Соломону.
– Ты что? Ранен?
Соломон что-то промычал и заплакал. Евстигней прикоснулся к плечу Соломона, потом глухо сказал:
– Это кусок мяса, – и добавил: – Это мясо не твое, Соломон, – и Евстигней, снимая с его плеча кусок мяса, жутко засмеялся.
За ним улыбнулся Соломон, потом стал смеяться и я. И так мы долго, прижавшись друг к другу, смеялись, пока не подошел взводный и не приказал замолчать, а когда мы замолчали, он велел нам выбраться из этого блиндажа и занять другой.
– Зачем? – спросил Евстигней. – Нам и тут хорошо.
X
Две недели показались мне за два года. Да и сейчас дни ползут тихо, скучно, как черепахи. Такая монотонность дней, недель раньше разряжалась атаками немцев и нашими контратаками. Сейчас опять тишина, тупое сидение под тяжелым бруствером в земле. Только изредка, словно попробует свой голос, на нашем участке полает пулемет и тут же умолкнет. Орудия тоже на нашем участке отдыхали; разве только по утрам они делали по два, по три залпа и умолкали до следующего утра, чтоб снова дать знать друг другу о себе, что они живы, здоровы и стоят на страже. В такие дни, чтобы как можно скорее скоротать их, я, Евстигней и Соломон выползали из своего блиндажа, забирались к соседям, слушали всевозможные небылицы о далекой деревенской жизни, которая, как нам казалось в окопах, никогда уже больше к нам не вернется, да и нам к ней не вернуться, не увидать ее своеобразной прелести. Иногда в такие дни соседи собирались к нам, рассказывали сказки, играли в карты, иногда устраивали веселые вечера под гармонь, которая жалобно выводила плясовую. На гармонь прибегал ротный, крыл нас матом, но мы его вежливо упрашивали, чтоб он разрешил нам поиграть.
– Ваш-бродь, – говорили мы, – ну как можно жить на краю смерти и не повеселиться?
Ротный вздыхал и тут же приваливался к земляной стене окопа, медленно садился по-турецки и, улыбаясь, доказывал, что немцы прямо сюда хватят «бертой», и просил играть как можно потише, чтоб не было слышно в окопах противника. Мы, видя снисходительность ротного, – ротный был у нас хороший человек, очень жалел своих солдат и, главное, всегда был со своими солдатами, всегда в бой шел впереди, – доказывали:
– Немцы любят нашу музыку и никогда нам не мешают, они даже под нашу гармошку выплясывают русскую.
– Любят, – возражал ротный, – а вот как хватят – будет только мокро, – и умолкал.
А в то время, когда ротный умолкал, Вавила (так звали одного солдата, небольшого роста, с небольшим пучком сивой бороды, по поводу которой он сам добродушно посмеивался: «Не борода у меня, козий спуск», – и сжимал небольшое розовое личико в комочек морщин, отчего лицо его было похоже на сильно перепеченное яблоко) разводил руками, тормошил гармонь, и она взволнованно высыпала жалобную плясовую, а он, Вавила, сворачивая, клал ее на правое плечо, широко открывал рот, смешно вскидывал бороденку и, подмигивая желтыми глазами, ловко ударял по клапанам и бурной жалобой начинал вытряхивать из себя плясовую веселость и вместе со звуками гармошки высыпать на сырую землю окопов и на наши головы:
За овином куст малины,
Йа малинушку рвала;
Не сама избаловалась:
Мама волюшку дала.
Евстигней хриплым басом подхватывал, за ним и остальные:
Ни паси в лясу малину,
Вся малина опаде;
Ни паси в дяревне девак,
Чужой парень увяде.
А когда песня подходила к концу, голоса дребезжали и начинали сочиться слезоточивостью; Соломон широко открывал глаза, замирал женскими ресницами, тряс оттопыренной губой:
Шила кохычку матроску,
рукава-то сузила.
Распроклята супостатка всю
любовь сконфузила.
Вавила, вскидывая голову, потряхивал головой и, держа в левой руке гармонь, ходил мелкой иноходью, откалывая казачка, а когда он заканчивал, Евстигней неожиданно выкрикивал!
Ты, Анютка, сера утка,
Не лятай с краю на край:
Рызабьют твайи акошки,
Рыскачайют твой сарай.
– Хороша наша русская музыка, – облизывая розовую заячью губу, вздыхал Соломон и опускал густые ресницы.
– Оцень, Соломон, хороша, – не выговаривая букву «ч», отвечал ему всегда плаксиво развеселый Вавила и садился рядом с Соломоном, и оба, обнявшись, начинали наслаждаться родной русской «музыкой».
Ня страдайте, девки, дюже,
От страданья расте пуза…
Таких развеселых вечеров было не особенно много в нашей окопной жизни, даже можно сказать, очень мало, и мы все больше развлекались сказками, которые рассказывали по очереди. Сейчас сидим в нашем блиндаже и скучаем. Сказки уже всем надоели, так как каждую сказку рассказывали по нескольку раз, хотя каждый раз с новыми вариантами; песни тоже надоели, а главное – новых не было, несмотря на всю изобретательность Вавилы и Евстигнея. Я, Евстигней, Соломон и гости сидели молча, уныло смотрели в стены блиндажа, в ноздреватостях и трещинах которых, повернувшись к нам задом, дремали жирные мутно-красные клопы. Чтобы рассеять тоску, кто-то предложил сыграть в «три листика», и игра началась. Соломон раздвинул солому, смахнул рукавом соринки с прибитого земляного пола.
– Готово, – сказал он и сел по-турецки.
За ним последовал Игнат, маленький, но довольно толстый солдат, которому все время говорил Евстигней:
– А немало из твоего, Игнат, потроха немцы рубца наделают, а?
Игнат на это не отвечал, он только густо краснел, добродушно соглашался:
– А пожалуй, и верно. – Потом, разглаживая свое брюшко, оговаривался добродушно: – А леший ее знает, я не пойму, отчего оно так дуется!
За Игнатом Яков Жмытик, – Жмытиком его прозвали в окопах за страшную жадность и за пожимание плечами, когда кто-нибудь чего-либо просил у него. Я остался сидеть в стороне. В карты не любил играть, – удовольствия от этой игры никакого не получал, а играть так скучно и неприятно, да и шелеста карт не люблю, раздражает. Играли в «три листика», сердито, со страстью, так что даже добродушный Игнат стал выходить из своей «веселой» тарелки и сердиться. Блестящие, похожие на масло, от пальцев карты звонко, как щелчки по розовому носу, шлепали на очищенный от соломы земляной пол, похожий на сапожную кожу. Звенели медяки, изредка плескалось серебро, шелестели, как бабочки, бумажные рубли. Выигрывал нынче Яков Жмытик, – впрочем, он всегда выигрывал. От каждого выигрыша он с кряканьем вскидывал голову, слезливо загноившимися глазками посматривал на Евстигнея и на остальных. Евстигней от каждого проигрыша становился все больше и больше мрачным. А когда он становился мрачным, то его лицо принимало зловещий вид, так что большие рыжие усы свисали книзу и начинали дрожать и подергиваться.
В самый азарт игры вкатился в блиндаж Вавила.
– Это цорт знает, цто такое. Вецер, а обеда все нет, а?! Вот церти-то! – прокричал он и подсел к играющим; он быстро забегал глазами по картам игроков, желая в одно и то же время ко всем заглянуть в карты, высказать свое мнение относительно игры, а то и посоветовать из-за спины.
– Вавила, Вавила, – прохрипел Евстигней, – пошел от меня: ты несчастливый!
– Это я-то несцастливый? – обиделся Вавила и заморгал часто-часто глазами. – Ты, Евстигней, сцас выиграешь.
Евстигней энергично отстранил его рукой.
– А ты лучше сказку расскажи, да позанозистее, а мы послушаем.





