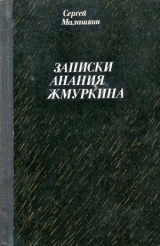
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Тоска Марии Пшибышевской о родине, – эту тоску я вижу на ее лице, в ее глазах, – вероятно, понятна и Прокопочкину, как и мне. Я посмотрел на старшую Гогельбоген, потом на младшую. Они сидели на стульях у койки монашка, высокие, красивые, в коричневых шерстяных платьях, в белых батистовых фартуках и косынках. У них блестящие карие глаза, но прохладные, без лучей. На лицах негреющие выражения – ясный холодный день бабьего лета.
– Все разрушено… я бежала по горящим развалинам… – рассказывала тихим, хрипловатым голосом Мария Пшибышевская, – одни костелы и церковки белели на моем пути… из развалин и пепла городов и сел.
– Ишь ты, – удивился Первухин, – знать, германцы не погасили в себе еще божью искру. – Он остановил растерянный взгляд на мне, но тут же опустил его и, вздохнув, изрек обидное: – Нынче твои глаза, Жмуркин, смеются. Да, злой ты человек… – И, помолчав, утвердительно прибавил: – И злющий… и насмешливый.
– Верно, – подхватил Гавриил. – Потому Жмуркин и злой, что божья искра не теплится в нем. Вместо нее дьявол рогатый сидит… Это он смеется в его глазах.
Синюков улыбнулся. Мария Пшибышевская подняла большие серые глаза и внимательно поглядела на меня. Монашек перекрестился, озираясь на сестер Гогельбоген. Я молчал; да и что я мог возразить на грубые и глупые его слова и Первухина?
– Искра божия, – прохрипел Семен Федорович, молчавший все время. – Надо щадить на войне не костелы и церковки, щадить надо деревеньки и несчастных жителей – женщин и детей. Эти праздные – церковки и костелы – здания никому не нужны.
– Не кощунствуй, Семен Федорович, – посоветовал Прокопочкин, и его голубые глаза еще больше заслезились. – В каждой иконе… в каждом костеле… а на изображениях икон – бог или богоматерь… Подумай, что говоришь!
– Бог бессмертен, – возразил громче, осипшим голосом Семен Федорович. – О бессмертии бога мне говорил не один раз священник, когда я учился в приютской школе. А раз бог бессмертен, то ему, как я думаю, не страшны русские и немецкие пушки. Ему, значит, все эти снаряды и пожары как с гуся вода. Ему, богу-то, ничего не сделается, если даже ударит его какая-нибудь «берта», – заключил глубокомысленно Семен Федорович, кашлянул и натянул одеяло до острого, как кочедык, подбородка.
Раненые опустили головы от тяжести его грешных слов. Сестры беспокойно вздрогнули и поглядели друг на друга. У монашка отвисла нижняя губа. Прижав раненую руку к груди, он закатил глаза к потолку. Игнат ухмыльнулся на слова Семена Федоровича и сунул тетрадку под подушку. Стешенко побледнела, казалась серой. Шкляр вскочил с койки, надел халат, поправил на груди георгиевские медали и кресты и выбежал из палаты. Наступила тишина. На улице, за высокими светлыми окнами, с лязгом и гулом пронесся трамвай, светило бледное солнце, искрились снегом крыши домов.
– Гореть тебе, еретик, за такие слова в аду, – не отрывая глаз от потолка, прошипел Гавриил.
– Ну и что ж? – сказал раздражительно Семен Федорович. – А ты, инок божий, с удовольствием будешь подкладывать дрова под меня… в огонь… Будешь, а?
Монашек побледнел, перекрестился, возразил:
– Ад в преисподней. Рай на небесах. Я буду высоко, в сонме ангелов и святителей церкви.
– Эх, Гаврюша, – вздохнул Семен Федорович, – до чего же ты глуп! Вот если б твоему богу оторвало ногу, как мне или вон как Прокопочкину… – Он запнулся от волнения и немножко помолчал, а потом со стоном пояснил: – Какая сатанинская преисподняя может сравниться вот с адом моих душевных и физических мук? Разве ты не видишь, какой огонь палит меня? От этого огня уже давно мои глаза и тело стали мертвыми.
– Семен Федорович, замолчи, – всхлипнул Прокопочкин. – Замолчи, а то зареву белугой. Сестрицы, – обратился он к сестрам, пораженным словами Семена Федоровича и сидевшим неподвижно, с испуганно-растерянными лицами, – хотите послушать сказку? – Он махнул ладонью по плачущим глазам и задержал ладонь у лба, чтобы раненые и сестры не видели его слез, а видели одну нижнюю часть его лица, всегда улыбающуюся.
Сестры пришли в себя, немного оживились от его предложения, повернули лица к нему.
Прокопочкин спросил:
– Можно начинать?
– Пожалуйста, – попросила глухо Нина Порфирьевна, и на ее пухлых и нежных щеках загорелся румянец. – Чур, только новую, да посмешнее!
– Чур, сестрица, – подхватил Прокопочкин, не отнимая ладони от верхней части лица. – Я ведь никогда не рассказывал вам одну сказку два-три раза. У меня их столько в памяти… Значит, смешную?
Я стал смотреть на Прокопочкина: он держал кисть руки на верхней части лица, плачущей… улыбался нижней.
– Вспомнил… нашел смешную… – проговорил он. – Слушайте. – И начал: – Давно-давно жил один солдатик. Прослужил он двадцать пять годков и получил отпускной билет. Отслужил, значит. Завязал в узелок шильце и мыльце, накинул на плечи шинель и отправился домой, к родителям. Долго шел. Шел полями, лесами. Сильно устал, а до дома еще далеко. И вот подошел он к одной деревне, постучал в окно крайней избушки: «Эй, живой человек, пусти переночевать». – «Заходи, – отозвались ему из окна. – Спать можешь сколько угодно на полатях, а кормиться у нас нечем. Сами, как видишь, голодные». Снял солдат сумку, вынул краюшку хлеба, положил на стол и сказал: «Ешьте досыта». На другой день солдатик отправился дальше. Идет легко, посвистывает. Идет и в небо поплевывает, а оно синее-синее. Вдруг навстречу нищая. Сухая, ободранная. «Помоги, говорит, хлебцем старушке. Дай хоть кусочек малый». Солдатик ощупал углы сумки и не нашел ни одной крошки. И в карманах шинели ни крошки, только пятак нащупал. «На, бабушка, пять копеек, купи на них хлеба и поешь».
Старушка поблагодарила его и отдала ему свою сумку. «Возьми, – сказала она, – моя сума-то будет полегче твоей. С нею с голоду не помрешь и из лютой напасти вылезешь».
– Имела такую суму и просила милостыню, – заметил скептически Первухин, – что-то не вяжется у тебя, Прокопочкин.
– Не перебивай, Первухин, – попросила Нина Порфирьевна. – Потому и не вяжется, что он рассказывает сказку, а не правду.
– Совершенно верно, сестрица, – смутился Первухин. – Вы меня простите, а я больше не стану перебивать сказочника.
– Солдатик принял суму от нищенки и зашагал дальше. Шел-шел, и устал, и поесть захотел. Хлеб отдал на ночевке голодным, пятак нищей отдал. Достал кисет – табаку на цигарку не хватило. Сел солдатик под кустик у дороги, затылок почесал и вспомнил про суму старухи. «А хорошо бы, – сказал он, – если бы в этой суме нашлись хлеб, бутылка водочки и кисет с табаком», – и прикоснулся рукой к суме, а из нее как выскочит парнишка: «Чем могу служить тебе, служивый?» Шустрый такой, остроглазый. Ну прямо бестия! Солдатик сильно обрадовался ему, сказал: «Давай сюда стол и стул. На стол хороших харчей, водки штоф да махорки крепкой». Не успел солдатик сделать заказ, как появился стол, стул, чашка с жирными кислыми щами, тарелка свинины жареной, штоф водки, стаканчик к нему и кисет с табаком. Солдатик наелся, досыта, накурился – и опять ладонь на суму: «Убирай. Я сыт, пьян, и нос в табаке». Сразу на столе ничего не стало. Не стало стола и стула.
Парень прыгнул в мешок. Солдатик поднялся и, покачиваясь, бодро зашагал и веселую песню запел. Шел-шел он и пришел в город. Прослышал он на постоялом дворе, что у царя есть красавица дочь. «Что ж, – сказал он себе, – надо сходить к нему и поглядеть на его дочку. Может, я ей понравлюсь, и она выйдет замуж за меня». Пошел. Подходит к воротам царского дворца, а его остановили часовые, не пускают: «Куда прешь, немытая харя?» Один даже в шею дал. Солдатик ударил ладонью по суме. Парень выскочил из нее. «Какую службу прикажешь нести, служивый?» Солдатик приказал ему: «Вот они не пускают меня к царю. Дай каждому по усам, да не очень». Парень каждому часовому сунул кулаком в рыло. Часовые, как поленья, попа́дали. Вошел солдатик во дворец. Царь увидал его и спросил: «По какому делу, братец, пришел?» Солдатик ответил: «В гости к тебе пришел. Пришел дочь твою красавицу за себя сватать». Царь выслушал его и сказал: «Три дня гости у меня. Если кушанья придутся тебе по вкусу, тогда и дочь выдам за тебя». Солдатик согласился. Царь велел слугам посадить его в тюрьму, а вместо харчей поставить кадку воды и его стал угощать ею. Солдатик просидел день в тюрьме, просидел второй – и ничего, никакого горя. Ударил ладонью по суме – кушанья разные, водка и напитки, сигареты тонкие на стол. Солдатик пьет, ест и курит. Словом, сидит в полном удовольствии. Царь послал лакея спросить у него: доволен ли он царским помещением и угощением? Солдатик ответил царскому лакею: «Передай, братец, царю, что я весьма доволен. Пусть он сам придет и вместе пообедает со мной и выпьет стаканчик водочки». Пришел царь в тюрьму. Ударил солдатик рукой по суме, сказал: «Самых лучших вин и харчей! Чтобы стол ломился от них». Выскочил из сумки парень и ментом кушанья и вина поставил на стол. Ест царь и дивится: «Черт знает что такое! Ничего в жизни вкуснее этих кушаний не едал. Да и вин нигде таких хмельных и сладких не пивал». Наевшись и напившись, царь икнул и сказал: «Ладно, служивый. Свою дочку-красавицу отдам за тебя. Но раньше ты должен проспать одну ночь в новом дворце и прогнать из него гостей. Они мне очень надоели». Солдатик согласился. «Почему не переспать в твоем дворце», – решил он про себя и ответил: «Это можно», – и тут же отправился во дворец. Его накрепко заперли: двери на замки и засовы железные, окна ставнями закрыли. Солдатик начал укладываться спать. Вдруг – шум, гром, топотня копытная, визг поросячий, вой шакалий. Не успел он глазом моргнуть, как в залу с ветром ворвались рогатые и мохнатые. От них стало черно в зале. Главный черт сказал солдатику: «Здрасте, служивый. Зачем сюда, в наш дворец, пришел? Сейчас же убирайся, а то мы тебя растерзаем». Солдатик рассмеялся, ответил: «Ах, бесячья сила, какая муха тебя укусила? Как посмел так говорить со мной? – И он ладонью прикоснулся к суме: – Дай, слуга, кушаний и водочки, чтобы подзаправиться я мог». Выскочил парень из сумы, собрал ужин – кушанья и вина поставил на стол. Солдатик стал кушанья есть и вина попивать, а черти с завистью глаза лупят на него, в рот ему заглядывают. Видно, что им невмоготу стало смотреть, как пьет и ест, закричали: «Служивый, не продашь ли нам эту суму?» Солдатик не торопясь проглотил кусок курятины, запил его вином, обтер усы салфеткой, ответил: «Сума эта заветная, непродажная. Вот если вы, черти, все разом влезете в нее, я вам ее бесплатно отдам». Черти, конечно, обрадовались и согласились, стали уменьшаться, стали не больше мошек и полезли в суму. Залезли. Ни одного во дворце не осталось. Солдатик завязал суму, подошел к изразцовой печке и начал чертей колотить об нее. Бил, бил чертей до тех пор, пока они не перестали кричать. «Служивый, пусти нас на волю! Мы больше не станем завидовать твоим харчам и питью», – взмолился какой-то черт. «А-а-а, – рассмеялся солдатик, – опять голос подали?» Тут он взял двухпудовую гирю и стал ею давить чертей в суме, приговаривая: «Будете мешать мне когда-нибудь или нет? Будете разные пакости мне устраивать или нет?» Взял суму и вытряхнул из нее чертей за окошко. Опомнились черти на земле и разбежались, кто куда мог, и больше не показывались в этом дворце. Царь был уверен, что черти задушили солдатика, который вздумал быть его зятем, и спокойно завалился в мягкую царскую постель и тут же заснул. Утром – царь только что проснулся – солдатик пришел во дворец и прямо к царю: «Службу царскую выполнил. Отдавай красавицу дочку за меня замуж». Царю не хотелось отдавать дочь замуж за него, но делать было нечего, надо отдавать, так как он стал сильно бояться его. «Хорошо, – согласился царь, – пусть, служивый, будет по-твоему. Я согласен». Но солдатик раздумал жениться, ответил: «Не хочу, царь, жениться сейчас на твоей дочке. Хочу раньше родителей проведать и три года погулять, а потом, если охота будет, приду свататься к тебе за твою дочку-красавицу».
Сказал это солдатик и ушел.
– Вот дурак-то, – не утерпел Первухин. – Зачем же он отказался от царской невесты, столько вытерпевши от чертей и царя? Женился бы и поживал с царевной, спал бы с нею на пуховой перине, сладко пил бы и ел… Влажной твой солдат, неправдоподобный. Такое счастье ему подвалило, а он сразу на попятный двор.
– Ты б, Первухин, не отказался, если был бы на месте солдата, – заметил Синюков, – обязательно женился бы на царской дочке.
Раненые засмеялись. Нина Порфирьевна улыбнулась. Сестры Смирнова и обе Гогельбоген нахмурились. Стешенко сказала, поправляя косынку:
– Не мешайте Прокопочкину закончить.
Когда все замолчали, Прокопочкин стал продолжать:
– Шел-шел солдатик и встретил старуху. В одной ее руке коса, в другой – клещи кузнечные. Она преградила ему путь, крикнула: «Наконец-то ты попался мне! Долго я тебя, мерзавца, искала… такого окаянного. Теперь берегись: я – смерть твоя!» Рассердился солдатик, схватился за тесак, но смерть раньше успела взмахнуть косой.
– А почему он не ударил ладонью по суме заветной? – вздрагивая под одеялом, спросил глухо Семен Федорович, не открывая лица. – Ну ладно, продолжай.
– У него голова с похмелья трещала, вот ему и не до сумы было, – пояснил за рассказчика Первухин. – А не женился он зря… Женился бы… и, смотришь, смерть-то во дворец и не заглянула: побоялась бы часовых и генералов. Вот я и говорю, Прокопочкин, дурак твой солдат.
– Не совсем, – возразил Прокопочкин, – не совсем. – И стал продолжать, не отнимая ладони от верхней плачущей половины лица. – И пришел солдатик на тот свет, – улыбаясь нижней частью лица, понизил голос Прокопочкин, – и стал солдатик стучаться в ворота рая, а ему не открывают, не пускают: в раю-де местов нету для солдат. «А нет – так и не надо, – ответил солдатик, – мы не из гордых. Я пойду и в ад, мне и в нем будет хорошо, если там есть еда сытная, табаку вволю». И пошел прямехонько. Спустился он в это учреждение, – ворота в него днем и ночью настежь открыты, и часовые не стоят, как у рая, у них. Входи в ад каждый. Не выгонят.
– И опять, Прокопочкин, врешь, – не вытерпел Семен Федорович и открыл лицо. – Солдатам всем обещан рай, а ты говоришь – им места нету в нем. В святом писании сказано: бедные унаследуют жизнь на небеси. Солдаты, намучавшиеся и пролившие свою кровь на войне за царя и отечество, в первую очередь – в рай. Гаврюша, так написано в Евангелии? Подтверди, пожалуйста, мои слова. А солдатам, убиенным из оружия, или раздавленным танками, или отравленным газами на войне, только рай, рай и рай.
– А если в нем местов нету, тогда куда их девать? – заметил Синюков. – В рай последовали за эту войну дивизии, корпуса и целые армии. Так, наверно, такая давка и потасовка идет за места, за каждую тень под кустиком, что все ангелы сбились с панталыку. А может быть, и самому богу бороду выдрали за то, что у него нет порядка?
Обе Гогельбоген поднялись и испуганно, прямые, как оглобли, вышли из палаты. Нина Порфирьевна и Смирнова вскочили и, смущенно потупив глаза, хотели было уйти, но их задержал Игнат Лухманов. Остались на месте Стешенко и Мария Пшибышевская:
– Не уходите, – умоляюще попросил он, – после Прокопочкина я прочитаю новые стихи. А Гогельбоген напрасно ушли. Неужели обиделись на слова Синюкова?
Нина Порфирьевна и Смирнова сели. Стешенко сказала:
– Содержание сказки относится к отдаленным временам… ко временам царя Гороха.
– Согласен с Синюковым, – перебил Стешенко Семен Федорович. – Тогда была севастопольская война, и в раю было довольно тесновато.
– Да и теперь не просторно, – буркнул Синюков.
– Одних англичан сто тысяч отправилось в рай, а турок, французов и итальянцев… – не обратив внимания на слова Синюкова, пояснил Семен Федорович, – ну, и не нашлось в раю местечка солдату из сказки Прокопочкина. Так ему и надо – не опаздывай!
– На чем я остановился? – спросил Прокопочкин. – Да, солдатик спустился в ад. Не успел он осмотреться в новом месте, а черти его уже окружили, сцапали и к самому жаркому огню поволокли. Он выпрямился, прикрикнул на них: «Ах вы анчутки косолапые, забыли, как я вас в царском дворце об печку бил и двухпудовой гирей давил в суме?!» Черти, узнав его, отпрянули и побежали докладывать старому черту: «Ой, отец родной, солдат-то сердитый, что нас гирей бил, пришел в ад, хочет весь его разворотить…» Испугался сатана, залез в дальний угол ада и закричал: «Уходи из моего царства, служивый! Чего хочешь бери, а нам не мешай жить!» Солдатик погулял малость, попугал чертей и ушел. Поднялся в рай. Бог поморщился и скрепя сердце принял его, чтобы он не скандалил у ворот рая. «Сходи к архангелу Михайле и возьми у него ружье, – предложил бог, – и становись охранять райские ворота, Петр и Павел не справляются – устарели». Получив ружье, солдат стал у ворот. Видит – смерть идет. Солдатик остановил ее: «Куда, карга? Как смеешь в рай входить?!» Смерть ответила: «Я с докладом к богу идут. Мне надо спросить у него, каких людей он велит в этом году убивать: молодых али старых?» Солдатик ответил: «Бог никого не велел пускать без моего доклада. На тебе, карга, ружье, покарауль ворота и никого не впускай в рай. Пустишь – голову оторву. А я схожу к богу и сам за тебя спрошу».
Бог сказал солдатику: «Передай смерти, чтобы она в этом году убивала больше молодых… мужиков и баб». Солдатику стало жалко молодых мужиков и баб, не передал приказа божьего, сказал: «Карга, – беря от нее ружье, – бог велел тебе убивать в этом году всех генералов и офицеров». Смерть поверила, ушла от ворот рая и погубила всех генералов и офицеров. Прошел год, а солдатик с ружьем все рай караулит, с ноги на ногу переступает. Смотрит: генералы да офицеры в мундирах и орденах валом валят к райским вратам. Следом за ними – смерть, машет победно косой, покрикивает: «Служивый, отворяй ворота! Генералы и офицеры идут!» Солдатик струхнул, подумал: «А вдруг бог, увидав генералов и офицеров, догадается, что я его повеление не передал смерти так, как он велел? Нет, лучше не пущу их в рай». И он грозно закричал на смерть: «Кто тебе велел их гнать сюда? Разве ты не знаешь, что в Евангелии сказано? Там ясно написано, что богатым легче пролезть верблюду сквозь ухо, чем попасть в царствие небесное. Гони их обратно, всех в ад! Там давно приготовлено им место. Таков приказ бога!» Смерть сдала генералов и офицеров в ад и опять вернулась к воротам, чтобы спросить у бога: кого он велит убивать в этом наступающем году? Солдатик опять оставил смерть с ружьем у ворот, а сам отправился к богу за распоряжением. Бог велел передать смерти, чтобы она убивала мужиков и рабочих средних лет. Солдатику и на этот раз стало жалко мужиков и рабочих, так как сам был из мужиков, и он утаил повеленье божье от смерти. «Карга, – сказал он, – в этом наступающем году бог приказал тебе перебить всех богатеев, архиереев и попов. Да и царя Гороха заодно – уж больно стал стар царь». Смерть ушла выполнять божье повеленье. Прошел год еще, а солдатик с ружьем все охраняет райские ворота. Смотрит: богачи, архиереи, попы во главе с царем в рай прут. Позади них смерть победно косой машет, прикрикивает: «Служивый, открывай райские ворота! Богачи, архиереи и попы во главе с царем Горохом в царствие небесное идут!» А солдатик приклад ружья под самый нос смерти: «А это, чертовка, видишь?! Хочешь, за такие дела я тебе скулы сворочу! Гони их всех в ад! Таков приказ бога!» Смерть сдала и этих в ад и опять вернулась к воротам, чтобы получить новый приказ от бога, кого ей убивать в новом году. «Пошла, – сказал солдатик, – надоела ты мне до тошноты. Я тебе больше не слуга, не батрак и богу твоему. Иди сама и спрашивай у него». Смерть заковыляла к богу, а солдатик бросил ружье в сторону, плюнул и пошел на землю, поглядеть, как на ней народ простой живет и государством управляет без богачей, архиереев, попов, генералов и офицеров и царя Гороха. Вот и сказке конец!
Прокопочкин замолчал и отнял ладонь от глаз. Я увидел его лицо: верхняя его часть горько плакала, нижняя смеялась.
– Прокопочкин, откуда ты набрал таких сказок? – спросила не без ехидства Стешенко. – Удивительные, однако, они у тебя… Кажется, ты сам их сочиняешь!
– У народа, – ответил спокойным тоном Прокопочкин. – У народа. У него зерна столько нет в закромах, сколько сказок разных!
– Лжешь, Прокопочкин, на народ! – взвизгнул Гавриил. – За такие сказки гореть тебе в аду и не сгореть. Тьфу! – монашек плюнул и уткнулся лицом в подушку.
Сестры поднялись. Переглядываясь, они направились из палаты. Нина Порфирьевна задержалась у двери перед другой палатой, строго сказала:
– Прокопочкин, я запрещаю тебе рассказывать такие сказки, – и закрыла за собой дверь.
В палате стало тихо. Только хлюпало и сипело в груди Алексея Ивановича, – будто сипел в ней кузнечик. Первухин встал с койки Прокопочкина и, заложив руки за спину, прошелся вдоль койки и сел на нее. За окнами ярче голубело небо, белел снег на крышах домов. Беспрерывно дребезжали и гудели трамваи.
XI
Утро. Тишина. Рана на руке после перевязки ныла. Болела спина. Правая часть головы казалась деревянной, но слышал все же лучше на правое ухо – слух возвращался. Синюков достал из столика шашки и предложил Первухину сыграть. Первухин не отказался. Монашек глядел на иконку, что висела у него на койке, над изголовьем, шевелил губами.
Шкляр сидел на стуле, уставившись взглядом в открытый чемодан. Поверх белья и носовых платков – две пары офицерских погон. Вчера Шкляру главный доктор лазарета предложила переехать в офицерский лазарет, а он отказался, заявив, что здоров и уезжает на фронт, в свой полк. Нынче утром сестры нашей палаты поздравили его с офицерским чином.
– Эй-эй! – крикнул Синюков. – Первухин, рано в дамки! Возьми обратно пешку!
– Не возьму! – запротестовал Первухин. – Я сходил правильно. Ты не можешь играть без спора!
– А я говорю – возьми! – крикнул Синюков. – Два раза подряд не ходят. Я ведь за тобой, как ты съел мою, не ходил еще.
– Нет, ходил.
– Не ходил. Не возьмешь – не буду играть!
– Удивил! – воскликнул со смехом Первухин. – Пожалуйста! – Он смешал на доске шашки, вскочил и отошел от Синюкова. – Не любишь проигрывать, вот я… Никогда не сяду играть с тобой.
– А ты не жульничай, – возразил Синюков и повернулся на спину.
Первухин не ответил. Из перевязочной вернулся Лухманов и тут же, охая, лег на койку.
– Больно? – спросил участливо Гавриил.
– Досталось, – прогудел Игнат, – уж докторша ковыряла-ковыряла рану… Я думал, что и конца не будет ее ковырянию. Одной марли пук запихала… А ты что медлишь? Ждешь особого приглашения?
– Боюсь, – вздохнул монашек и, набросив на плечи халат, трусливо поплыл в перевязочную.
Две няни и сестра Смирнова привели Алексея Ивановича из перевязочной. Он был высок, широкоплеч, отпустил темно-русую бороду. Его глаза болезненно блестели, казались сизыми. Няни и сестра уложили его в постель. Он стонал. Няни ушли, а сестра осталась и держала руку на его лбу. Смирнова сидела до тех пор возле раненого, пока он не забылся, не перестал стонать. Эти же няни привели Семена Федоровича. Он неумело прыгал на одной ноге, держась за их плечи.
– Как? – шепнул Игнат.
– Не зарастает, – ответил Семен Федорович, закрываясь одеялом до подбородка, – рана с тарелку. Няня, – обратился он к полногрудой, с веснушками на круглом лице, – я хочу побриться. Скажи парикмахеру, чтобы пришел.
– Приглашу, – отозвалась няня, – я вчера еще говорила, что не мешало бы вам побриться, а вы промолчали.
Лицо у Семена Федоровича совсем высохло, один только нос стал длиннее. На подбородке и на верхней синей губе торчали редкие темные волосы.
– Ананий Андреевич, – позвал он, – а сестра Стешенко, пожалуй, больше не придет к нам.
– Не придет? – переспросил я. – Почему?
– Будто перевелась в другой лазарет, – сообщил Семен Федорович, – она невзлюбила нас. А нашей докторице сказала, что мы все безбожники и циники. Что нас не надо лечить, а надо отправить на кладбище… и пользы станет больше: лопухи пойдут гуще.
– А доктор?
– Она строго посмотрела сквозь очки на Стешенко и сказала: «Как вам, сестра, не стыдно говорить так! Мои раненые – герои». Так прямо и резанула. Стешенко покраснела и отошла от нее. Доктор сняла повязку с меня и стала смотреть рану… Я глядел на ее склоненное, в морщинках лицо: оно было и серьезно и грустно. Потом стала брать марлю из банки и щипцами прикладывать к ране. У меня закружилась голова, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, я услыхал сердитый полушепот: «Думаю, что мои раненые не меньше вас любят родину. Они только об этом не говорят, а если говорят, то иначе…» – «Вы, Ольга Васильевна, придерживаетесь таких же мыслей, как ваши раненые», – возразила Стешенко. «Возможно, – ответила доктор, – возможно. Родина? Помолчите лучше о ней. Она не в ответе за все те безобразия, которые творят ограниченные люди. Все министры и бездарные командующие не стоят одной вот такой раны». Так прямо и сказала и кивнула головой на мою рану. Увидев, что я очнулся от обморока и смотрю, доктор сразу замолчала. Стешенко взяла бинт, спросила: «Можно наложить повязку?» – «Я сама… а вы приведите раненого из четвертой палаты». Стешенко ушла. И докторша забинтовала мне рану.
Семен Федорович помолчал, потом неожиданно спросил:
– Ананий Андреевич, а кто такой Ленин? Я вот два раза слышу эту фамилию. Недавно ее упомянул в своем рассказе Первухин… Что это за человек?
– Ленин? – настораживаясь, переспросил тревожно я и уклончиво ответил: – Фамилию эту и я, впрочем, слышал не один раз на фронте, да и еще до войны. А что?
– Хочу знать, что это за человек с такой фамилией. Я только один раз слышал его фамилию от взводного, унтер-офицера. Хотел у него спросить, но не удалось – ногу оторвало, да и его… А вот сейчас вспомнил эту фамилию. Взводный называл ее с такой любовью, что она, фамилия-то, и мне стала родной… вот я и хочу знать: что за человек Ленин, кто он такой?
Игнат закашлялся. Прокопочкин сел на койке и окинул плачущим взглядом палату, потом остановил его на Семене Федоровиче, сказал:
– Парень, как я вижу, ты хороший, раз сердцем почувствовал человека с такой фамилией. Что ж, Федорович, ты не ошибся в своем чувстве… раскаиваться не будешь в нем, когда ближе узнаешь Ленина.
– Так ты, Прокопочкин, знаешь его? – обрадовался Семен Федорович.
– Нет, нет, – озираясь по сторонам, ответил Прокопочкин, – и фамилию Ленин вот только услыхал от Первухина… и от тебя… впервые. Сказок знаю много… Столько я набрал их в деревнях, в Донбассе, когда шахтером был, и на фронте. А вот и парикмахер.
Вошел старичок с бритвенным прибором, в белом халате, плешивый, с серыми усиками и малиновыми щечками.
– Кого здесь помолодить надо? – спросил он вежливенько, оглядывая раненых.
От него пахло дешевым одеколоном и пудрой.
– Меня, – заявил Семен Федорович.
– Хорошо-с.
– Вам трудно сидеть? – спросил он у Семена Федоровича. – Трудно-с, – ответил мастер за раненого. – Тогда не беспокойтесь. Лежите в таком положении-с. – Он приладил салфетку к шее Семена Федоровича, взбил порошок в мыльнице.
Из густой белой пены торчал восковой нос раненого и темнели щели глаз. Работая бритвой, парикмахер часто брался пальцами за кончик воскового носа. Было слышно, как бритва срезала редкие жесткие волосы, скребла по землистой коже.
– Ну, готово-с, – сказал парикмахер и побрызгал одеколоном лицо Семена Федоровича, а затем провел салфеткой по нему.
Шкляр закрыл чемодан, запер его на замок, сунул под койку, спросил:
– Я хотел бы, мастер, побриться в вашей комнате.
– Милости просим-с… – подхватил услужливо парикмахер.
Шкляр последовал за ним. Грудь сияла георгиевскими медалями и крестами.
Проводив Шкляра взглядом, Семен Федорович обратился ко мне:
– Знаешь, Ананий Андреевич, у меня просьба к тебе… Исполни ее, пока сестер нет.
– Что ж, просьба твоя, думаю, не выйдет за пределы возможностей лазаретной жизни. И я сумею ее выполнить.
– Вполне, – подхватил Семен Федорович и чрезвычайно оживился. – Пишешь ты, Ананий Андреевич, быстро?
– Не так уж быстро, но споро, – признался я. – А что? Да ты и сам грамотный.
– Это так, – ответил Семен Федорович, – но писать не могу быстро и складно, а все, видно, потому, что мысли опережают руку. Рассказываю складнее. Так вот, чтобы передать складно мысли в письме, я и прошу тебя, Ананий Андреевич, по порядку записать их. Я решил послать обстоятельное письмо одной особе, замечательной для меня.
– Согласен, – сказал я, заинтересовавшись.
– Тогда начнем, – обрадовался Семен Федорович, и он достал пачку почтовой бумаги из ящика тумбочки и бросил ее через Синюкова на мою койку. – Чернила и ручка у тебя на столике.
– А не помешают нам? – и я показал взглядом на раненых.
– Нисколько, – проговорил он. – Даже наоборот. Видя друзей, бывших не один раз в боях, мои мысли свободнее пойдут из головы.
– Что ж, тогда приступим. – Я взял со столика сочинение Пушкина, положил его на колени, положил на книгу лист бумаги, взял перо и приготовился записывать.
– Пишите, – оборвал мое размышление Семен Федорович, и его восковой нос качнулся в мою сторону и тут принял прежнее положение. – «Мария…» – начал он.
Я стал записывать.
– «Мария, – повторил Семен Федорович, – шлю вам низкий поклон и от всей души желаю здоровья и счастья. Сообщаю вам, бесценный друг, что ваше последнее письмо своим жалостным тоном не обидело меня. Мария, вы знаете, что у меня нет родителей, – если они умерли тут же после моего появления на свет, под солнышко, я не виню их; если они живы – проклинаю. Вам известно, что я вырос в детском приюте. Потом, когда мне исполнилось двенадцать лет, я пошел в люди. Три года тому назад, перед самой войной, я встретил вас и стал вашим другом, а вы – моим. Война разлучила нас, но не разорвала нашу дружбу, – так мне казалось до вашего последнего письма. Мария, это ваше письмо неискренне, фальшиво. Оно не нравится мне. Вы испугались, прочитав мое письмо, и в душе решили, что с таким инвалидом, как я, вам немножко трудно жить. Я вас хорошо понимаю. Мария, я согласен с вами. Дорога жизни, по которой идут бедняки, и здоровым тяжела, невмоготу. Да-да. А что станет делать на ней такой, как я? Разве я могу принять участие в бешеной погоне людей за куском хлеба, добыть в человеческой давке этот кусок, чтобы насытить им вас, детей и себя? Видимо, и у вас, Мария, когда вы писали ко мне это письмо, последнее, зародились такие же мысли в белокурой головке? Конечно, в этом я убежден. Да иначе вы и не могли бы быть такой умницей. Да и не надо бы вам писать такие слова: «Семен Федорович, жизнь в Москве тяжела, я будто живу и не живу, а буду ли я жить, когда вернетесь вы, ответить не в состоянии, но чувствую, что я тогда окончательно превращусь в несчастную клячу. Впрочем, Семен Федорович, продумайте сами мои горькие слова и решите, как вам лучше и честнее поступить. Надеюсь, что вы, как умный человек, войдете и в мое молодое положение и в свое убогое положение». Мария, зачем так длинно и витиевато, написали б короче и откровеннее. Примерно так: «Таким, каким вас сделала война, вы не нужны мне. Не приезжайте. Постарайтесь забыть меня». Мария, не подумайте, что я это пишу вам в раздражении или в страшной обиде на вас. Нет. Клянусь, что нет! Вы не виноваты. Виновата в этом наша подлая жизнь, в которой живем. Была бы в нашей стране другая жизнь, тогда, может быть, и мы относились бы друг к другу иначе – по-человечески. Думается, что эта другая жизнь придет. Верю я в ее приход только потому, что люди, среди которых я находился и нахожусь, страшно измучены вот этой жизнью, дюже недовольны ею, даже в ярости на нее. Мария, вот лежу я на койке и вспоминаю, как мы перед войной каждое воскресенье ездили в Сокольники или на Воробьевы горы; как в тени деревьев вы опирались на мою сильную руку и вскрикивали лукаво, отталкивая меня: «Сеня, лови!» – и убегали от меня, шумя платьем, убегали по пестрой от цветов траве и прятались за кустами. Я бежал нарочно тихо за вами, чтобы дать вам полнее испытать радость молодости, не ловил вас до тех пор, пока не устанете, сами не упадете мне на руки. Я подхватывал вас – я ведь был тогда богатырь – и нес долго-долго по лесу, по узкой тропинке, а вы, закрыв синие глаза, блаженно улыбались.





