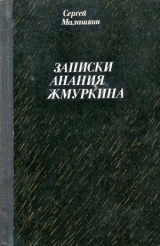
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Кузнецов собрался еще что-то сказать мне, но его предупредил средних лет рабочий с рыжей крошечной бородкой, рябинками на продолговатом и сероглазом лице.
– Анисим Петрович недоволен мною и вот им, – и Силаев показал взглядом на Рябова, невысокого, широкоплечего, с высоким лбом и бритым круглым лицом человека: – Недоволен он тем, что я и Рябов уделяем много внимания парнишкам, работающим в депо. Он, как руководитель группы партийцев, говорит, что мы должны воспитывать политически их, а не обучать слесарному делу. Вот с такой его установкой, Ананий Андреевич, ни я, ни Рябов не можем согласиться. Вот до вас мы и спорили по этому вопросу с Анисимом Петровичем и с товарищами, разделяющими его точку зрения. У нас есть такие, к сожалению, слесари и токари, которые смотрят на подростков не как на своих учеников, а как на личных батраков. Разве это дело? Разве это честно? Один слесарь посылает своих учеников не только за самогоном, но и таскать воду для своей скотины и кухни, колоть дрова.
– К сожалению, такие есть, – проговорил Рябов. – И мы их терпим! А что вы скажете по этому поводу, Ананий Андреевич?
Я промолчал, внимательно поглядел на Кузнецова.
– Тогда вам, Григорий Фомич, надо идти в педагоги в железнодорожную школу. Вот так и будете обучать, – тихо, с заметной улыбочкой на пухлых губах проговорил Казанцев. – А у наших слесарей и токарей нет лишнего времени на такую педагогику. Поймите это. Подростки должны прислуживать мастерам и, конечно, приглядываться к тому, как работают мастера. И только! Достаточно для парнишек и того, что мы вовлекаем их в кружки, просвещаем… Это самое главное-основное для них.
– Правильно, Ефим, – поддержал неуверенно Кузнецов. – Мы это и делаем! Да и я, как мастер депо, не могу допустить опытных слесарей и токарей уделять время на обучение подростков: пусть они, как сказал Казанцев, сами приглядываются к работе старших и учатся у них. Этого им, повторяю, никто не запрещает. Да, да! Никто не запрещает! И мы, старые рабочие, когда были парнишками, прошли такой путь.
– Все это так, Анисим Петрович… Знаем, что вы мастер депо, – нарушил возбужденно молчание Рябов, – но вы и председатель нашей партийной группы. А раз вы являетесь им, так извольте, Анисим Петрович, правильно, по-партийному, и рассуждать!
– А вы, Захар Данилович, правильно? – спросил недовольным тоном Кузнецов.
– Думаю – да! – ответил Рябов, и на его большом лбу собрались недовольные морщины, глаза потемнели и ушли глубже под густую лобную кость. – Да, недоволен! – подчеркнул он, подумал и обратился ко мне: – Ананий Андреевич, скажите: надо обучать молодежь технике или не надо?
– Сама научится! – бросил высокий костлявый рабочий и, поглаживая светлые усы, закурил папироску. – Я три года, Рябов, пробыл на побегушках в депо, а ты хочешь сразу парнишек сделать квалифицированными. Нежизненно!
– Первая наша заповедь – это втянуть молодежь в политику. Верна такая установка, Ананий Андреевич? – спросил уже недовольным тоном Анисим Петрович. – Подготовить ее к революции, а революция, пишет Ленин, не за горами – на пороге.
– Вот для победы ее, Анисим Петрович, и потребуются квалифицированные во всех областях новой жизни рабочие. Это неоспоримый факт! Если их у нас не будет, то мы можем и не удержать в своих руках победу, власть! – возразил твердо и убежденно Силаев и задержал опять взгляд на мне, как бы спрашивая: «А что же вы, Ананий Андреевич, ничего не скажете?»
– Партийное воспитание, – начал я осторожно, чтобы не обидеть Кузнецова, руководителя партийной группы, – является первой заповедью. Идеи партии – мировоззрение рабочего класса и всех бедняков. Против этого возражать нельзя, Анисим Петрович. Вы глубоко правы! И глубоко правы и сторонники быстрого технического обучения молодежи. После революции, после того как пролетариат и крестьяне возьмут власть в свои руки, они станут во главе огромнейшего государства; это государство потребует от них, особенно от рабочих и членов партии, технически образованных токарей, слесарей, машинистов, военных специалистов, экономистов и чиновников и т. д. Это несомненно так! Ведь после революции, когда власть будет в руках пролетариата и крестьян, буржуазная интеллигенция – инженеры, офицеры и всевозможные специалисты и ученые – могут оказаться нашими врагами, не пожелают служить нам? Может это быть или не может? Конечно, может этого и не быть, но мы, большевики, обязаны предвидеть это.
– Так и станет… буржуазная интеллигенция войной пойдет на нас, – поддержал горячо меня Силаев.
– Она просто озвереет против нашей власти, – сказал Рябов.
– Все это мы обязаны, товарищи, предвидеть, готовясь к захвату власти, к революции, – заключил я и продолжил: – Уверен, что Анисим Петрович, как председатель партийной группы депо, не станет мешать передовым рабочим и партийцам в техническом обучении молодежи, так как обучение молодежи дело глубоко партийное. – Я поглядел на Кузнецова, сильно смущенного моими словами, и на его сторонников, недовольных моей защитой взглядов Силаева и Рябова, закончил: – Товарищи, все ясно, для такого вредного для дела спора нет почвы. И вы, пожалуйста, не тратьте драгоценное время на такие ненужные совещания и собрания. Помните, что уездная Россия уже не та, что выведена в повестях «Городок Окуров» и «Уездное», – в уездах есть пролетариат… И он поведет Россию за пролетариатом Петрограда и других крупных промышленных городов.
– Согласен, – промолвил Кузнецов. – Да я и особенно не возражал против обучения молодежи. Уж больно много поступает в депо больных вагонов и паровозов. Вот я вчера и разошелся, поругался с Силаевым и Рябовым.
– Как мастер паровозного цеха, – заметил Силаев.
– А не как, хочешь сказать, большевик? – обидно спросил Кузнецов. – Нет, и как большевик… – возразил он и пожаловался: – Ведь на меня, как вы знаете, администрация узла чертовски нажимает… Что нажимает – грозит!
– Обучаемая молодежь может поднять процент ремонта паровозов и вагонов, – заметил я.
– Конечно, конечно! – поддержали Рябов и Силаев.
– Признаюсь, я этого не учел, – согласился грустно Кузнецов. – Ну, идите, друзья, на свои рабочие места, а я побеседую с Ананием Андреевичем.
Он замолчал, а когда рабочие вышли, он, приглаживая ладонью белокурые волосы, возбужденно проговорил:
– Мы ведь пораженцы… вот только, пожалуй, поэтому я и отстаивал свою точку зрения на не обучение молодежи и отсталых рабочих. Чем мы меньше вылечим паровозов и вагонов, разбитых на путях и в прифронтовой полосе, тем скорее приблизим поражение наших войск на фронте.
– Я не согласен, Анисим Петрович, – мягко возразил я. – Да и это не идея партии… Мы, большевики, добиваемся не поражения армии и России, а поражения и гибели царизма, помещичьей и капиталистической деспотии.
– Тогда как же немцы нанесут поражение царской и помещичьей России, если они не разобьют нашу армию на фронте? – спросил с удивленной растерянностью Кузнецов, не понимая смысла моих слов.
– Мы обязаны завоевать идейно армию на нашу сторону, идейно убедить ее в том, что не помещики и капиталисты с царем являются защитниками России, а рабочие и крестьяне. Вот мы, большевики, и убеждаем в этом армию. Надеемся убедить ее и повести за собой.
XIX
Кузнецов промолчал, задумавшись над моими словами. Ничего не прибавил к своим словам и я. Так мы, поглядывая друг на друга, провели минуты две-три, а потом снова разговорились. Кузнецов сообщил, что в его группе сейчас тридцать человек и работа ведется сравнительно сносно среди беспартийных рабочих депо, которых числится около четырехсот.
– Вот только литературы партийной получаем мало, – пожаловался он. – Из Тулы мало что приходит к нам.
Узнал я от него и о странной, дикой смерти Леонида Лузгина. Леонид служил приказчиком в бакалейном магазине Бородачева, он почти первым, с Андреем Волковым, вступил в кружок и стал деятельным членом партии, завязал знакомства с рабочими винокуренного завода Каменева, организовал группку из семи человек и вел работу среди нее. Это был вдумчивый юноша, сравнительно начитанный. Оказывается, как я узнал от Анисима Петровича, Леонид любил девушку, эта девушка любила его, но любовь их оказалась несчастной: отец девушки, прасол (на ярмарках покупал крестьянский скот и перепродавал его, как говорят крестьяне, был барышником), просватал дочь за мелкого торговца – щепника и насильно, не считаясь с чувствами дочери, выдал ее замуж за него. Девушка горько поплакала и подчинилась воле самодура отца, стала женой нелюбимого человека. Леонид же, погуляв на ее свадьбе, отправился на полотно железной дороги как раз перед отходом поезда Москва – Елец, положил голову на рельс, лицом к движению поезда, и паровоз раздавил ее. Рано утром железнодорожный сторож, обходя свой участок пути, обнаружил труп Леонида Лузгина недалеко от железнодорожного моста через Красивую Мечу. Сообщение Кузнецова о самоубийстве Леонида передернуло меня, я настолько был подавлен его безрассудной смертью, что долго не мог прийти в себя, сидел с опущенной головой, с трудом сдерживал слезы, подступившие к горлу: я любил, признаюсь, этого талантливого юношу, обещавшего стать крупным партийцем.
– Почему же вы, Анисим Петрович, не поговорили с Леонидом, не отвлекли его от горя, от таких его чудовищных мыслей о самоубийстве? – спросил я подавленным голосом после долгого молчания.
– Да он же прямо со свадьбы… с гулянья. Мне и другим товарищам не удалось встретить его.
Я медленно встал. Поднялся из-за стола и Кузнецов.
– Уходите?
– Надо. Я рад, что у вас, Анисим Петрович, продолжается – и хорошо – партийная работа в депо. Продолжайте ее в таком же порядке, а главное – будьте осторожны. Вероятно, я долго не увижу вас, Анисим Петрович.
– Что так?
– Я проездом. Хочу побывать денька два-три в селе: давно не видел сестру, а она у меня одна. Сестра очень тоскует, волнуется за мужа, думает, что он убит на фронте, четыре месяца ничего ей не пишет.
– А где вы, Ананий Андреевич, остановились?
– Пока нигде. Правда, вещи оставил у Марьи Ивановны Череминой. Я ведь у нее в первые годы жизни в Н. снимал комнату со столом, вот и зашел с поезда к ней.
– А не у Раевской?
– Нет, не у нее. Роза Васильевна, старшая дочь Череминой, приветливо встретила меня. Люди они славные.
– Вы, Ананий Андреевич, могли бы пожить у меня, – предложил Кузнецов. – Квартира у меня из трех комнат, садик, недалеко от реки и вокзала.
– Спасибо за приглашение, – поблагодарил я. – Но у вас, при всем моем желании, я не могу остановиться, и вы знаете, Анисим Петрович, по какой причине.
– Понимаю, понимаю, Ананий Андреевич… и не обижаюсь. Но у нас прежних властей уже нет давно, а новые власти вряд ли знают о вашей деятельности в городе.
– Мне говорил Малаховский о том, что Бусалыго перевели в другой город: перевод его связывается с каким-то скандалом из-за «Правды» в городской управе… Да еще в связи с происшествием во время службы в соборе. Помните?
– Это я помню. А вот надзирателя Резвого нынче заметил на перроне вокзала: он встречал какую-то девушку. А вы, Анисим Петрович, говорите, что никого не осталось из сотрудников Бусалыго, знающих меня. Уж Резвый-то, конечно, знает; он в неделю два раза заходил и к Череминой и к Раевской – справлялся о моем «здоровье».
– Он, думается, Ананий Андреевич, неплохой человек… И дочка у него курсистка. Это он встречал ее, – проговорил Кузнецов и, подумав, посоветовал: – Но все же попадаться ему на глаза не следует.
Я, выслушав его, улыбнулся.
– И Тимоничев умер в больнице: его после скандала в управе задержали и зверски избили в участке. Били его, как мы узнали, не городовые, а сынки купцов – Чаев, Лямзин, Щеглов и, кажется, Феденька Раевский. Вот вам, Ананий Андреевич, и студенты. Они не студенты – зверье!
– Разные бывают студенты, – заметил я и попросил: – Расскажите-ка поподробнее.
– Мне говорили о скандале служащие управы и те, кто были на базарной площади, знакомые мне, – проговорил Кузнецов. И Анисим Петрович образно, словно сам был свидетелем этого скандала, рассказал о нем.
XX
Надзиратель Резвый задержал Тимоничева на Базарной площади, когда тот продавал лубочные книжки с цветными обложками.
– А где у вас номера «Правды», полученные сегодня? – спросил надзиратель Резвый.
– Были, да все уплыли, – ответил Тимоничев. – Сейчас хоть на тройке скачите за ними, все равно не поймаете!
– А что у вас в папке?! – увидав под книжками папку, воскликнул Резвый и, разваливая шашкой книжки, поднял ее.
Тимоничев молчал, мрачно смотрел на полицейского надзирателя.
– Теперь я вам покажу, как прятать запрещенную литературу. Идем!
Тимоничев, ничего не говоря, собрал копеечные книжки, связал их. Потом поднял красный узел с земли. Держа, в одной руке узел и книжки, он спросил:
– А у вас, господин полицейский, есть разрешение на конфискацию «Правды»? Предъявите!
Рыжее и рябоватое лицо надзирателя стало пунцовым; щетинистые усы колюче вздыбились; серые, с зеленым блеском глаза стали злыми и в то же время трусливыми, как у кролика. Надзиратель схватился рукой за эфес, поправил шашку и прикрикнул:
– Молчать! Я вам, дурак старый, не полицейский, а господин надзиратель! Его благородие! Запомните это, старый подлец! Вы хотите разговаривать со мной? Молчать! Сгною в остроге!
Тимоничев рассмеялся на его угрозу, вырвал из его рук папку, заявил:
– Никуда не пойду, если не предъявите ордера на конфискацию!
Вокруг надзирателя и Тимоничева образовалась толпа крестьян, городских парней и девушек. Из толпы посыпались голоса:
– Правильно, Тимоничев! Не уступайте! Стойте за порядок! Пусть господин надзиратель покажет ордер!
Резвый, не видя сочувствия в толпе, смутился, сказал:
– Приказ на конфискацию номеров «Правды» у исправника, господина Бусалыго. Идемте к нему. Он в полицейской управлении.
– Там его нету, – сообщил кто-то знающе из толпы. – Он только что вернулся с мадам Мясищевой, женой аптекаря, с катания. Мадам Мясищева пошла оправляться к себе домой… Оправляться! – повторил он язвительно.
– Значит, Бусалыго здорово укатал ее!
– Не знаю! Но лошади были в пене! А Бусалыго – в городскую управу. Там, кажись, нынче заседание гласных.
В управу идите!
Исправник Бусалыго действительно оказался на заседании, разговаривал с Ивановым, торговцем железными скобяными товарами. Заседание еще не открывалось. Гласные все подъезжали и подъезжали. Несмотря на открытые окна, в зале было душно. Снизу, из купеческого клуба, несло кислыми щами. У подъезда цокали копыта откормленных рысаков, шипели резиновыми дутыми шинами колеса пролеток. Резвый и Тимоничев остановились у входа в зал. Мимо шмыгали служащие, секретари с синими и желтыми папками. Проходили с серьезными выражениями гласные, толстые и тонкие, бородатые и без бород. Резвый почтительно козырял им, особенно тем, которые числились стотысячниками. Увидав Тимоничева, купцы шарахались от него, они боялись острого языка этого пожилого и высоченного плебея.
«Ляпнет словцо – так голову снимет им», – думал каждый, стараясь прошмыгнуть как можно быстрее мимо него.
Вокруг длинного стола, накрытого зеленым сукном, рассаживались гласные. В конце стола, под самым портретом императора Николая II, занял председательское кресло Иван Иванович Чаев, городской голова. Гласные, зная, что он набитый дурак, все же почтительно подходили к нему и, низко кланяясь, здоровались, – они, конечно, здоровались не с ним, а с его десятью тысячами гектаров земли, с двумя вальцовыми мельницами на Красивой Мече, домами, конным заводом и миллионами рублей, – такое состояние Чаев не нажил своим умом и трудом: получил от отца и двух дядюшек. У входа, впереди Резвого и Тимоничева, образовалась из запоздавших гласных толпа. Прежде чем сесть за стол, они должны поздороваться с Екатериной Ивановной, поцеловать ей руку, – эту моду установила сама Екатерина Ивановна, и никто не мог возразить против нее. Когда гласные поздоровавшись с женой головы, прошли за стол, Резвый шагнул к Чаевой и тоже почтительно приложился к ее пухлой и розовой руке. Тимоничев кашлянул и последовал за полицейским надзирателем (он в остроге сказал Кузнецову: «А чем я хуже Резвого и… поцеловал») к Екатерине Ивановне и, не дав ей опомниться, чмокнул не руку, а в мощно вздыбленную корсетом голую грудь. Звук его поцелуя, как выстрел, прозвучал по залу. Чаева побагровела, вскочила. Среди гласных послышался смех, но сейчас же оборвался: все испугались своего смеха, вылупили глаза на Чаева и Тимоничева. Исправник Бусалыго, красный и возмущенный, вскочил. Секретари застыли на месте, поглядывая то на жену головы, то на Тимоничева, стоявшего с серьезным лицом, то на исправника. Городской голова совсем растерялся и не знал, что делать. Он втянул голову в плечи и трусливо, как суслик из норы, поглядывал на гласных, смеявшихся над ним в душе. К Тимоничеву порывисто рванулся тучный с багровым лицом Бусалыго.
– Что тебе надо, бродяга, зачем пришел? Как посмел ты коснуться… – не договорив фразы, глупо рявкнул Бусалыго.
Тимоничев промолчал. Его лицо было бледно, напряженно, но презрительно-насмешливо; его глаза блестели из-под густых бровей; рыжее, истасканное пальто висело как мешок на его истощенной высокой фигуре. За него ответил Резвый. Он сообщил исправнику о том, что Тимоничев продавал номера «Правды», подлежащие аресту.
– Ты это что же, батенька, крамолу разводишь?! – задыхаясь от поднявшейся в нем ярости, прогремел Бусалыго. – Ты, как вижу, плетей захотел… Наконец-то мы тебя сцапали с этой вредной, как яд, газетенкой! Где она, эта босяцкая «Правда»? Дайте ее сюда!
Резвый подал немедленно папку. Бусалыго открыл ее, сосчитал.
– А остальные? – спросил он. – Продал?
Не дожидаясь ответа от газетчика, исправник Бусалыго обратился к гласным с речью:
– Господа купцы, вы незнакомы с этой… Я по должности службы знаком. Скажу вам, господа, опасная газетенка; она, подобно половодью, подмывает почву, на которой мы стоим, почву нашего благоденствия, спокойствия и порядка жизни. Ужасная газетенка! – рявкнул угрожающе он. – Называется «Правдой». Чьей правдой? Конечно, господа, не нашей с вами! Вот эта самая «Правда» распространяется в вверенном нам городе, отрывает нас, государственных и деловых людей, от прямых обязанностей. Этот негодяй, – Бусалыго показал пальцем на Тимоничева, – довольно искусно выполняет задания социалистов, которые, к нашему стыду, находятся… В этом месяце, в мае, мы должны, согласно предписаниям свыше, из Санкт-Петербурга, конфисковывать номера «Правды» за антигосударственные статьи, подстрекающие к мятежу. И что же, господа гласные, мы ни одного номера не сумели взять у этого… – И Бусалыго опять ткнул пальцем в сторону Тимоничева: – Он каждый раз нас обманывал! Вот только сегодня в первый раз мы поймали его, мерзавца, с запрещенными номерами «Правды». Вот они! Вот они! Оказывается, ему кто-то из телеграфистов сообщает… и он получает газеты на полустанке Сафоновка. Так, подлец? Говори! – И Бусалыго потряс торжественно и угрожающе газетами. Он снова обратился к Тимоничеву: – А теперь ответь нам, босяк: кто платит за пятьдесят номеров «Правды» при подписке на нес?
Старик Тимоничев спокойно, с насмешечкой сказал!
– Спросите у начальника почты, он ответит вам.
– Молчать! Мы знаем, кто платит деньги, кто прячется за твоей спиной. Прочитанные номера «Правды» отбирать у рабочих и продавать их мужикам на базарах тоже сам догадался? Нам твои проделки хорошо известны! Кто стоит, спрашиваю, за твоей спиной? Говори! И правду говори!
– Заработать хочу лишнюю копейку на хлеб, вот и продаю газеты, прочитанные рабочими, крестьянам. Они с охотой ее покупают, – пояснил Тимоничев. – А кто стоит за моей спиной, я могу сказать…
– Ждем. Если не скажешь, заставим, – пригрозил Бусалыго.
– Надзиратель Резвый стоит за моей спиной, вот он, да еще в приемной, чтобы я не убежал, двое городовых.
– В участок! В острог, немедленно! – орал Бусалыго.
Резвый подошел к Тимоничеву, взял его под руку.
– А что у него, у крамольника-босяка, в красном узле?! – подал неожиданно голос Казанский, крупный огородник, эсер по убеждению.
Бусалыго сразу опомнился от ярости, пришел в себя.
– Резвый, верните, верните его! – Когда надзиратель и Тимоничев вернулись, Бусалыго спросил: – Что в узле?
Тимоничев не ответил.
– Оглох, скотина?! Что в узле? – взревел Бусалыго. – Может, бомба? Ты и на это способен!
Тимоничев шагнул к столу, ближе к городскому голове, положил красный узел на стол, спокойно сказал:
– Развяжите и поглядите.
Гласный Бородачев стал развязывать со страхом платок. Гласные поднялись, чтобы лучше видеть, что содержится в нем. Городской голова Чаев тоже не вытерпел, встал и наклонился в сторону Бородачева. Тот развязал красный платок и, зажмурившись, резко отпрянул назад: на него уставились темные неподвижные бараньи глаза.
– Это еще что такое? – побагровев, взревел Бусалыго. – Что за номер?
Тимоничев, выдержав взгляд исправника, сказал:
– Номер, говорите? Нет, это не номер, а баранья голова. Я принес ее вам затем, чтобы она председательствовала на ваших заседаниях. Может быть, когда она будет председательствовать, в нашем городе наладится порядок и люди, обремененные властью, поумнеют, станут порядочными.
Исправник Бусалыго сразу сел. Чаева хватил столбняк. Гласные окаменели и застыли в своих позах, наклоненные к бараньей голове. Служащие растерялись от беспримерной дерзости Тимоничева. Так продолжалось несколько минут. Первым опомнился надзиратель. Он наклонился к Бусалыго и спросил:
– Папку с номерами задержанной «Правды» взять?
Бусалыго протянул руку к папке с газетами – ее не оказалось. Номера «Правды» кто-то украл. Поднялась дикая паника, суматоха. Все забегали по комнатам управы. Резвый, городовые, служащие, секретари и даже некоторые гласные – все искали, разыскивали номера «Правды». Бусалыго командовал, приказывал надзирателю, городовым и служащим немедленно разыскать газеты и представить ему. Тридцать семь номеров «Правды» провалились, исчезли из-под рук исправника. Бусалыго, бледный, сконфуженный и чрезвычайно подавленный, не получив папку с газетами, первым уехал в полицейское управление. Четверо гласных вывели под руки Чаева из зала в соседнюю комнату и прикладывали мокрые полотенца к его голове: он, миллионер, голова, был ужасно оскорблен босяком Тимоничевым. Мертвая баранья голова умнее его, Чаева! Черт знает что! Заседание управы не состоялось. Придя в себя, гласные переглянулись и стали шумно, один за другим покидать зал управы.
XXI
К Ирине Александровне Раевской я заглянул перед вечером. Когда я вошел, она находилась в столовой и, сидя в кресле у круглого стола, писала письмо. На обеденном столе не было самовара; отсутствие самовара, чайной посуды, пирожков и ватрушек сказало мне, что в быту Раевской произошла отклонения от купеческого этикета. Отсутствовала и Семеновна: не тараторила своим сиповатым голосом. «Хаживает ли она к Ирине Александровне или уже перестала?» – подумал я. Пока Ирина Александровна удивленно и холодно смотрела на меня, неожиданно появившегося в ее доме, я обвел взглядом окна, шкафы и буфет, – все в просторном зале выглядело серо, тускло, заношенно, а на некоторых предметах, стоявших на этажерке, был заметен слой давнишней пыли; особенно мутны были от нее стекла окон, грязноваты занавески, несвеже выглядели и парусиновые чехлы на диване и креслах. Да и сама Ирина Александровна сидела в серебристо-сером старомодном платье с помятыми кружевами на груди и замызганными оборками на подоле; ее темно-русые густые волосы небрежно, кое-как захвачены в коронку, отдельные их пряди свисали на виски и на лоб; ее глаза блестели тускло, казались белесыми, не сияли синеватым пламенем, как год тому назад, как бы говорили: «А пошли вы к черту! Как все мне в жизни надоело!» Тонкие губы на фоне ее бледного и холодного, как мрамор, лица капризно-нервны и презрительно-злы: казалось, вот-вот превратятся в жало и ядовито ужалят. Всматриваясь в ее лицо, в ее взгляд, уставившийся на меня, я почувствовал, что она нисколько не обрадовалась моему появлению. Такое ее отношение ко мне, признаюсь, чрезвычайно обидело и огорчило меня.
– Здравствуй, Ирина Александровна, – нарушив враждебное молчание, которым она встретила меня, громко и почтительно поздоровался я, шагнул вперед, чтобы пожать ей руку.
Женщина медленно, как бы через великую силу, встала, выпрямилась и жестко проговорила:
– Ну здравствуйте, – и не подала руки. – Давно изволили пожаловать в наш город?
– Нынче утром, на восходе солнца, – ответил я.
– Сожалеете о том времени, проведенном у меня? О том, что не послушались и уехали в свой народный университет? – спросила ядовито женщина, не поднимая ресниц.
– Не сожалею, Ирина Александровна. Вот вы, кажется, недовольны, что я зашел повидаться с вами? Хочу успокоить вас, Ирина Александровна, в том, что я зашел только навестить…
– Кто старое помянет, у того глаз вон. Знаете такую пословицу?
– Слышал, – проговорил я и продолжал: – Вот эти отношения и заставили меня зайти к вам, поприветствовать вас, справиться о вашем здоровье.
– Зря трудились. Не надо бы подметки бить из-за этого! Я тогда выгнала вас… и вы, думаю, это прекрасно помните! – взмахнув ресницами, сказала ледяным тоном Ирина Александровна. – Все, что у нас было с вами, Ананий Андреевич, я не помню: позабыла. Да и было ли что между нами?
Я промолчал.
– Ничего не было, – твердо отрезала она.
– И я так думаю, Ирина Александровна, – согласился я.
– А меня не интересует то, что вы думаете!
– И я так думаю, – сказал я. – Думаю, слушая вас, Ирина Александровна, вы уже и голубков с золотисто-лазоревыми крыльями не видите в своем доме… да и образов, икон и иконок стало меньше в вашем голубином доме, и неугасимые лампадки не горят, как тогда… Неужели я и это все видел во сне?
Ирина Александровна вздрогнула, промолчала.
– Вы, кажется, живете одни?
– А вам интересно?
– Можете не отвечать.
– Если не считать работницу – одна.
– А где сейчас Федор Федорович? В Варшаве?
– Что ему там делать, когда немцы… Он кончил военную школу прапорщиков и вот уже четыре месяца – на Западном фронте, командует ротой, защищая родину. – Она помолчала, затем сказала медленно, сквозь зубы: – Если устали, садитесь.
Но я предложение Раевской понял иначе, мне послышалось в ее голосе: «А пошли вы к черту». Я дал понять ей, что не расслышал ее «любезности», и не сел, остался стоять.
– Войне еще года нет, – продолжала она, – а жизнь так изменилась, что страшно становится жить. – И женщина разразилась ожесточенной бранью на дороговизну жизни, на деньги, которые превратились в кучи бумажного хлама. Говоря жестко и зло об этом, она не думала, казалось мне, ни о сыне, своем голубке, ни обо мне, к которому, охваченная страстью, часто врывалась в комнату, – она сейчас была далека от сына, а еще дальше от меня.
– Почему страшно? Вы, Ирина Александровна, человек обеспеченный. У вас дом, садик, капитал солидный, – возразил я, стараясь утешить…
Мои слова передернули Раевскую так, что ее щеки стали серо-пепельными, губы искривились, чуть отвисли в уголках и мелко задрожали.
– Чем это, скажите, обеспечена? Скажите: чем?! Деньги в банке? Какие это сейчас деньги! Да я и не вольна распоряжаться ими! Недавно пошла в банк с доверенностью сына, подала чек кассиру на пять тысяч, думала он, как до войны, выдаст мне золотом, а он сует в окошко пачки кредиток. Я говорю: «Господин кассир, я хочу получить золотые монеты». А он, седая крыса, равнодушно, с грубоватой ухмылкой осадил: «Разве вы, сударыня, не знаете, что банк с первых дней войны не выдает золото?» Так и не выдал, мошенник! Бумажные деньги, как я уже сказала, падают в цене, а товары дорожают. Что золото – серебро пропало, медь паршивая провалилась куда-то! Вместо серебряных и медных денег ходят почтовые марки в чудовищном количестве с изображением императора. Вчера я была на почте и своими глазами видела, как негодный черномазый чиновник в засаленной до блеска куртке с зловещим удовольствием шлепает штемпелем по этим маркам на конвертах, заменяющим разменную монету. Обеспечена?! Я скоро вылечу в трубу, нищей стану, если война продлится еще год-два!
Она внезапно замолчала, зло сверкнула глазами и грубо заявила:
– Зря приперли ко мне! Все, что у нас когда-то было, – сон! Да, да, – сон! У меня нету времени на пустые разговоры с вами. Уходите!
– Не беспокойтесь, Ирина Александровна, я больше не приеду сюда, – стараясь быть спокойным, заверил я женщину.
– Отлично сделаете. Уходите! – прикрикнула не своим голосом бешеная женщина и, повернувшись ко мне спиной, села на стул и стала продолжать писать письмо, налегая на перо так, что оно затрещало по бумаге.
«Да, она, Ирина Александровна, уже не видит голубков в своем доме», – подумал я и торопливо, как обожженный, выскочил в коридор. Когда я выходил из столовой, она не оглянулась на меня: склонившись низко над столом, писала. Кривая на один глаз кухарка, служившая ей и горничной, следуя, как говорится, по пятам, сумрачно проводила меня до двери парадного, а когда я оказался за его порогом, резко захлопнула дверь и наложила с лязгом на нее железный крюк. Его скрежещущий лязг болью отдался в моем сердце. На душе у меня стало горько: я не ожидал, направляясь в этот дом, того, что его хозяйка, Ирина Александровна, так враждебно и ненавидяще встретит меня. Шагая по улице, я ругал себя за то, что пошел повидаться с нею: не следовало бы мне делать этого. До вечера еще далеко, солнце горячо светило на небосклоне, здания и булыжные мостовые кажутся розовато-синими, деревья садов и палисадников – хрустально-зелеными, как бы застыли в спокойном, неподвижном пламени. Из переулка вывернулись два прапорщика и, помахивая хлыстиками, пересекли мостовую и скрылись за углом двухэтажного коричневого дома. Один был высокий и тонкий, как хворостинка, с забинтованной рукой, висевшей на белой повязке. Второй – толстенький и пучеглазый, похожий на мышонка; он ухмылялся, что-то говорил, сверкая ржавыми зубами. Во втором я узнал Васеньку Щеглова, приятеля Феденьки Раевского. Щеглов не узнал меня, да и я, признаюсь, не хотел этого: он, узнав меня, вспомнил бы демонстрацию в первые дни войны, противовоенные возгласы Андрюши Волкова и Леонида Лузгина, поиски меня в доме Раевской (я уже выехал в Москву, – искали затем, чтобы расправиться со мною), поднял бы скандал на улице, а возможно, не поднимая его, пристрелил бы меня. Черносотенцы-прапорщики, нацепив на плечи блестящие погоны, часто вели себя безобразно со встречными, придирались к ним и пускали в ход оружие, и на такие их хулиганские выходки власти города совершенно не реагировали, не задерживали их, не привлекали к ответственности. Я зашел в трактир Вавилова и пообедал в нем. Черноглазой и черноволосой девушки, подававшей год тому назад мне обеды, я не заметил, – мне подала обед средних лет женщина, с длинным веснушчатым лицом и красноватым носом. Я спросил у женщины о черноглазой красавице, женщина отрывисто ответила: «Не знаю, о ком вы говорите. Я служу недавно, с того самого дня, как получила извещение, что мой муж убит. Спросите о черноглазой вон у хозяина!» И она, получив деньги за обед, отошла от меня, заметно согнувшись. Когда я выбрался из трактира, солнце уже скатилось за потемневший лесок за Красивой Мечой и его деревья закраснели, как окунувшись в море крови; сумерки пепельно-розоватые заливали улицы, и они принимали печально-настороженное выражение. Я направился на Тургеневскую.





