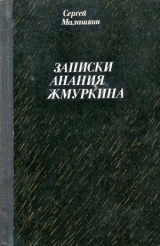
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Влас пропустил мимо ушей слова пожилой женщины, а может, будучи сильно во хмелю, и не слыхал ее просьбы.
Что они еще говорили, я хорошо не помню, так как у меня сильно захмелела голова и я еле выбрался из-за стола; Евстигней и Лаврентий, положив головы на стол и растрепав лохмы волос, что есть мочи заорали разными голосами:
Голова ты моя, голова,
До чего ты меня довела!
IV
Евстигней лежал рядом со мной в телеге; проснувшись, он повернул лицо ко мне и, выбирая веточки сена из усов, пробормотал:
– Не то снилось, не то наяву: кружилась надо мной большая черная птица и гортанным криком будила меня:
«Крр-ы! Крр-ы! Крр-ы!»
А я:
«Шшш! Шшш!»
А когда открыл глаза: никакой не было черной птицы, – висело надо мной осиновое небо, а в небе это, Ананий Андреевич, на самой-то середине, как раз на самом солнце, черное облако стоит и рычит:
«Ууу! Ууу!»
А я лежу кверху лицом и никак сообразить не могу: где я, непутевый, нахожусь? А облако все висит и рычит надо мной:
«Уууу! Ррр!»
Я думаю: вот-вот сейчас прольется.
«Дождик пойдет», – буркнула Матрена и взмахнула кнутом. Кнут, как почудилось мне, опоясал небо и оставил на синем его полотне черную полосу.
«Это жена», – подумал я и повернул голову: действительно, ко мне спиной сидела Матрена.
«Эй ты!» – крикнула она и огрела лошадь кнутом.
Мерин взмахнул головой и одновременно хвостом, фыркнул и трухнул рысью, отчего меня жестоко затрясло в телеге.
«Не проспался еще», – сказала жена и еще раз хлестнула лошадь.
Мерин побежал мелкой рысью, но пробежал немного и снова остановился и пошел гораздо тише. Я ничего не ответил, повернулся кверху спиной и уткнул голову в сено. Впереди играла двухрядка не то «страдание», не то «ихохошки», а ей подтягивал женский хриповатый и разбитый самогоном голосок:
Скора, скора снег растайя,
Вся земля согреитца;
Скажи верную славичькю —
Можно ли надеитца.
А позади кто-то ехавший за нами выводил хриплым басом:
Не ходитя, девки, замуж, —
Распроклята бабья жизнь:
Косу надвое разделють,
Скажут: «Рядышком садись».
– Так мы, Ананий Андреевич, доехали до уездного города, так в городе и ночевали под открытым небом, в телеге, на Соборной площади, около самой церкви святого Покрова. Народу вокруг нашей подводы ночевало очень много, и весь он спал в телегах. Вот только не помню, Ананий Андреевич, когда вы заявились к нам и завалились поспать подле меня? – спросил удивленно Евстигней и зорко поглядел на меня опухшими от самогона и длительного сна глазами.
– Я приехал в город с Иваном Пановым и его женой. Тележка у них крошечная: ему и его жене тесновато в ней, вот я в потемках наткнулся на вашу. Вижу, лежите вы один, а Матрена Исаевна сидит на мешке с овсом и дремлет. Я влез в телегу и заснул подле вас. Не сердитесь на это?
– Что вы, Ананий Андреевич… Я очень рад.
Мы замолчали.
Около церкви Покрова не одна уже играла двухрядка – несколько гармошек беспокоили утро, а также и не два голоса, несколько.
Недалеко от телеги Евстигнея был большой круг мужиков, стоял долго спор о войне, о проклятом немце, которого во что бы то ни стало надо покорить и освободить православную землю от его поганых ног. Спорили долго, шумно, визгливо, с азартом. Доказывали, что война нынче осенью обязательно закончится, так как сам царь пошел на войну и все русское воинство повел в бой, а сам пошел впереди всех и безо всякого оружия, с одним только единственным скипетром. А еще кто-то утверждал, что будто бы впереди русского войска идет святой великомученик Иван Воин с Михаилом Архангелом и оба мечами огненными путь для русской армии расчищают. Спор тянулся до самого позднего утра и только перед обедом успокоился, затих, и люди развязали мешочки и корзинки с провизией и начали закусывать.
Я слез с телеги, хотел было умыться из кувшина, но смотрю, недалеко от меня, между телег и лошадей, протопоп пробирается, из медной растительности бороды большими черными глазами ощупывает подводы и пространства между ними, черную, сверкающую от солнца серебром рясу придерживает, улыбается в бороду. А когда он поравнялся с телегой Евстигнея, Евстигней соскочил с нее и, отстранив меня с пути, подошел к нему и попросил благословения.
– Батя, – сказал он хриплым голосом с перепоя и дыхнул ему в лицо перегаром, – благословите! – и сделал ладони совочком и наклонил голову.
– Во имя отца и сына… Желаю тебе побить супостата… – и сунул ему для поцелуя жирную руку.
– А мне, батя, желательно остаться.
Протопоп быстро отдернул руку, вытер ее об рясу и взглянул на него злыми глазами:
– Ты что, чадо?
– Остаться желаю, – ответил твердо Евстигней.
– Это как? – вонзил он в него глаза.
– А так, – проговорил Евстигней, – не по душе мне война и не по евангелию.
Протопоп осмотрел презрительно его высокую фигуру, нахмурился, потом ехидно ухмыльнулся в бороду.
– По всему видно, что ты скверный мужичишка и не достоин благословения. – И пошел от Евстигнея в сторону. – Ты его жена будешь? – обратился он на ходу к Матрене.
– Жена буду, батюшка, – вздохнула Матрена и дернулась к нему.
– Пропащий у тебя, бабочка, мужик, как есть пропащий. Не даст господь милости, не даст.
Матрена всплакнула, луковица ее носа на длинном лице густо покраснела, из глаз поползли слезы.
– Я ему, батюшка, и то говорю: все служат, милость получают, и господь не без милости.
– Правильно, бабочка, правильно говоришь, – похвалил он и тихой утиной походкой пошел через площадь.
– Вот видите, Ананий Андреевич, – обратилась с обидой ко мне жена Евстигнея, – до чего он, мужик-то мой, образ человеческий потерял. Что я буду делать за таким мужем… – завыла было она, но, взглянув на подошедшего Лаврентия, прикусила язык, вытерла передником глаза и повернулась к нему спиной.
– Рогыль, – буркнул сердито Евстигней и хотел было снова взобраться на телегу.
– Дружок, ты куда? – остановил его Лаврентий. – Давай-ка немного дернем, а потом пойдем в воинское присутствие: там уже, как говорят, принимать начали… – и Лаврентий вы-тащил бутылку желтой жидкости из кармана.
V
В десять часов утра я с Евстигнеем и Лаврентием пошел на комиссию. Около воинского присутствия народу было очень много, и все бородачи, одногодки мне и Евстигнею, и все с бабами. Первой будут, как объявил нам волостной писарь, принимать нашу волость. Пришел старшина, посмотрел на нас сивыми мышиными глазками, грузно потоптался около, поговорил секретно с писарем, потом бегом побежал наверх, на второй этаж, где должны принимать мобилизованных. Побыл старшина наверху не особенно долго и тут же скатился обратно, а когда скатился с лестницы, остановился, еще потоптался около нас, окинул свою волость серьезным взглядом, подумал, поддернул ладонями грузный, обвислый живот, потом громким, но приятным голоском крикнул: «Ребята, прошу не отлучаться!»
Кто-то засмеялся:
– Хороши ребята, в отцы тебе годятся.
Старшина вспыхнул, смутился было, но тут же гордо вскинул голову:
– Как же мне вас назвать-то, а?
На это ему никто не ответил, да и старшина не счел больше нужным задерживать на этом себя. Он быстро отвернулся от толпы мобилизованных, снова заговорил с писарем, который держал перед собой список и читал ему громким голосом; а когда писарь окончил читать список, старшина опять повернулся к нам, вскинул голову, подстриженную в скобку, отчего она была похожа на горшок, проговорил:
– Прошу строиться по списку.
Щеголеватый писарь сделал перекличку. Через каких-нибудь двадцать минут все стояли по списку, смотрели из-за спин друг друга вперед, на лестницу, и гадали о своей судьбе: возьмут или не возьмут, – так как у каждого в эти дни нашлись болезни, всем хотелось остаться дома.
– Пожалуйте за мною! – крикнул старшина и пошел с писарем впереди нас по крутой и грязной лестнице на второй этаж.
На старшине была поддевка из синего сукна, которая красиво обтягивала его толстое тело, с бабьим задом и брюшком. Когда мы вошли в приемную – в большое помещение, заставленное скамейками для раздевания, он сказал:
– Первые по списку сразу раздевайтесь.
Стали раздеваться. Разделся и я. Ждать пришлось не особенно долго: через несколько минут пошла наша волость к приемному столу. Призывники из докторской как пробки вылетали, красные, бледные, словно из горячей бани.
– Ну как? – спрашивали любопытные шепотом побывавших у приемного стола.
Но побывавшие проходили быстро, хмуро, трясущимися руками принимались одеваться. Только один, когда его спросили, остановился, посмотрел на голых людей, посмотрел так, как будто он голых от роду своей жизни не видел, пожевал губами, потом, сделав свирепое лицо, выпалил:
– Бреют, за милую душу! – и пошел облегченно к своему белью.
Тут я должен сознаться: я все время чувствовал себя спокойно, был вполне уверен, что меня не возьмут, и благодаря такой уверенности у меня было великолепное настроение. Такое настроение создавала грыжа в левом паху и очень маленький рост, которым по злобе наделила меня природа, – родители были выше среднего, и они были не виноваты в моем несчастии; вот за этот самый рост и прозвали меня на деревне ребята, а за ними и мужики «аршин с шапкой».
– Жмуркин! Мух ловишь, что ли! – крикнул приглушенно и сердито старшина.
Я быстро опомнился и нырнул в приемную комнату. За большим зеленым столом сидело несколько тучных человек, и только один замешался в их среду тощий и был похож на жену Евстигнея, и я, глядя на него, мысленно выругался: «Рогыль».
В этом человеке я узнал князя Голицына. Все, за исключением троих, были в военных мундирах.
– Как фамилия? – спросил хриплым голосом военный с жирными отвислыми щеками, и из темно-красного куска мяса впились в меня серые глазки.
– Жмуркин, – прикинувшись дурковатым, ответил я громко и немного испугался, а главное – не узнал своего голоса, так как он из тенора перешел почему-то в бас.
– Жмуркин? – переспросил военный и быстрее забегал по мне глазками.
– Ананий Жмуркин, – подтвердил я и ближе подошел к столу.
– Стой! Ну, Жмуркин, говори, чем болен? – поднимаясь от угла стола и подходя ко мне, спросил седой господин в штатском.
– Годен, чего там! – бросил равнодушно военный и отвел от меня серые глазки в другую сторону, на человека, сидящего над грудой списков.
– Я же болен, – сказал я и больше испугался своего голоса.
– Чем? – спросил доктор и взял меня за нос, да так, как берут лошадей, когда им глядят в зубы, чтоб узнать, сколько лет. – Ну?
– Грыжа в левом… Голова… и…
– Ладно, ладно. Ну-ка, присядь. Надуйся.
– Только осторожнее, – засмеялся князь Голицын, – не испорть нам воздух, а то он и так здесь крепок от вашего брата.
Я все это проделал охотно, с полной верой, что меня оставят и отпустят; как негодного, на все четыре стороны, но этого не случилось, и доктор повторил слова воинского начальника:
– Годен. Пошел вон!
Я с наигранной наивностью возразил:
– Она, грыжа-то, очень болит, в особенности…
– Болит? – спросил доктор и, поиграв губами, переглянулся с воинским начальником. – Ничего, голубчик, царю ведь идешь служить, а не кому-нибудь, – этим должен гордиться. Пошел! – и похлопал меня по голому плечу.
Я как ошпаренный вылетел из приемной, а главное – все в глазах моих кружилось, ходило ходуном. Когда я вышел, меня окружили мобилизованные и стали было поздравлять:
– Жмуркин, поздравляем!
– Ну как, братец, дело-то? Чистая? Вот хорошо таким родиться!
– Иду, – выдохнул я и бросился одеваться.
– Идешь? Куда? К бабе под подол?
Я молчал. У меня дрожали руки, подбородок и давно шевелилась и топорщилась бороденка. Я никак не мог одеться.
– Взяли? – спросил один мужик, огромного роста, с большой рыжей бородой.
– Взяли, взяли! – передразнил Евстигней. – Разве ты не видишь: мужика лихоманка трясет, а ты, как сорока, затвердил свое – взяли да взяли, точно тебе легче от этого будет.
– Мне-то что, ежели бы меня оставили, – огрызнулся мужик и отошел в сторону.
– Обожди, и тебя возьмут, – бросил Евстигней и дико заорал:
Голова ты моя, голова…
На крик выбежал старшина, приказал его вывести вон, посадить в темную. Конвойные выводили Евстигнея; Евстигней ломался и все так же орал:
Голова ты моя, голова…
Когда Евстигнея увели, я оделся и вышел на лестницу, где опять меня засыпали вопросами: «Неужели взяли?» – «Да не может быть, куда таких?» – «Взяли», – ответил я и постарался как можно скорее сбежать с лестницы. «Скажи пожалуйста, взяли! Да куда же это они тебя, такого, денут, а? Разве в семнадцатую роту?» – «Ты что, ошалел? Разве есть семнадцатая рота?» – спорили за моей спиной, когда я скатывался с лестницы. «Для него специально создадут», – ответил кто-то из толпы. «Думаешь?» – «Ну конечно!» Раздался громкий смех, который заглушил слова, да и я был уже внизу и больше не слыхал насмешек над собой.
Взяли и Евстигнея.
Жена встретила его около входа, на улице. На лице у нее была фальшь: слезы, а за слезами довольная, еле скрываемая улыбка.
– Ну как, мужик? – спросила она и пошла рядом.
– Готов, – ответил он. – Так получилось, как тебе хотелось.
– Да что ты! – заголосила наигранно женщина. – А я думала, что не возьмут.
– Полно тебе, Матрена, орать-то. Ты же ведь сама этого желала, – удивился Евстигней и склонился к моему уху, шепнул: – Рогыль, а смотри, как прикидывается, и про тринадцать целковых позабыла.
– Ну, ничего, – согласилась она и вытерла платком сухие глаза, – все идут: и Егор, и Петр, и Нефед, и Сергей, – а почему и тебе не пойти?
– Видишь, иду, – бросил сухо Евстигней.
– Бог даст, вернешься: он, батюшка, не без милости, за труды наградит.
– Конечно, – согласился Евстигней и пошел к телеге.
Жена еле поспевала за ним, но он старался быть впереди, так как она была так противна ему в этот момент, что даже не знал, куда от нее деться.
Когда мы подошли к площади и стали было ее переходить, то опять Евстигнею попался протопоп. На этот раз я видел его насмешливый взгляд, которым он ощупывал, как мне казалось, всего Евстигнея, но этого мало: он повернул в Другую сторону и перешел дорогу.
– Тьфу ты черт, – выругался Евстигней, сплюнул и зашагал было еще быстрее.
– Ты что это, молодец, али взяли? – крикнул какой-то мужик с богобоязненной бородой.
Мы посмотрели в его сторону: это был Филипп Пескарь, из соседней деревни. Он сидел на телеге, болтал длинными, в лаптях ногами менаду передними и задними колесами и раскуривал трубку.
– Али взяли? – глядя на Евстигнея, крикнул он вторично и оскалил из бороды желтые зубы.
– Нет, – соврал Евстигней и крикнул громче, чтоб слышал протопоп. – Протопоп дорогу перешел…
– Пустяки, – ответил Пескарь, – а ты поглядь местечко ниже пупа – и все пройдет.
– И вправду, – хохотнул Евстигней.
Засмеялся и я.
После приема, на третий день, погнали нас на вокзал грузить в теплушки, как коров на зарез. Бабы бежали за нами, помогали тащить сумки с ржаными пышками и пирогами. Бабы торопились как можно скорее проводить мужей, чтобы зажить свободно и пользоваться деньгами, которые будут выдавать за мобилизованных, – впрочем, это мне только так казалось: я не верил в это. На станции был уже готов поезд, и стоял он на второй платформе. Провожать пришло много постороннего народу. Лущили семечки. Где-то бренчала балалайка. Где-то пиликала робко гармонь. Где-то спорили. Где-то плакали и целовались. Но перед отходом поезда, этак за полчаса, заревел военный оркестр и все заглушил своими звуками. От рева заколыхалась на перроне публика; быстрее заходила взад и вперед, желая подладиться в такт музыке. В вагоны погружено было по сорок человек в каждый, и в этих вагонах пели «Ермака», «Варяга», «Последний нонешний денечек», ругались матерно, плакали, и тоже крепко и с «матерью»; пели как попало и кто во что горазд, кто в лес, кто по дрова, но, нужно сознаться, выходило неплохо – жалобно, чувствительно, и многих прошибало до слез, даже у меня они в горле зашебуршили, и я их едва удержал, чтобы не брызнули из глаз.
– Да-а-а, – вздохнул Евстигней многозначительно и отвернулся от жены, чтоб не видеть лица. Душу русский мужик имеет большую, и она в чем угодно скажется, даже скажется в скрипе колес, когда телега лениво катится по дороге или по городской мостовой.
Бабы не плакали: это не четырнадцатый год; это тогда надрывались до полусмерти; теперь попривыкли, смирились, да и поумнели, а некоторые даже довольны, что мужиков на фронт берут: царь деньгу за них гонит, да воли побольше будет… Через час поезд должен тронуться. Перед отходом жена положила голову на правое плечо Евстигнея, стоявшего рядом со мной, ласково заворковала в утешение:
– А ты, мужик, береги себя. – И добавила: – Береженого и бог бережет.
– Прощай, – сказал сухо Евстигней и осторожно оттолкнул жену и полез в вагон.
Раздался свисток, и поезд тронулся.
Кто-то истошно прокричал:
– Прощайте, родимые!
На перроне, в пестрой толпе, мелькнуло заплаканное знакомое лицо девушки в простеньком голубеньком платье. Я узнал ее, это была Серафима Черемина; она, рванувшись к вагонам, замерла и махала рукой кому-то севшему в вагон.
«Неужели она пришла проводить Лаврентия, попрощаться с ним? – подумал я про себя. – Да, да, конечно, с ним».
Поезд набирал быстроту, перрон с кучками народа медленно отходил, уменьшаясь: залязгали, заворковали железным бормотанием буфера, залопотали колеса:
– Та-та-та. Та-та-та.
Мне в эту минуту показалось, что вагоны смеются надо мной:
«Аршин с шапкой. Аршин с шапкой».
– Прощай, родной город, – прошептал я и стал взбираться на нары и под разговор, постукиванье колес и под жалобно-слезливый «Последний нонешний денечек» закрыл глаза и крепко припал головой к замызганным доскам.
VI
В казарме пришлось пробыть недолго – двадцать один день; на двадцать второй отправиться с маршевой ротой на фронт. За эти три недели в казарме ничего особенного не случилось, если не считать того, как ротный избил Евстигнея и заставил его простоять шесть часов на припеке солнца, да одного письма, полученного Евстигнеем от Матрены. Отстояв последние два часа под винтовкой, мой земляк, измученный физически и нравственно подавленный, подошел ко мне в часы обеденного перерыва, сел на скамейку, вздохнул и, опустив голову, медленно заговорил:
– В жизни, на протяжении тридцати шести лет, меня никто не бил, можно сказать, несмотря на то, что я в детстве был отчаянный шалун, никто меня пальцем не тронул, не только чтобы бить, а тут избил ротный командир, но мало того, что избил, – накричал на всю казарму: «Ты, говорит, сволочь, царский хлеб зря пришел сюда жрать! Я тебе покажу, растуды твою мать, как без пользы жрать! Я тебе…» А я, Ананий Андреевич, катаюсь по бараку, между нар, как раз в проходе, по земляному полу, охаю от ударов его сапог, а он меня то в один бок поддаст, то в другой саданет. Бил здорово, орал еще пуще: как будто я добровольно пришел царский хлеб жрать. На кой он мне кляп сдался! У меня своего хватало, а ежели не хватало – добывал. Бил он меня, можно сказать, за пустяки: не мог хорошо прыгать по кочкам, – но больше за то, что честь не так, как нужно, отдал ему. После побоев все товарищи по роте меня очень жалели, и многие советовали пожаловаться батальонному. Один даже прямо мне на ухо шепнул:
«Как только пойдет с нами на фронт – пристрелим». «Черта два, пойдет, – засмеялся другой, – он сифилис себе привил, чтобы не идти на войну, – и снова засмеялся. – А ты вот, Евстигней, лучше пожалуйся, это вернее будет, и ему, возможно, нагорит как следует».
«Ничего не нагорит, – огрызнулся первый, который собирался подстрелить, как только ротный пойдет на фронт, – ты думаешь, им нашего брата жалко?»
«А ты думаешь, что нет?»
«Ну да нет. Мало ли нашего брата».
«Это как?»
«А так!»
«Это как это так? А где же, по-твоему, браток, правда-то, а?»
Тут я, Ананий Андреевич, не выдержал, и меня их жалость и советы, в особенности когда помянули про правду, вывели из терпения, и я сказал:
«Оставьте, братцы, правду дергать: правды давно на свете нет, а вы с правдой», – и пошел от них на свое логово – на соломенный мат, так назывались у нас щиты из соломы, которые служили нам матрацами. Эх, эта правда! Она очень дорого мне досталась еще в пятом году, когда я плотничать пошел в один мужской монастырь и там, после работы, за пьянкой, отыскивая правду, на глазах у товарищей подошел к портрету царя и выколол ему гвоздем глаза, а когда это озорное и, нужно сказать, преглупое дело сделал, крикнул на всю келью:
«Вот под какой балдой правда-то сидит! Видите?»
От моего озорства все товарищи даже протрезвились – и тут же шайки в охапку и врассыпную, кто куда, а я да еще какой-то монах остались сидеть в келье, что нам была отведена для жилья. Потом ушел монах, и меня через два дня арестовали и чуть было не повесили сушиться и наверное бы повесили, ежели бы я не заделался сумасшедшим, – заделаться сумасшедшим меня научил мой хозяин, у которого я работал… Вот с этих пор я и бросил правду-то эту самую искать, да и начихал бы я на вашу правду-то, а то еще хуже что сделал бы. Так я и не пошел, Ананий Андреевич, жаловаться на ротного, что он меня бесчеловечно, можно сказать, избил, даже по его приказанию шесть часов – каждый день после утреннего занятия по два часа – отстоял с полной боевой выкладкой. Все бы, конечно, это было ничего, и я наверно бы вынес, но проклятая грыжа ужасно мучила и не давала после этого несколько ночей спать, так-то вот. Письмо жены тоже ничего хорошего не принесло, а также и плохого. В своем письме она писала, что ей солдатских выдали на нее и на троих ребят 13 целковых и 71 копейку, и живет они хорошо и особенно пока не скучает. Кроме этого, сообщила, что все солдатки почти взяли к себе пленных австрияков на рабочую пору. «Ежели, – пишет она в письме, – ты посоветуешь, и я возьму, а ежели нет, то и так обойдусь, хотя ребята малые и с ними мне поуправиться будет очень трудно». Потом написала, что урожай хороший, погода стоит великолепная, и о том, что на днях получили из города «таксу» на хлеб и мужики очень недовольно встретили эту «таксу». Потом написала про разные товары, которые стали очень дороги:
«…ситец 34 копейки, соль 80 копеек пуд, керосин очень повздорожал, к другим товарам, любезный мой муженек, никак не подступайся».
Когда он прочитал это письмо мне и сказал, что мне передают поклон, он хрипло засмеялся:
– Австрияка Рогыль захотела.
– Она не взяла, – возразил я и посмотрел на Евстигнея.
– Бросьте дурить-то! – крикнул он. – Я очень рад, что мы вместе с тобой попали в маршевый список.
Он свернул письмо, положил его в записную книжку. Вечером читали список. Читали все с наибольшим вниманием по два, по три раза, все старались как можно лучше вникнуть в строчки, в слова, и каждый думал: верно ли, что это его фамилия? Евстигней сказал:
– Хорошо.
– Что хорошо? – повернулся я к нему.
– Если тебя убьют, я напишу твоей сестре: убили, мол, и схоронили там-то, и крест поставили на славу.
– Дурак, – огрызнулся я и добавил: – Я совсем не хочу умирать, – и пошел от него к себе на нары. А он, улыбаясь, вышел на улицу и запел: «Голова ты моя, голова…»
На другой день утром нам выдали обмундирование, а еще через день одели в походную форму, выстроили перед каменными казармами на плацу. Выстроили в восемь утра и ждали начальство до двенадцати часов. В это время погода была жаркая, и с нас черным лаком стекал пот, размазывался по лицам. Но вот показалось начальство, и нам скомандовали:
– Смирно! Равнение направо!
Мы вытянулись, повернули головы направо и замерли: подъезжал батальонный, и к нему навстречу побежали ротные, вытягиваясь в струнку и придерживая шашки.
– Здрав-жам-ваш-ство! – гаркнули мы уныло, точно из-под стога загноившегося сена.
– Плохо. Здороваться не умеете, – сделал замечание батальонный.
Прапорщики сконфуженно вытянулись; некоторые отскочили в сторону. Наш ротный был красен как рак, и на его оттопыренной губе прыгали пузырьки слюны, и, как воробьиный хвост, дергался клочок острой бороденки. Потом батальонный стал говорить речь. Говорил, как передавали солдаты, речь одного и того же содержания каждой маршевой роте.
– Бгатцы, – не выговаривая «р», начал он, – наша година пегеживает тяжелые вгемена, а упогный вгаг все больше и больше втоггается в пгеделы пгавославной земли и попигает своими погаными ногами вегу и…
Ветер свистел между нами; и мы безразлично, не слушая батальонного, смотрели на небо, на облака, мимо казарм, куда попало, но только не на батальонного, думали о совершенно другом, и никому не нужна была в этот момент и вера и родина. А батальонный говорил:
– Бгатцы, войны никогда не нужно бояться: убить могут и не на войне. Я знал одного генегала, котогый пговоевал всю японскую войну, бывал несколько газ под пулями, может быть, не одну убили под ним лошадь, и остался жив и здогов. Этот же генегал участвовал в молодости в тугецкой войне вместе с знаменитым Скобелевым и тоже остался невгедимым. Так вот, бгатцы, на все судьба и бог: если бог не допустит, то вгажья пуля не коснется вас, и вы останетесь живы и невгедимы. Вы, бгатцы, хогошо, навегное, помните нагодную пословицу: «Кто бога помнит, а цагя почитает, тот на огне не гогит и в воде не тонет». Поняли, бгатцы? Тепегь я вам, бгатцы, скажу опять об этом генегале: его убила в Петегбугге упавшая вывеска. Вот что значит, бгатцы, судьба! А судьба есть у каждого человека, а потому войны бояться не нужно, а нужно быть смелым, хгабгым и бить дегзкого вгага, котогый попигает нашу годину, бесчестит ваши семьи. – И, кончая речь, закричал: – Уггаа!..
Ему рассеянно, не торопясь, ответили: «Урурраа!» Потом обошел нас доктор, который спрашивал: «Нет ли больных?» Но ему никто не ответил, так как все хорошо знали, что все это бесполезно – канитель одна. После опроса нас погнали на вокзал, и там с музыкой «Боже, царя храни» посадили в теплушки, и к двери каждого вагона поставили конвойного, чтобы мы не разбежались.
VII
Не доехав верст тридцать до Двинска, наш поезд остановился на одной большой станции. Станция было загромождена воинскими поездами, которые шли то туда, то обратно. Нас поставили на запасный путь. Маршевики стали выпрыгивать из теплушек и тут же приседать около вагона для большой нужды, которая приперла во время пути. Я тоже выпрыгнул из теплушки и стал прохаживаться около своего поезда. Ко мне подошел Евстигней – он был в другом вагоне, – сказал:
– Всё ближе.
– Да, – ответил я, – всё ближе, а скоро будем там.
– Ты слышишь? – вскинув голову кверху, спросил Евстигней.
– Что? – Я прислушался: далекие, глухие раскаты лениво докатывались до слуха. Я взглянул на небо: оно было бледно-зеленоватего цвета, безоблачно, и только далеко, на высоких холмах Псковской губернии, сидели верхом темно-белые облака и дымились. – Ты думаешь, это там?
– Да, это гул орудий, – ответил Евстигней.
И мы оба замолчали, молча пошли к паровозу своего поезда по свободному полотну. Пока мы шли, прошло несколько поездов с пленными, ранеными, – это обратно в Россию, а из России – со снарядами, с здоровыми солдатами и с припасами. Через несколько минут подошел оттуда, как нам сказали, с позиции, поезд с солдатами, которые на ходу стали выскакивать из товарных вагонов и, как голодные крысы, зашныряли между вагонов и под вагонами, гремя котелками. Все они были грязны, смуглы, как будто были покрыты коричневым лаком, блестели на солнце. Когда двое пробегали мимо нас, Евстигней остановил одного и спросил:
– С позиции, земляк?
Солдат остановился, тупо посмотрел, подумал, поискал что-то в своей памяти, как будто что-то он там потерял, потом как-то внезапно оживился, посмотрел на нас, улыбнулся и визгливо выкрикнул:
– Братцы, дайте курнуть!
Евстигней вынул из кармана цветной кисет и подал солдату. Солдат, получив в свои руки кисет, еще улыбнулся, стал лихорадочно рвать бумагу и закручивать цигарку. В это время, когда он закручивал цигарку, Евстигней полюбопытствовал:
– Ну как там, трудно?
Солдат вскинул голову от цигарки и, не дрогнув ни одним мускулом лица, ответил нутряным голосом:
– Ох и тяжело, братцы! – И, подавая обратно кисет Евстигнею, жалобно пояснил: – Но приведи господь! Братец, – спохватился он внезапно, когда кисет перешел в руки Евстигней и он уже собирался его положить в карман, – дай, ради Христа, табачку!
– Братец, табачок береги! – визгливо выкрикнул Евстигнею, уходя от нас, а из-под вагона поправился: – Ох он и сладок там, на позиции-то! А ежели нет, то лучше умри – ни одна сволочь не даст!
– Вот тебе и на: ни одна сволочь не даст, – проговорил Евстигней.
Оказалось, что наш поезд простоит очень долго, пойдет только вечером, когда сядет солнце: днями поезда к Двинску очень редко когда идут, разве только в момент большой нужды, – все больше вечерами и по ночам. Причина этому – немецкие аэропланы, которые свободно летают над городом, над железной дорогой и сбрасывают бомбы. Наши маршевики было разлетелись в помещение вокзала, но их грубо повернули обратно, так как оба зала – первого и третьего класса – были набиты офицерами. Я и Евстигней тоже повернули обратно и пошли бродить около станции. Недалеко от станции росла картошка, и наши маршевики выглядывали из ее высокой и сочной ботвы. Один из сидевших в ботве, пряча голову в ботву, громким голосом говорил:
– Ничего, ребята, не будет, а полосуй ее, картошку-то, – она, говорят, начальника станции.
– Конечно, ничего не будет, – отвечал ему кто-то и тоже из ботвы. – Люди, можно сказать, кровь едут проливать, а он ишь, сукин сын, плантации разводит. Дери ее, ребята, как следует.
Евстигней тоже полез в борозду, но ввиду огромного роста, своей неуклюжести никак не мог устроиться и спрятаться в борозде, а потому ему с остервенением крикнули:
– Черт длинный, а ты пригнись, пригнись!
Евстигней длинно растянулся в борозде и стал выкапывать картошку. Я стоял и смотрел по сторонам, чтобы внезапно не нагрянули и не застали на месте преступления. Воровство сошло благополучно, и мы через каких-нибудь двадцать минут варили картофель в кустах недалеко от станции. Все это прошло бы ничего, ежели бы наши маршевики не стибрили трех гусей у того же начальника станции. Оказалось, что, когда наши «солдатики» охорашивались около гусей, жена начальника смотрела в окно и кричала, но так как она была на третьем этаже, то наши «солдатики», не расслышав ее голоса, схватили гусей в шинели – и айда, и пока она спустилась с лестницы – ни «солдатиков», ни гусей. Долго металась жена начальника станции, долго охала и только тогда опомнилась, когда сбегала на картошку и, всплеснув там руками, бросилась к начальству, а через несколько минут в сопровождении ротных командиров к нам в кусты.
– Всю картошку содрали, – выла она, – трех лучших гусей украли…





