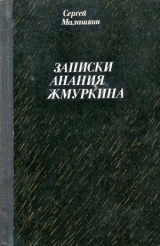
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
– Если так, ваше превосходительство, то придется послужить отечеству, – ответил я лысому старичку и заглянул ему в глаза, похожие по цвету на мокрую мышиную шерсть.
– Молодец, – просипел седенький доктор, – отечеству всегда служить приятно.
– Конечно, – согласился простодушно я. – Вы, ваше превосходительство, эту приятность чувствуете.
– Гм, – гмыкнул генерал и грозно уставился взглядом мне в лицо.
– Отечеству служить очень трудно, а надо, – выдержав пристальный и грозный взгляд генерала, поправился я громко. – Что ж, послужу ему!
Генерал со звездой на груди отвел взгляд от меня и откинулся к спинке кресла, потом опять подался вперед и что-то шепнул своему соседу, высокому, с длинным лицом и седыми усами полковнику. Тот, выслушав генерала, улыбнулся и слегка кивнул головой, как бы говоря: «Так, так, ваше превосходительство».
– Послужите, послужите, голубчик, – проговорил господин с черными баками, – за государем служба не пропадет.
– Не знаю, – наивно вздохнул я. – Постараюсь, ваше степенство, чтобы моя служба не пропала – была полезна родине.
Физиономия лысого генерала опять набухла злобой, стала малиновой. Он откинулся назад, рыгнул:
– Государь – глава отечества!
– А земля, по которой я хожу? – спросил я простодушно, с улыбкой. – По ней и государь ходит, значит, она… – Я был зол в эту минуту не меньше генерала, и мне до болезненности хотелось говорить колкости, издеваться.
Члены комиссии переглянулись. Лица их передернулись и стали как бы расщепленными.
– Разве земля в отдельности, без государя, не может быть мне отечеством? – резанул я.
Под лысым генералом, длиннолицым полковником и господином с черными баками заскрипели кресла. Выражения их глаз стали мутны, потом колючи, как ножи, вот-вот пронижут меня насквозь. Я перестал улыбаться и стал внимательно наблюдать за ними.
«Что они сделают мне? Ничего, – думал я. – Посадят в тюрьму? Пускай сажают. Тюрьма все же лучше фронта… Могут послать на фронт? Не страшно. Они и так пошлют».
Генерал со звездой и генерал с лысиной не выдержали моего насмешливого взгляда, опустили глаза, засопели и постучали пальцами по краю стола, выражая этим гнев и презрение ко мне. Я следил, как их лица сделались багровыми. Сейчас разразятся бранью. Господин с черными баками наклонился к седенькому старичку доктору и что-то прошамкал ему, тот ухмыльнулся, поморгал глазками и, бросив на меня короткий взгляд, зевнул.
– Ваше превосходительство, – обратилась Ерофеева к лысому генералу, – позвольте мне сказать несколько слов об этом солдатике. Солдат Жмуркин у нас в лазарете замечательная личность…
– Вижу. Это в каком же смысле? – взглянув на Ерофееву, спросил настороженно генерал.
– Жмуркин читал Канта, и не один раз, – пояснила серьезным тоном Ерофеева, и эта добрая женщина остановила внимательный взгляд на мне.
В ее добрых и материнских глазах я прочел: «Помолчи, не возражай этим людям… О нашем лазарете и так говорят как о рассаднике крамолы».
Кровь отлила от лица лысого генерала, нижняя губа отвисла от удивления; он улыбнулся.
– Канта? Эммануила Канта? – Генерал осклабился больше и окинул удивленно-язвительным взглядом меня. – Эммануила Канта? – повторил он громко, с визгом.
– Так точно, ваше превосходительство, – отчеканил я. – «Критику чистого разума» и другие работы этого философа!
– Любопытно! – проскрежетал генерал со звездой. – Любопытно! Ха-ха! – хохотнул он и лег туловищем на стол, вытянул тонкие губы и пошевелил ими, словно он поймал леденец и стал обсасывать его.
Господин с черными баками фыркнул. Смущенно улыбаясь, Ерофеева поглядывала на меня. Я заметил, что она была довольна моим ответом председателю комиссии. Хихикал и седенький доктор, потирая морщинистые руки.
– Канта? Эммануила Канта? Ха-ха! – дребезжал, брызгая слюной, седой генерал, отвалившись к спинке кресла.
– Ха-ха! – вторил ему господин с черными баками. – Что ж, это удивительно, черт возьми! Ха-ха! Мужик и «Критика чистого разума»! Ха-ха!
– Хе-хе! – припав костлявой грудью к столу, заливался тоненьким голоском, вернее писком, седенький старичок доктор.
– Ох! – выдохнул лысый генерал, председатель комиссии, и провел ладонью по отвисшему подбородку, поправил воротник мундира и проскрежетал: – Годен! Иди, голубчик!
Я встретился взглядом с серыми глазами полковника. Он приветливо мне улыбнулся, как бы сказал: «Генералы не только стареют, но и сильно глупеют. Иди и не сердись на них». Я вышел. Мне вслед катился хохот, хохот громкий, чревный. Сестра поднялась и, вскинув удивленные глаза на меня, с испугом спросила:
– Отморозил что-нибудь им, Жмуркин?
– Обождите, сестрица, посылать к ним. Пусть они нахохочутся. Пошлите очередного солдата к ним, когда станет тихо в кабинете.
Но сестра не послушалась меня и направила Прокопочкина к ним. Прокопочкин открыл дверь.
– Нельзя! – рявкнул кто-то из членов комиссии на него.
Прокопочкин закрыл поспешно дверь, отступил. В кабинете все еще хохотали, повизгивали. Я вышел из приемной и поднялся на свой этаж, вошел в палату.
– Твоя на фронт? – встретил Мени Ямалетдинов.
Я утвердительно кивнул головой.
– Моя рад, что тебя, Ананий Андреевич, опять на фронт, – сказал Ямалетдинов.
– И я рад, – подхватил монашек. – Если тебя там убьют, то одним безбожником станет меньше на Руси.
Я не взглянул на Гавриила. Ну что я мог возразить ему? Да и нужно ли ему возражать? Мени Ямалетдинов закряхтел, бросил:
– Душа твоя зла, Любимов.
Вернулись с комиссии Игнат Лухманов, Синюков и Прокопочкин. Последний – по чистой домой. Игнат Лухманов и Синюков – в запасной батальон. Явиться в запасной батальон мы должны завтра в два часа. Остаток дня прошел у нас в хлопотах: складывали солдатские пожитки в вещевые мешки.
Утром на другой день выдали нам документы, и мы простились с сестрами Смирновой, Ниной Порфирьевной, с обеими Гогельбоген и Пшибышевской, с врачом и главным доктором Ерофеевой, – они сердечно проводили нас.
Взвалив тощие мешки на спины, мы вышли из лазарета имени короля бельгийского Альберта.
Игнат Лухманов остановил первого попавшегося нам извозчика, нанял его для Прокопочкина. Я, Синюков и Игнат Денисович усадили его в сани, подали ему в ноги вещи – большой мешок и, по очереди поцеловав друга, попрощались с ним.
Прокопочкин поехал к Успенскому, на Звенигородскую улицу.
Мы медленно зашагали в казармы, к Нарвской заставе.
Снежок приятно похрустывал под ногами.
Утро стояло солнечное, лицо освежал легкий мороз.
1928—1932
О СЕРГЕЕ МАЛАШКИНЕ И ЭТОЙ КНИГЕ
1
Собственная биография писателя Сергея Ивановича Малашкина растворена в биографии народа, вместе с которым С. Малашкин участвовал во всех поворотных событиях века. Он родился в 1888 году в деревне Хомяково Ефремовского уезда Тульской губернии, в бедной батрацкой семье. Он помнит страшный голод 1892 года, охвативший пол-России, и Льва Толстого, приехавшего устраивать столовые для крестьян в родном Хомякове. Баррикадные бои пятого года в Москве, в которых был ранен полицейским. Ссылку на Вологодщину. Народный университет Шанявского в Москве, на Миусах, где учился вместе с Есениным и Ширяевцем. Окопы первой мировой войны – «по ту сторону Двинска», петербургский госпиталь, зарево Октября.
Профессиональный революционер, большевик, Малашкин заведовал губтопом в Нижнем Новгороде, работал ответственным инструктором ЦК партии. Встречался с Лениным. Сборник его стихов «Мускулы» с авторской дарственной надписью хранится в кремлевском кабинете вождя. Эта книжка, появившаяся в 1918 году в Нижнем Новгороде, была первой значительной вехой долгого творческого пути. О Малашкине написал Брюсов, отметивший в журнале «Печать и революция», что поэту «стихом Верхарна и Уитмена удалось резко выявить пролетарские настроения».
Сам Малашкин сказал о своем творчестве (сб. «Пролетарские писатели». М., 1924):
«Писать стал стихи в 1915 году, а печататься в конце 1916 года в «Нижегородском листке». Серьезно искусству не уделял себя до 1920 года: приходилось быть на более важном фронте. Только с 1920 года начинаю работать исключительно в области искусства».
Именно в 20-е годы появляется ряд значительных произведений Малашкина, обративших на себя внимание читателей и критики. Правда, то были не стихи, а повести и рассказы: «Больной человек», «Луна с правой стороны», «Записки Анания Жмуркина», «Сочинение Евлампия Завалишина о народном комиссаре и нашем времени», «Хроника одной жизни», сборник рассказов «Горячее дыхание».
2
Сейчас, когда отшумели диспуты 30-х годов в комсомольских ячейках и пожелтели газетные листы, где печатались критические, часто несправедливо разносные статьи и рецензии, можно уже спокойно подойти к оценке малашкинских произведений о «больных людях» – комиссаре Завулонове («Больной человек») и комсомолке Тане Аристарховой («Луна с правой стороны»). Спору нет, написаны эти повести неровно, прозу порою теснит публицистика, однако нерв эпохи, ее важные «болевые точки» в них, безусловно, затронуты.
Что касается Завулонова, то тип этот в литературе 20-х годов представлен достаточно широко. Нэп был ударом по абстрактной революционности и отразился в литературе длинным списком вчерашних бойцов, выбитых из колеи сложностями мирной жизни («Гадюка» и «Голубые города» А. Толстого, «Вор» Л. Леонова, «Ватага» В. Шишкова и др.). В ряду этих героев оказался и малашкинский Завулонов, который считал, что прошлое возвращается назад, что оживление частного капитала ведет к гибели революции; в помрачении сознания он кончает с собой.
Повесть «Луна с правой стороны» также появилась в ряду острых произведений на морально-бытовые темы («Без черемухи» П. Романова, «Собачий переулок» Л. Гумилевского, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева и др.), вызвавших шумные дискуссии по всей стране. В этой повести чистая деревенская девушка Таня Аристархова попадает в тенета Исайки Чужачка, который прикрывает свой принципиальный аморализм «левыми» цитатами из Троцкого. Ее прежние, светлые представления о любви, морали, семье рушатся, она оказывается в среде, которая «сверху красна, как редиска, а внутри трухлява и вонюча». С гневом и горечью пишет Малашкин о поругании женщины и матери, защищает идеалы, завещанные нам классической литературой. Только ли острота и общественная польза повести привлекли такое внимание? Позволю себе привести мнение одного из советских критиков 20-х годов – Д. А. Горбова.
«Повесть С. Малашкина «Луна с правой стороны» – произведение нашумевшее, – отмечал критик в своей книге «У нас и за рубежом» (М., 1928). – Нам кажется, что это повышенное внимание к повести вполне ею заслужено не только благодаря ее теме, но и со стороны чисто художественной, в смысле способа ее разработки. Заслуживает особенного внимания, на наш взгляд, тот факт, что при изображении значительного общественного явления, каким представляется судьба комсомолки Тани в повести Малашкина, писатель… сумел остаться с глазу на глаз с изображаемым жизненным материалом и отдаться вольному, творческому его исследованию для того, чтобы потом вынести на широкое обсуждение вполне самостоятельно достигнутый результат. Нам особенно радостно отметить это обстоятельство по отношению к произведению литературы пролетарской, потому что всякое новое достижение ее не может не быть нам дорого».
В противовес «больным людям» Малашкин создает в 20-е и начале 30-х годов ряд положительных образов, подлинных героев своего времени. Это стойкая и отважная комсомолка Зося Зяблина («Хроника одной жизни»), организовавшая в родном селе колхоз и погибшая от рук кулаков; это юный Ваня Горелов («Два бронепоезда»), у которого умирает от голода мать и который ценой собственной жизни уничтожает белогвардейский бронепоезд. Конечно, сегодня кое-что может показаться в этих произведениях излишне декларативным и прямолинейным, но они выражали активную связь литературы с жизнью, включались в практическое решение задач, вставших перед городом и деревней, и передавали неповторимый пафос эпохи.
Подобно тому, как новый человек ставил перед собой грандиозные планы преобразования страны, писатели мечтали о масштабных завоеваниях в сфере нового искусства.
«Я лично чувствую, – сказал в одном из интервью 20-х годов Малашкин, – что между Достоевским и Толстым существует огромный коридор, то есть существуют для меня не удовлетворяющие крайности: психологический болезненный надрыв одного и бытовой реализм другого. Мне хочется взять среднее и, если можно так выразиться, пойти по этому пустующему коридору».
(«На литературном посту», 1927, № 5—6).
Попытку создать крупное эпическое полотно, сочетающее историческую масштабность повествования с глубинным психологизмом, писатель предпринял в первой книге задуманного многотомного романа «Две войны и два мира» (1928). Однако описав январские события 1905 года, гапоновщину, жизнь различных слоев общества – рабочих, офицерства, чиновничества, – Малашкин не удержался от схематизма в характеристиках героев и некоторой претенциозности в изображении светского быта и нравов. Куда удачнее оказались «Записки Анания Жмуркина» (1928—1932), ярко воспроизводящие и провинциальную уездную жизнь России, и правду первой мировой войны, и пестрый столичный мир накануне Октября. Но продолжить это талантливое повествование писателю удалось лишь через несколько долгих десятилетий. Попав под огонь часто несправедливой критики, Малашкин замолчал.
Казалось, что писатель так и останется в истории советской литературы автором нескольких раскритикованных повестей 20-х годов. Шли годы, писателю, не выступавшему в печати три с лишним десятилетия, было уже далеко за шестьдесят. Но он упорно и увлеченно работал, создавал новые произведения, шел от замысла к замыслу. И вот, начиная с 1956 года, мы стали свидетелями убедительного возвращения в литературу Малашкина-прозаика, Малашкина-художника. Одна за другой появляются книги, отмеченные широтой тематики и разнообразием жизненного материала. Тут и художественная хроника Октябрьской революции (продолжение «Записок Анания Жмуркина» – роман «Петроград», 1968), и глубокое, жизненно достоверное изображение революционных событий в провинции, гражданская война в глубинах России («Город на холмах», 1973), и Великая Отечественная война, эпизоды битвы на подступах к столице (повесть «Страда на полях Московии», 1972), и послевоенная деревня (романы «Крылом по земле» и «Девушки»).
С середины 50-х годов Малашкин уверенно, крепкой и талантливой рукой создает ряд произведений, позволяющих назвать его одним из активных работников в современной литературе.
3
Без преувеличения этапной для Малашкина явилась историческая дилогия «Записки Анания Жмуркина». Читая эту книгу, ощущаешь, как раздвигается исторический горизонт, в поле зрения героя, от лица которого ведется повествование, попадает все больше жизненно значительного, остро социального. В романе очень существенен элемент автобиографического, хотя было бы неверно отождествлять автора с Ананием Жмуркиным. В первой книге три части: «Уездное», «По ту сторону Двинска» и «У жизни в отпуску». Тягучее описание медлительной русской провинции, где купчихи ведут бессодержательные разговоры, где обыватель придавлен грузом мелких забот, и только в депо идет революционная работа, – сменяется изображением бессмысленной братоубийственной бойни, выгодной лишь «хозяевам», стоящим у власти. Третья часть «Записок» – «У жизни в отпуску» ярко показывает неодолимое нарастание революционного движения в Петрограде, яростные споры, самую атмосферу того необыкновенного времени: кануна революции.
Панорама повествования раздвигается еще шире, во второй книге «Записок»[2]2
С. Малашкин. Петроград. Записки Анания Жмуркина. Кн. 2-я. М., «Сов. писатель», 1968.
[Закрыть], которую представляет собой роман о революционном Питере.
Ананий Жмуркин, большевик, солдат, встречается с самыми различными людьми – от земляка-крестьянина до министра Временного правительства. Но главное, он оказывается свидетелем исторического приезда В. И. Ленина в Петроград:
«Я не заметил в волнении, как шло время. Был уже поздний вечер, когда послышался усиливающийся шум поезда. Вот он подошел к перрону, и сразу стало тихо-тихо. Потом там, на перроне, взмыли волны «Марсельезы». Люди – мужчины и женщины, пожилые и юные – устремили глаза к дверям, в которые должен войти Ленин. Я был настолько мал ростом, что кроме спин Спиридона Зиновьевича, Игната Денисовича и других ничего не видел.
– Ленин! Наш Ленин! – послышались голоса впереди. Потом раздались возгласы «ура», вспыхнул гул аплодисментов. «Ленин, наш Ленин!», «Владимир Ильич!» – эти крики были подхвачены людьми, стоявшими на площади, на ближайших улицах и проспектах».
Малашкин воссоздает неповторимую обстановку революции, свидетелем и участником которой он был. Разумеется, писатель прибегает и к художественному вымыслу, не остается в рамках исторического документа, вводит ряд вымышленных персонажей. Однако необычность этой книги в том, что она не «просто литература», больше, чем «литература». Все, описанное Малашкиным, опирается на реальный фундамент, является живым откликом на давние события.
«Записки Анания Жмуркина» явились заметным вкладом в художественное осмысление великой революции.
То же самое можно сказать и о романе «Город на холмах», как бы продолжающем движущуюся панораму революции в России. Жизнь и деятельность нижегородского, сормовского пролетариата в 1916—1919 годах, труды и дни рабочей династии Ивлевых – все это складывается в широкую картину жизни одного из крупнейших индустриальных центров старой России. В центре повествования – профессиональный революционер Семен Петрович Михеев, которого некоторые черты роднят с философом-солдатом Ананием Жмуркиным. И здесь невыдуманными предстают не только неповторимый быт, обстановка, атмосфера революции и гражданской войны, но и множество фактов, перенесенных автором из той эпохи непосредственно на страницы книги.
Сергей Иванович Малашкин являет собой тип писателя нового и ранее не виданного в литературе. Подобно другим советским художникам послереволюционной поры, он обогатил себя тем драгоценным опытом, какой только могла дать революционная действительность, прошел испытания мировой и гражданской войны и не раз смотрел смерти в глаза. Этот огромный запас жизненных наблюдений не умещается в традиционные формы художественной прозы, требует исхода в эпической мемуаристике, черты которой и просматриваются в художественном создании писателя – «Записках Анания Жмуркина».
Олег Михайлов





