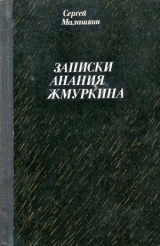
Текст книги "Записки Анания Жмуркина"
Автор книги: Ника Бойко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
XXII
В доме Марии Ивановны Череминой ничего не изменилось за эти два с половиной года, как я переселился от нее к Раевской, и за время моей жизни в Москве; старшая ее дочь Роза Васильевна не вышла замуж, несмотря на ее большое желание, и у нее все такое же было тоскующее, как тогда, выражение на приятном сероглазом и розовощеком лице, и она неизменно вечерами, когда были гости, по просьбе этих гостей, а больше, конечно, Марьи Ивановны пела своим звонким голосом «Чайку»; гости, слушая ее разливающийся, дрожащий голос, видели эту, как они говорили друг другу, несчастную рыдающую чайку с подстреленным крылом, парящую над кипящими волнами моря; и, видя чайку и море, они играли в карты – в банчок, пили водку, закусывали селедкой, пирожками, начиненными капустой или визигой, малосольными огурчиками и копченой темно-бордовой колбасой, сухой, как подошва. Младшая дочь Марьи Ивановны Серафима Васильевна, равнодушная, казалось, к «Чайке» с подстреленным крылом, к гостям, физиономии которых были ей давно знакомы и представлялись настолько обычными, что интересовали ее менее, чем стертые медные пятаки, крепкая и сильная, с круглым лицом, напоминавшая ростом, чертами лица и движеньями свою мать в молодости, сидела равнодушно за столом и наблюдала за гостями, которые с аппетитом уничтожали пироги, селедку, жареную свинину, поглядывала на неизменную (она каждый вечер стояла на середине стола) четвертную бутыль с самогоном, из которой наливал с доброй и немножко грустной и счастливой улыбкой Василий Алексеевич Бобылев, чернобородый, с густо-карими большими глазами, гражданский муж Марьи Ивановны, – он был лет на десять моложе Марьи Ивановны; Серафима Васильевна знала от соседей, что он, влюбившись в Марью Ивановну, молодую вдову, подписал ей свой небольшой каменный дом, корову и все свое остальное состояние; словом, он нес обязанности и гражданского супруга и старательного работника-батрака; поглядывала она ясными и спокойно-строгими глазами и на золотисто-красноватые блики в четвертной – на отражения в самогоне света висячей лампы «молнии» с розовым абажуром, на разбросанные карты и кучку бумажных рублей и почтовых марок, заменяющих мелкую серебряную и медную монету.
Я вошел в квадратную переднюю, заставленную все теми же сундуками, покрытыми деревенскими цветными грубыми попонами, деревянным, со спинкой диваном, столиком (передняя, когда не было гостей, служила и столовой) и двумя-тремя венскими стульями, знакомыми давно-давно мне. Меня никто из хозяев дома не заметил в передней: все находились в столовой, за столом, и шумно разговаривали. Я минуты три смотрел на сидевших за столом, затем кашлянул, чтобы дать знать о себе. Услыхав мой кашель, первой выбежала в прихожую Серафима Васильевна, лицо ее сияло неподдельной радостью, умные глаза горели бледно-серебристой синевой.
– Здравствуйте, Ананий Андреевич, – промолвила она густым ласковым голосом. – Где вы так задержались? Мы ждали вас к обеду. Ждали-ждали и, как говорят, все жданки поели, а вы не пришли. Нехорошо так относиться к знакомым, которые вас искренне уважают. А ведь я сама с Василием Алексеевичем приготовляла обед. Да, да, сама! – подчеркнула она с грустной гордостью и пояснила: – За эти два года я научилась хозяйничать в доме, научилась кулинарничать. Собираюсь в Москву или в Питер, вот и набиваю руку в этом деле. Надоел мне, – понижая голос почти до шепота, – смертельно этот город… Могу ли я, Ананий Андреевич, поступить в Москве или Питере в кухарки?
Я пожал ее сильную руку, проговорил:
– Вы стали, Серафима Васильевна, шутницей. Так уж обязательно в кухарки?
– Не называйте меня, Ананий Андреевич, по отчеству, а просто Симой: мне еще рано быть Васильевной, – попросила она серьезным тоном. – И совсем, Ананий Андреевич, не шучу, – возразила девушка. – Я, как вы знаете, мало училась, не то что Роза… Куда я гожусь еще? Только на должность кухарки.
– Шутите, – повторил ласково я. – Да вам еще нет и шестнадцати, а вы собираетесь в кухарки.
Я хотел еще что-то теплое сказать девушке, по в эту минуту послышался голос Марьи Ивановны, хрипловатый и сильный:
– Ананий Андреевич, не любезничайте с моей меньшой! Будете с нею говорить – она совсем потеряет голову от любви к вам. Идите сюда, за стол!
Серафима смущенно засмеялась, пожаловалась матери:
– Мама, как я могу полюбить Анания Андреевича с такой бородищей! Из нее его лица почти не видно, одни смеются и сверлят, как огоньки, глаза.
– Ладно, ладно! – пробасила Марья Ивановна. – Веди его сюда! В женихи он тебе, Симка, на самом деле не подходит – староват. Ему сорок, а тебе, мое чудошко, через месяц только шестнадцать стукнет.
Серафима, став серьезной и почтительной, взяла меня под руку и ввела в столовую, в просторное помещение, в углах которого и перед окнами, между мебелью в белых парусиновых чехлах, стояли банки и кадушечки с растеньями-цветами. Налево, во внутренней стене, две двери задрапированные, – они вели в комнаты девушек и Марьи Ивановны. За столом, накрытым белоснежной скатертью, сидели Марья Ивановна, Василий Алексеевич Бобылев, Роза Васильевна, высокий и краснолицый квартирант, еще молодой, с кроткими, табачного цвета глазами, в коричневом пиджаке и в красном с горошинами галстуке.
Марья Ивановна, поймав мой взгляд на нем, сказала:
– Федор Григорьевич Кондрашов, служит приказчиком у Чаева. На войну не взят по причине порока сердца. – И, вздохнув, пробасила: – Господи, такой красавец, а у него порок! Какое это счастье в наше время! Ну, вам, Федор, я верю. А почему у Петеньки Чаева порок?
– А потому, что он сынок миллионера, – пояснил Василий Алексеевич Бобылев. – Его папенька, городской голова, отвалил, как говорят в городе, доктору Мицкевичу несколько тысчонок, вот и получился у Петеньки Чаева порок сердца!
– Этого я не знаю, Василий Алексеевич, – проговорил со страхом Кондрашов и покосился недоверчиво ленивыми глазами на гостей. – Не следует болтать об этом. Хозяин мой настолько справедлив, что ни одной копейки не даст за такую услугу. Сын его действительно страдает…
– Знаем, чем его сынок страдает! Пожалуйста, Федор Григорьевич, не защищайте ни своего хозяина, ни его сына. Оба непроходимые мерзавцы! – заключила равнодушно, без злобы, но презрительно Марья Ивановна и представила властно, словно не людей, а игрушки, мне еще двух мужчин, которых я до этого не встречал у нее в доме: – Араклий Фомич, служит вторым секретарем в земстве, приятный мужчина; а приятный он, Ананий Андреевич, потому, что в течение ночи один четверть самогона-первача выпить может; еще потому, что каждый вечер проигрывает в карты. Знакомьтесь, Ананий Андреевич!
Я поздоровался за руку с худеньким, серолицым Араклием Фомичем Попугаевым. Он внимательно темными влажными глазками заглянул в мои и чуть осветил улыбкой свое жесткое, в мелких морщинках личико, как бы говоря; «С удовольствием познакомлюсь с такой шишигой». Он, может быть, так и не подумал, но мне показалось. Потом я познакомился с толстеньким, краснолицым и сильно лысым, пожилым мужчиной. Он поднялся и, тяжело дыша и уставившись сухими глазами на меня, тоненько, как сквозь глиняную свистульку, пропищал-представился:
– Агент компании «Зингер»… – И, отпустив мою руку, шутливо пропищал: – Если вам, Ананий Андреевич, потребуется швейная машина, обязательно обратитесь ко мне за покупкой ее, а не к сухарю Пешкову. Гм! Имею честь представиться: я Семен Антонович Кокин, мещанин города Белёва.
Гости и хозяева засмеялись. Улыбнулся и я, ответив:
– Обязательно обращусь к вам, Семен Антонович, если мне потребуется швейная машина.
Роза Васильевна откинулась к спинке стула и, взмахнув глаза на меня, промолвила:
– Семен Антонович, не верьте Ананию Андреевичу, он никогда не купит у вас швейную машину.
– Я сказал, Роза Васильевна: если потребуется, – поправил мягко я девушку.
– Никогда не купите! – сказала громче Роза Васильевна, поддразнивая меня. – В этом я, Ананий Андреевич, уверена!
– А вдруг и куплю, Роза Васильевна! – ответил я. – Возьму и куплю!
– Кому же это вы, Ананий Андреевич, купите, если вы столько лет ходите в холостяках… и на женщин смотрите так, будто их совсем не существует на белом свете?
– На белом, может быть, и не существует, но на этом – они есть, – ответил я шутливо и сел на стул, предложенный Марьей Ивановной.
Серафима подала для меня тарелку, вилку и ножик, салфетку и вазочку для варенья, сказала:
– Пирожки еще горячие. Кушайте, Ананий Андреевич, – и уселась подле сестры.
На столе, против агента Семена Антоновича Кокина, лежала колода карт, стояли тарелки с пирожками, селедкой и с копченой колбасой, четвертная самогона, еще непочатая.
– Заходили к Ирине Александровне? – спросила как бы небрежно Марья Ивановна и, не дожидаясь моего ответа, обиженно пробасила: – А мы вас, Ананий Андреевич, до половины шестого ждали обедать. Как богомольница Ирина поживает? Говорят, совсем ожадовела. Впрочем, она и до войны была жадна до омерзения! Как встретила вас, Ананий Андреевич? – И, опять не ожидая моего ответа, равнодушно-презрительным тоном заключила: – Скверная барынька, ужасно скверная! И блудлива, как кошка! Деньги монаха, который двадцать лет тому назад ее оплодотворил сынком, превращаются в кучу бумаги… и ее лицо от этого становится резиновым.
– Она, Марья Ивановна, жаловалась мне на это, – сказал я.
– Она всем жалуется… даже бабам, стоявшим в очереди у колодца, – отрезала брезгливо Марья Ивановна. – Как ей тут не сойти с ума!
Я понял, что Марья Ивановна Черемина знает о моей интимной близости с Раевской. Почувствовав это в ее словах, я насторожился и, желая перевести разговор на другую тему, спросил:
– Марья Ивановна, а как ваше здоровье?
– Мое? Да ничего, здорова, как ломовая лошадь. Жалко вот только сына, погибшего на фронте. Седою стала из-за него. Убит был в первых боях. А я здорова, так здорова, что выпиваю в два раза больше самогона, чем выпивала раньше, и не пьянею: чувствую себя совершенно трезвой, с ясной как стеклышко головой; только на сердце тоски становится больше. Но и на нее не жалуюсь: в тоске жить лучше, чем без нее.
В прихожей скрипнула дверь, послышались четкие шаги запоздавшего гостя. Марья Ивановна неторопливо поднялась и, высокая и широкоплечая, пошла по-мужски ему навстречу.
Гости и Василий Алексеевич Бобылев встали и повернули лица к прихожей, проговорив хором:
– Ждем, ждем! Давно ждем, Филипп Корнеевич!
XXIII
Серафима и Роза Васильевна тоже выпрямились и, переглянувшись, шагнули к двери коридора, но сейчас же отступили от нее, вернулись к своим стульям и, не садясь, замерли. Марья Ивановна ввела в столовую гостя, и он стал непринужденно здороваться со всеми, поблескивая бледно-зеленоватыми глазами. Сперва пожал руки девушкам, потом Бобылеву и гостям, сказав им:
– Мое вам, господа, уважение! И сегодня я рад, как всегда, видеть вас и, конечно, всех обыграть!
– Ну, это мы посмотрим, ну, это мы посмотрим, кто кого, Филипп Корнеич! – воскликнул Араклий Фомич Попугаев и хихикнул тоненько, как бы дунул в глиняную свистульку.
Это был надзиратель полицейский Резвый, невысокий рябоватый мужчина, старый приятель Марьи Ивановны и завсегдатай ее дома. Увидав меня, он залился краской, усы его дрогнули; пуха удивленно бледно-зеленоватые, с красными прожилками на белках глаза, он медленно, как бы раздумывая, а может и с трудом, выдавил из себя:
– Ананий Андреевич! Боже мой! Откуда вы! Я считал… предполагал, – поправился он, – что вы, господин Жмуркин, обретаетесь где-нибудь в Енисейске или в Минусинске… и блаженствуете там, а вы опять оказались в наших тесных и душных черноземных местах. Удивительно! И после таких событий!
– Каких событий, Филипп Корнеевич? – переспросил я, как бы ничего не зная.
– Каких событий! И вы еще, Ананий Андреевич, спрашиваете! – воскликнул Резвый. – Да события-то эти, господин Жмуркин, натворили вы! Благодаря вашей политике, которую вы развели в нашем крошечном городе, среди рабочих депо, служащих винокуренного завода и мужиков уезда, полетел к чертовой бабушке господин исправник Бусалыго, а почтенный городской голова Чаев схватил сердечную болезнь и, провалявшись три месяца в постели, едва избавился от нее. Не знаю, как только удержался я на этой должности, кормящей сносно меня с моей многочисленной семьей. Словом, качался, качался и… все же устоял, – смеясь, подчеркнул он.
Я насторожился, прикинулся, что не понимаю его, собрался было возразить Резвому, что он глубоко ошибается в том, что события, происшедшие в городе, подготовлены мною; но Резвый, заметив по моему выражению это, решительно заявил приглушенным голосом:
– Я не доносчик. У меня дочь курсистка, такая же, черт бы ее побрал, как и вы, Ананий Андреевич, красная. Правда, она эсерка и учится в Петроградском университете. Вас, кажется, знает. Да, да, встречалась с вами в кружке железнодорожников. А когда вы, господин Жмуркин, делали реферат в кружке реалистов и гимназисток, она выступала вашим противником. Да, да, я все знаю! И вот, зная, не донес, хотя абсолютно не сочувствую ни вам, ни своей дочери. Знаю и то, кто до самой войны выписывал «Правду» на свои денежки, пятьдесят экземпляров, но я и этого не сообщил никому. Оцените это, господин Жмуркин, а когда самодержавие развалится под ударами революции (дочь моя бредит ею и, бредя, утверждает, что самодержавие дало такие трещины, что вот-вот рухнет), зачтите и мои заслуги перед революцией!
Резвый вздохнул, поздоровался со мною за руку, продолжал:
– Да, я давно хочу спросить у вас, Ананий Андреевич, для чего вы подделываетесь под мужичка, когда вы от головы до пяток, несмотря на вашу дремучую бороду, интеллигент? Зачем вы свою интеллигентность прячете за такую бороду, а?
Я пожал плечами, смущенно ответил:
– И совсем, Филипп Корнеевич, не подделываюсь под мужичка. Зачем же мне подделываться под него, когда я реальный мужик, из Солнцевых Хуторей, как вы знаете?
– Знаю. Знаю. Досконально все знаю о вас! Но все же вы, Ананий Андреевич, преображаетесь в мужика. Иногда вы таким представитесь простачком или юродивым, что… Так вы, Ананий Андреевич, не один раз представлялись и предо мной, когда я заходил по своей должности справиться о вашем здоровье.
– Не сбежал ли я?
Резвый обиженно нахмурился:
– Ну зачем, Ананий Андреевич, так прямо в лоб… Конечно, я приходил справиться о вашем здоровье.
– Спасибо, – улыбнулся я.
– Представившись вы мне простачком или юродивым, я вначале, при первом знакомстве с вами, Ананий Андреевич, верил в то, что вы действительно мужичок, да еще с юродинкой, а потом, приглядевшись к вам, понял… словом, разглядел за вашей маской и бородищей не юродивого мужичка, а высокообразованного интеллигента.
– И очень опасного? – засмеялся я. – Чувствую, что вы, Филипп Корнеич, зло смеетесь надо мною.
– Я не смеюсь, Ананий Андреевич, а серьезно… Я такие же слова говорю и о своей дочери. Ладно. Не станем говорить об этом! Надолго, если это не секрет, прибыли в наш край, Ананий Андреевич?
– Проездом, Филипп Корнеевич.
– Напрасно. Завтра будет расклеен приказ о переосвидетельствовании белобилетников. Вы, кажется, белобилетник?
– Да, Филипп Корнеевич.
– Не боитесь, что возьмут в армию и… на фронт?
– Не боюсь. Будем защищать родину.
– Самодержавие? Вот в это никак не могу поверить, Ананий Андреевич! – удивился Резвый и, перестав улыбаться, грустно вздохнул.
– Буду защищать родину, а не самодержавие, – подчеркнул я со всей искренностью.
– А-а-а… начинаю, кажется, понимать вас, Ананий Андреевич!
– Благодарю вас, Филипп Корнеевич. Передайте Людмиле Филипповне мой привет. Как ее здоровье и успехи в университете?
– Привет вы, Ананий Андреевич, передайте ей сами, – буркнул недовольным тоном Резвый. – А успехи у нее по университету, думаю, плёвые. Разве могут быть у нее, у социалистки, успехи в учении, если она только и думает о рабочих, мужиках и революции. Очень сожалею, что отпустил ее в университет, не выдал дрянную девчонку тут же, как кончила гимназию, замуж за акцизного чиновника Шуйского. Да-с, очень сожалею!
Марья Ивановна вмешалась в наш разговор:
– Не тужите, Филипп Корнеевич. Еще выдадите дочку: Сереженька Шуйский щеголяет холостяком! Да и о политике, пожалуйста, прекратите разговор: не наше дело барахтаться в ней. Пусть делают ее более умные головы, чем наши с вами, Корнеевич!
– Марья Ивановна, – разводя в стороны руки, обиженно возразил Резвый, – у меня, хотя я и хохол, тоже голова не такая глупая, и я, поверьте, кое-что понимаю, разбираюсь, что к чему! Я всех бы этих политиков на вечные времена в Заполярье выслал. Да, да, без всякой жалости! Думаете, Марья Ивановна, у меня умишка на такую деятельность не хватило бы? О, хватило бы! Уж я, если бы был министром, премьером… О-о, господи! Вот заговорил о такой деятельности – и… ладони зачесались. О, не надо так залетать высоко! Сперва бы я, залетевши, схватил за шиворот свою Людмилку, а потом…
– Вы, Филипп Корнеевич, уже приложили руку к старику Тимоничеву, – не выдержал я.
Резвый так и всколыхнулся, испуганно и оскорбленно возразил:
– Ни-ни! Это подлейшая, Ананий Андреевич, клевета! И не прикасался к нему! И городовым своим не позволил трогать его, старика! Это, повторяю, омерзительная клевета из клевет на надзирателя Резвого! Да-с! Из рук городовых его вырвали тогда Петенька Чаев, Бородачев, Щеглов, Лямзин и Феденька Раевский. Вот эти студенты и избили его; избив, они волоком тащили его по каменной лестнице. Об этом вам скажет и начальник острога. Особенно неистовствовали Петенька Чаев и Феденька Раевский… Городового, который заступился за старика, Чаев ударил хлыстом. Видите, Ананий Андреевич, как они, студентики, раздражились против Тимоничева: Петенька Чаев – за своего папашу и за свою мамашу, оскорбленных стариком и опозоренных на весь город, а Феденька оскорбился не менее Чаева за купеческое сословие, вождем которого, как вы знаете, он мнит себя. А об остальных и говорить нечего: бандиты!
– Вы правы, Филипп Корнеевич, – промолвил грустно я. – Вас никто из рабочих депо не обвиняет в избиении газетчика Тимоничева и в его преждевременной смерти.
– Благодарю вас, Ананий Андреевич!
– Садитесь, Филипп Корнеевич. Не станем терять время драгоценное за таким разговором. Выпьемте первача, закусим – и в банчок! – грустно улыбаясь большим ртом, басом предложила Марья Ивановна. – Садитесь вот сюда, Филипп Корнеевич. – И она усадила против себя Резвого, рядом с Кондрашовым.
Сел и я. Василий Алексеевич Бобылев взял четвертную и стал разливать по крупным рюмкам спирт. Наполнив рюмки, он роздал их гостям. Пока он разливал, гости молча, с серьезными лбами, разобрали селедку на свои тарелки, колбасу копченую и пирожки. Серафима обвела взглядом гостей, мать и отчима, повеселевшие глаза которых были устремлены на рюмки и закуски, поднялась и вышла. Роза Васильевна осталась; она смотрела, не мигая ресницами, на свою рюмку. Ее лицо подернуто мечтательной грустью, и эта грусть делала ее немножко старообразной, как бы начинающей уже отцветать. Кажется, как заметил я, она сейчас тяготится своей девической жизнью, думает о женихе, облик которого создает в своих мечтах, и, создав его, с великим упорством и нетерпением ждет его появления, а он не появляется. И это ужасно для нее, ее самолюбия.
– Господа, – поднимая рюмку, нарушил молчание Резвый, – за драгоценное здоровье уважаемой Марьи Ивановны! Итак, пропустите! – Он чокнулся с рюмкой хозяйки, выпил.
Выпили и остальные за здоровье Марьи Ивановны и громко, хором крякнули.
– Кхе! – кашлянул Семен Антонович Кокин, агент компании «Зингер». – Славно прошла первая за ваше здоровье, Марья Ивановна, а сейчас мы ее, с вашего разрешения, прикроем селедочкой и пирожком, и она, огненная, прячась под закусоном, разольется, побежит по жилочкам; потом, как обычно, мы вслед за нею долбанем и вторую.
– Да уж надо за хозяина, чтобы не журился, был весел за картишками, – промолвил Араклий Фомич Попугаев, разминая вставленными зубами темно-фиолетовую колбасу. – Уж нынче я не проиграю столько ему, сколько позавчера.
– Да уж не так много вы, Араклий Фомич, и проиграли, – заметила Марья Ивановна, подняла вторую рюмку с самогоном и, задержав глаза на Резвом, сказала: – За ваше здоровье, старый друг, – и выпила.
Надзиратель хлобыстнул в рот свою так, что самогон у него в горле даже пискнул. Он сморщился, прикрыл рыжеватыми усами кончик красного носа, потом вытянул губу и, мотнув головой, перегнулся через стол и чмокнул Марью Ивановну в щеку.
– Не целуйте, Филипп Корнеевич, а лучше проиграйте мне четвертной билет, это будет приятнее для меня, – сказала серьезно, мужским голосом Марья Ивановна и тут же спросила! – Почему вы всегда целуете меня в одну щеку, а не в обе?
– Марья Ивановна, в этом я не виноват, а исключительно потому, что топографически сидите неудобно, – почтительно пояснил Резвый.
Марья Ивановна улыбнулась, предложила:
– Что ж, тогда, не теряя золотого времени, выпьемте по третьей, за дорогих гостей!
– Позвольте, позвольте! – подняв указательный палец, проговорил Резвый. – Третью вы должны выпить в честь меня, блюстителя порядка в городе! Так я говорю, господа уважаемые?
– Истину изрекли, Филипп Корнеевич! – подхватил, тоненько смеясь, Семен Антонович Кокин. – Да и в посудине станет не заметно, что мы ее уже начали. Я предлагаю – по рюмочке за здоровье каждого. Как вы, господа?
– Мы и всегда выпивали по рюмке за каждого сидящего за столом, – подхватил Кондрашов, скользнул взглядом по лицу Розы Васильевны и значительно кашлянул.
Роза Васильевна заметно улыбнулась ему и кокетливо промолвила:
– Федор Григорьевич, меня, пожалуйста, не включайте в число выпивающих.
– Что так? – брякнул Кондрашов, и лицо его стало шире, покраснело, он протяжно вздохнул и поправил красный с белыми горошинами галстук.
Я вспомнил, что этот же галстук Роза Васильевна преподносила не один раз мне, когда я квартировал у ее маменьки, но я всегда отклонял такой подарок. Теперь она подарила его Кондрашову, и он украсил им свою широкую, молодецкую грудь. Хозяева и гости приняли предложение Резвого и начали пить за здоровье каждого, чтобы скорее в четвертной убавилась жидкость. Начали опять с хозяйки. Марья Ивановна обратилась к Резвому и с наигранным удивлением промолвила:
– Я же выпила, и не одну… и вы с меня же опять начали.
– Точно-с! Такой закон на наших вечерах, Марья Ивановна! Итак, господа, начали! – воскликнул торжественно Резвый и решительно пояснил: – Выпитые рюмки не в счет! Так я говорю, господа уважаемые?
– Ваше предложение, Филипп Корнеевич, гениально! – рассмеялся раскатисто Семен Антонович. – Что ж, не задерживаясь… пошли!
– Подчиняюсь, друзья мои! – легко согласилась Марья Ивановна и опростала рюмку.
За нею выпили за здоровье Василия Алексеевича Бобылева, Резвого, Кондрашова, Семена Антоновича Кокина, Араклия Фомича Попугаева, за меня и за Розу Васильевну, которая, когда пили за ее здоровье, умоляюще попросила, чтобы за нее не пили, так как она ни за кого пить больше не станет; сказав это, она все же не отстала от гостей, морщась, капризно и умело выпила. Выпив и закусив, она жалобно и предупреждающе воскликнула:
– Я не пью! Вы понимаете, я не пью! Выпью – голос потеряю!
– Розка, а ты не ломайся! Оставь это ломанье кисейным барышням! Ты дочь благородного чиновника, который никогда не брал взяток и, умирая, оставил сына, дочерей и свою красавицу жену в ужасной нищете, – я ведь, друзья мои, была когда-то первой красавицей в этом паршивом и затхлом городе. И… за мною предводитель дворянства Хлюстин утрепывал, живые цветы присылал в январе и шоколад «Виллар». Правду говорю! И вот человек, сидящий подле меня, пришел на помощь, отдал все свое состояние мне и моим детям. И я полюбила его за это… и он – счастлив! Дай я тебя, Васенька, поцелую! – и она нагнула к себе покорную красивую голову супруга, чмокнула его в губы.
– Машенька, твои дети – мои дети. Я не знаю, кто их больше любит…
– Конечно, ты, Васенька, – оборвала взволнованно Бобылева Марья Ивановна. – Выпили и расчувствовались. Какие мы все чувствительные! А все, друзья, оттого, что мы честные!
– Ужасно честные, Марья Ивановна! – брякнул Кокин. – Шкуру сдираем с друга или с отца родного, а сами в это время плачем от жалости! Век такой, Марья Ивановна, жалостливый, вот и мы все в него! За ваше здоровье! – и он, вне порядка, деранул рюмку мутного самогона.
– Если отмените тосты и начнете выпивать сначала, то вы совсем впадете в чувствительность, – заметила с раздражением Роза Васильевна и, наклонившись ко мне, шепнула: – Люблю вас, Ананий Андреевич, за то, что не пьете.
– Как не пью? Я выпил за здоровье вашей мамы, Василия Алексеевича и, конечно, за ваше, Роза Васильевна.
– Ой, так ли? Я что-то, Ананий Андреевич, не заметила, – протянула обиженно девушка, взглядываясь тоскующе мне в глаза.
Я откинулся к спинке стула и стал смотреть на лампу «молнию» с розоватым абажуром.
Роза Васильевна нервно застучала вилкой по тарелке.
XXIV
Марья Ивановна, выпив несколько рюмок спирта, окрепла с него, помолодела, на ее рыхлых щеках разгладились морщины, появились пятна румянца, серые глаза расширились, синевато зажглись. Она откинула стан к спинке стула, спросила:
– Кто держит банк?
– Известно, я, – с необыкновенной поспешностью отозвался Резвый, вынул из грудного кармана поношенного кителя коричневый бумажник, довольно толстый, взял из него десятку и пачку рублей и положил их перед собой на стол. – Банкую, господа уважаемые! Капитал в банке десять рублей. – Он движком сунул на середину стола десятку, взял карты, стасовал и сбросил с колоды каждому игроку по карте. – А вы, Ананий Андреевич, куда отстраняетесь?
– Не играю, Филипп Корнеевич.
– Гм! Скучны вы, социалисты! Что вы за люди, если в карты не играете! А денег, как я слышал, у вас, Ананий Андреевич, много.
– Ужасть сколько! – рассмеялся я. – Столько денег, что их куры не клюют. Откуда же у меня деньги, Филипп Корнеевич?
– Как откуда? В городе ходит слух, что вы, Ананий Андреевич, двадцать… четверть века тому назад явились сизокрылым голубком к Раевской, приголубили ее, а потом, когда родился у нее Феденька (нужно же ей родить, простите за выражение, такого прохвоста!), тридцать тысяч внесли на ее имя в отделение Русско-Азиатского банка… Правда это, Ананий Андреевич?
– Не всякому слуху, Филипп Корнеевич, верьте, – посоветовал я.
– Нет дыму, как говорят, без огня. Приходится верить гласу народа, – возразил со смехом Резвый.
– Слух ходит в городе, что вы с городовыми избили старика Тимоничева, а оказывается, не вы и не городовые, а господа студенты Чаев, Раевский, Щеглов и другие. Как же можно верить слухам, Филипп Корнеевич?
– В смерти Тимоничева не повинен, Ананий Андреевич! – горячо воскликнул Резвый. – Могу поклясться детьми…
– Не надо. Я вам верю, Филипп Корнеевич.
– Благодарствую. А о вас чуть ли не в каждом купеческом доме рассказывает Семеновна, подлая сводня, что вы, будучи монахом, отвалили такую сумму на зубок Феденьке. Об этом будто бы в присутствии вашем, Ананий Андреевич, и Семеновна говорила и сама Ирина Александровна. Сам я, конечно, от Семеновны не слышал, но…
– Прямо какая-то, Филипп Корнеевич, сказка ходит обо мне, – рассмеялся недовольно я. – Что ж, пусть рассказывают!
– Ваше благородие, разговор будете вести о монахе, Раевской… или будете банковать? – обратился решительно к Резвому Араклий Фомич. – Ставлю под весь банк! – И его лицо подернулось морщинами, словно налетел ветерок на него и покрыл сероватой зыбью.
– Банкую, банкую! Режете? – чуть побледнев, встрепенулся Резвый.
– Рублю под корень!
– И фундамента на разживу не оставите?
– Никакого! Оставлю, а вы, Филипп Корнеевич, вдруг силу на нем заберете. Режу! – подтвердил свое решение вдохновенно Араклий Фомич Попугаев и прикрыл веками глаза.
– Хорошо! Если так, то ставьте денежки! – жестко предложил Резвый. – Обеспечьте сумму банка!
– Не верите?
– Верю денежкам на кону, Араклий Фомич!
Загоревшиеся глаза играющих скользили то на карту Араклия Фомича, которую он придерживал указательным пальцем, то на верхнюю карту колоды в руках банкомета, как бы намереваясь угадать сквозь рубашку ее очки. Араклий Фомич Попугаев достал засаленный бумажник, вынул три трешницы и рубль и бросил на десятку. Кондрашов перевел взгляд с карт на капитал в банке и облизал языком верхнюю губу. Его карие глаза подернулись влагой, потемнели. Резвый бросил вторую карту к карте Попугаева. Тот, получив вторую, осторожно приоткрыл ее, задумался коротко и, чувствуя изучающий, пристальный взгляд Резвого на себе, нарочито упавшим тоном сказал:
– Возьмите себе, банкир!
Рука Резвого дрогнула.
– Больше, Араклий Фомич, подкупать не желаете?
– Достаточно. Обойдусь с этими!
Резвый метнул карту на свою, глянул под нее.
– Хватит. Сколько у вас?
– Семнадцать, – ответил еле слышно Араклий Фомич. – А у вас?
– Проиграли, Араклий Фомич. У меня девятнадцать, – выпалил радостно прыгающим голосом Резвый. – В балке – двадцать целковых, господа!
– Не радуйтесь, Филипп Корнеевич, – промолвил упавшим голосом Попугаев. – Банк все равно не донесете до своего бумажника – сорвем!
– Уж не вы ли, Араклий Фомич?
– Могу-с и я! Разве я не срывал у вас банк?
– Очень редко, Араклий Фомич, – ликуя, ответил Резвый и устремил взгляд на Кондрашова: – А вы, Федор Григорьевич?
– Я? Что ж, я, ваше благородие, ахну на полбанка, – ответил неуверенно Кондрашов и поглядел на Розу Васильевну, как бы спрашивая у нее: «Розочка, выиграю или промажу этому рябому мизгирю?»
Девушка зарделась от его вопрошающего взгляда, сказала:
– Ставьте на весь банк, Федор Григорьевич. Если проиграете – будете счастливы.
Кондрашов вздрогнул от предложения Розы, по его широкому красному лицу пошли беловатые пятна. Было заметно, что ему было жалко проигрывать столько денег, почти все свое двухнедельное жалованье. Он поразмыслил и со страхом решился.
– Бью! Да, да, ваше благородие!
– Денежки на кон! – предложил почтительно-нервным и решительным голосом банкомет.
Кондрашов выбросил две десятки.
– Дайте!
Резвый, снова прикрыв ресницами глаза и не открывая их, сердито швырнул карту и растянуто, со страхом спросил:
– Подкупите или нет?
– Дайте!
Филипп Корнеевич облегченно кашлянул и бросил ему третью карту. Повеселев, он спросил:
– Прикажете еще?
– Возьмите себе, ваше благородие!
Резвый заметно побледнел, взял и перевернул свои карты, заглянул в них, сказал заплетающимся баском:
– Девятнадцать.
– У меня двадцать одно: туз бубен, король и семерка пик, – перевернув карты, отчеканил гулко, со вздохом облегчения Кондрашов и правой рукой пододвинул к себе банк.





