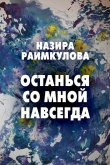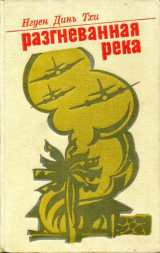
Текст книги "Разгневанная река"
Автор книги: Нгуен Динь Тхи
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
…Он снова закашлялся. На этот раз приступ был долгим и мучительным. Ты поспешил в комнату, лег на постель, но кашель не прекращался. Вдруг он почувствовал во рту солоноватый вкус – из горла хлынула кровь. Ее было так много, что Ты замер от ужаса. Он схватился за грудь, словно силясь приостановить кашель, но кровь все лила и лила. То ли у него потемнело в глазах, то ли он сам закрыл их и лежал тихо, не шевелясь, стараясь унять приступ.
Он лежал так долго, точно без сознания. Время от времени, открывая глаза, он видел свою картину, прислоненную к стене. Надо торопиться! Сейчас сотру следы крови, а то Бить перепугается. Да, вот как скрутила его болезнь! Ты снова закрыл глаза и, обессиленный, лежал без движения. Сейчас ему хотелось только одного – заснуть и не просыпаться долго-долго…
6
После новогодних праздников прошло уже более двух месяцев, а Фыонг все еще оставалась в Ханое, несмотря на то, что «он» писал ей бесконечные письма и даже посылал за ней человека. Но разве могла она теперь вернуться туда?! «Я не хочу возвращаться, – отвечала она ему. – У тебя в уезде кругом трупы, мне страшно жить там!» В общем, так это и было.
В Ханое тоже, разумеется, умирали с голоду, но все же здесь было многолюднее, а потому не так страшно. В уезде же и в обычное-то время можно было подохнуть со скуки, а теперь просто страшно – куда ни пойдешь, всюду одни мертвецы на дорогах. Была и еще причина, почему ей не хотелось возвращаться к мужу: он ей окончательно опротивел, опротивел до того, что даже в мыслях она не могла обращаться к нему на «ты». А теперь, после «переворота», совершенного японцами, у нее была еще более веская причина для того, чтобы оставаться в Ханое: «Ехать в уезд в такое смутное время, чтобы меня там прирезали!» И она продолжала жить у себя в маленьком тихом переулке.
В последнем письме мужа звучала уже неприкрытая угроза: «Смотри, мне все известно. Пока я не хочу принимать мер, чтобы не компрометировать родителей». Фыонг сидела перед чистым листом бумаги, писать не хотелось – настолько все было противно. К тому же они с Ханг условились сходить сегодня утром послушать ее игру и игру ее подруги. Вот кто счастливый человек! Ладно, надо написать это письмо и отделаться. «Я тебе уже не раз объясняла, что вернуться в уезд не могу. Делай что хочешь!» – быстро написала она. Вот так! Фыонг улыбнулась, бросила перо на стол и принялась за туалет.
Укладывая волосы перед зеркалом, она продолжала свой мысленный разговор с мужем. Ну до чего же он ей противен! Кажется, достаточно ему прикоснуться к ней, и Фыонг хочется тут же пойти смыть след от этого прикосновения. Раньше, когда у нее были романы, ей порой даже становилось жаль мужа. Но конечно, ни о какой любви к нему не могло быть и речи. И он отлично знал это. Так почему же он все-таки настаивает на своих правах? Нет любви – так незачем лгать друг другу! Сейчас Фыонг не испытывала никаких угрызений совести. Перебирая в памяти годы, прожитые совместно, она не чувствовала ничего, кроме отвращения к мужу и к самой себе. Почему это люди, окружающие ее, считают естественным, что этот человек распоряжается ею, как своею собственностью! Даже родители Фыонг не видят в этом ничего дурного. Пожизненное право, и никого не интересует ее воля, ее желание! Выходит, замужество – это пожизненное заключение! И что бы она ни предпринимала, ей не вырваться из этой тюрьмы, ибо она прекрасно понимает: перед законным правом мужа она бессильна. Тем более что в руках у мужа – власть. Он мог шутя смешать ее с грязью, и все вокруг, в том числе и ее родители, считали бы его правым. Ему достаточно было напечатать в газете всего несколько строк, к примеру что он снимает с себя ответственность за поступки Фыонг, и этого было бы вполне достаточно, чтобы в глазах людей ее круга, или, как их называли в столице, «людей с положением», она стала отверженной. Если он не захочет дать ей развод, она ничего не сможет сделать. Она хорошо помнит тот случай, когда Мон арестовал учительницу уездной школы, а потом еще несколько человек. В тот вечер она приехала из Ханоя часов в девять вечера. И едва переступила порог уездного управления, как из расположенного по соседству военного поста донеслись глухие удары, крики и высокий, похожий на визг, голос мужа: «Говори! С кем была связана? Кому передавала деньги? Скажешь?..» Потом снова эти ужасные звуки ударов. Фыонг, замерев от ужаса, проскочила мимо поста в здание управления. А ведь он занимался этим все годы, пока они жили вместе, и прежде она не обращала на это внимания! С той поры каждый раз, когда муж начинал расспрашивать ее о чем-нибудь, в ушах у нее невольно звучали те слова: «Говори!.. Говори!.. Скажешь?» Счастье еще, что у них не было детей. Хоть здесь она оказалась достаточно разумной. Ведь если бы у нее был ребенок, который походил бы на отца чертами лица, характером, она сейчас, наверное, возненавидела бы собственное дитя! Да, это счастье! Несмотря на все упреки мужа, ей все-таки удалось избежать ребенка. Пожалуйста, говорила она мужу, пусть он заводит себе ребенка от кого угодно, она не возражает!
Стоя перед зеркалом, Фыонг продолжала приводить себя в порядок, как вдруг в дверь постучали и дверная ручка повернулась.
– Ханг? Входи, дверь открыта!
Фыонг улыбнулась. Неприятные мысли разом вылетели из головы.
– Взгляни, Ханг, как тебе нравится этот свитер?
Фыонг повернулась вполоборота, с довольным видом разглядывая в зеркале свою обтянутую шерстяным свитером стройную фигуру, высокую девичью грудь. Этот свитер делал ее чем-то похожей на мальчишку, он явно молодил ее и очень шел ей.
Ханг только покачала головой за ее спиной:
– А ты не думаешь о том, что станут говорить люди?
– Чего мне бояться, пусть себе говорят!
– Тогда я молчу. Да, ты, наверное, еще ничего не знаешь! Сегодня весь город переполошился!
– Что там еще произошло? – Фыонг подвела брови и повернулась к Ханг. – Ну, вот и все. Ты завтракала? Садись поешь со мной.
Сестры сели за стол. Маленькими кусочками откусывая бисквит, Ханг внимательно рассматривала сестру:
– Знаешь, Фыонг, у нас сегодня не будет никакого концерта.
– Вот тебе на! Почему?
– Какие уж тут концерты! Сегодня все идут разрушать памятники в скверах.
– Какие еще памятники?
– Французские! Только памятник Пастеру не тронут, а всех этих генерал-губернаторов и губернаторов сегодня непременно уничтожат! На что они нам, это же позор нашей страны! Я после завтрака тоже туда пойду.
– Пойдешь разрушать памятники?
– Нет, на демонстрацию. В десять часов ханойские студенты собираются у общежития и с национальным флагом пройдут по улицам в знак того, что они приветствуют независимость!
– Тоже мне независимость! Китайцы смеются, французы плачут, японцы в тревоге, а наши независимые аннамиты подыхают с голоду…
– Как ты можешь такое говорить?
У Ханг от обиды на глаза навернулись слезы. Фыонг примирительно улыбнулась:
– Люди так говорят. А что, разве не правда?
– Что же ты предлагаешь? Сидеть сложа руки и ждать?
– Я ведь ничего не говорю. Иди куда хочешь. Но тебе не мешает быть поосторожней. Лучше не связываться.
– Да, сейчас такая заваруха! Я как-то шла по Чангтиен, смотрю, японская военная полиция оцепила гостиницы, забирают французов. Мадам ревут, цепляются за своих мужей, но японцев не очень-то растрогаешь, они словно каменные. На улице Зялонг хулиганье начало грабить французские виллы.
– Вот-вот, я об этом и говорю!
– На днях японцы явились и к нам в общежитие, потребовали, чтобы мы вывесили японское знамя. Но мы и не подумали. Повесили вьетнамское, желтое. Во всех газетах пишут, что необходимо в учреждениях заменить французских служащих вьетнамцами, требуют предоставить независимость стране.
Ханг замолчала, глядя на сестру блестящими глазами. У нее даже щеки раскраснелись от волнения.
«Сестренка совсем стала взрослой, – подумала Фыонг. – Расцвела. Интересно, была ли она уже влюблена?»
А Ханг смущенно молчала, точно не решаясь сказать что-то.
– Ну, что у тебя еще?
– Мне кажется…
– Что?
– Понимаешь, люди умирают с голоду, а мы живем… Мне как-то не по себе… Ну, я пойду, а то уже поздно.
Ханг встала из-за стола.
– Приходи днем, пообедаем вместе.
– Не знаю. Дел масса, одно цепляется за другое, не могу даже сказать, сумею ли выбраться. Ты лучше не жди.
– Ну что ж, твое дело. Можешь идти куда хочешь!
Фыонг вспыхнула. Ей вдруг почему-то стало грустно. Конечно, сестренка права. Но ей-то легко говорить, попробовала бы она побыть в ее шкуре! Все отвернулись от нее, даже собственная сестра! Волны жизни прибили ее лодку к пустынному берегу, она осталась в полном одиночестве.
Ханг молча направилась к двери. Фыонг продолжала сидеть, не глядя на нее.
– Фыонг… – робко позвала Ханг.
Фыонг молчала.
– Я чуть не забыла. Тоан просил передать тебе записку.
– Оставь ее там.
И тут только Фыонг очнулась:
– Тоан? Твой учитель музыки? Какую записку?
Но Ханг уже была за дверью.
И зачем это учителю музыки понадобилось писать ей записки? Все еще сердитая на сестру, Фыонг подошла к дивану, взяла конверт и пробежала записку.
– Ханг! Ханг!
Фыонг распахнула окно и стала кричать вслед сестре, но велосипед Ханг уже скрылся из виду. Фыонг, побледнев, опустилась на диван и снова принялась перечитывать прыгающие строчки коротенькой записки.
«Вы, вероятно, еще не знаете, что в этот понедельник ночью умер Ты. Перед смертью он просил меня…»
7
Листья казуарины, росшей на кладбище, неподвижно застыли, словно повисли в дождевой пыли. Фыонг шла среди могильных холмов по тропинке, вымощенной кирпичом. С тонкого резинового плаща, накинутого на плечи, струйками стекала вода. Тропинка кончилась, и в конце кладбища, почти у границы рисового поля, Фыонг увидела несколько свежих могил… Она остановилась, не зная, как лучше пройти к ним.
По-видимому, это где-то здесь. Фыонг наклонилась над промокшими, выпачканными в земле венками и стала читать размытые дождем надписи на лентах. «С почтением чтим память души усопшего…» Это не то. «С почтением чтим…» Нет. «Скорбим о ней…» Наверное, вон та! На свежем холмике в самом конце ряда лежал одинокий венок. Написанные фиолетовыми чернилами буквы расплылись, так что Фыонг едва прочла: «Прощай, Ле Ты!» Так вот где ты лежишь!..
Фыонг машинально опустилась на землю. Ты, родной мой, я так виновата перед тобой!.. Видишь, я пришла к тебе, твоя Фыонг!.. Фыонг зарыдала, уткнув лицо в ладони…
Почему тебя больше нет, почему ты лежишь в земле, а я сижу здесь, под этим небом! Бедный ты мой, несчастный! Как же все это случилось!..
…Дождевая пыль пропитала волосы, Фыонг надела на голову косынку. Она неподвижно стояла перед могилой, погрузившись в горестные мысли. Потом, вспомнив, вынула из плетеной сумочки пачку благовонных палочек, зажгла их и старательно воткнула одну за другой в землю. Над могилой поплыли серые струйки. Фыонг поднялась, сложила ладони перед грудью и, отдавая последнюю дань другу, потрясла ими. Прими мой прощальный привет, Ты! Слезы бежали по ее щекам. Разве могла она предполагать, что все так кончится! Теперь уже ничего не возвратить, и Ты не воскреснет… Фыонг закрыла лицо руками и снова разрыдалась.
Кладбище хранило мертвую тишину, вокруг Фыонг не было ни души, одни серые могилы. Фыонг вдруг стало жутко. Благовонные палочки почти догорели. Фыонг оглянулась, поспешно вытерла слезы и пошла к выходу. Выйдя за ворота, она достала из сумочки зеркальце, поправила волосы и, увидев, что у нее глаза покраснели от слез, надела темные очки.
Улицы на окраине, где находилось кладбище, были грязные, дождь продолжал моросить, но Фыонг сняла косынку и шла с непокрытой головой. К счастью, через некоторое время ей встретился рикша. Она ехала домой, поглощенная собственными мыслями, не замечая ничего вокруг. На какой-то улице мимо них с ревом пронеслась японская военная машина, обдав их грязью. Старый рикша недовольно заворчал что-то себе под нос. То и дело навстречу им попадались запряженные быками повозки, на которых перевозили трупы умерших от голода людей. Все уже настолько привыкли к этим страшным повозкам, что почти не обращали на них внимания. Фыонг тоже перестала бояться мертвецов, только каждый раз внутри у нее что-то словно сжималось при виде этих черных, сухих, словно дрова, рук и ног, которые подпрыгивали на каждой кочке, при виде грязных лохмотьев, пыльных жестких волос. Куда их везли? Говорят, где-то на окраине города, в районе Зяпбат, каждый день подготавливали огромную яму и все трупы, подобранные на улицах города, сваливали туда, точно мусор, и, когда заполняли яму почти доверху, все посыпали слоем извести и заваливали землей… Так что Ты еще повезло – друзья похоронили его на кладбище в отдельной могиле!
Недалеко от Озера Возвращенного Меча рикша остановился, путь ему преградила толпа людей с флагами и транспарантами. Опять демонстрация! Фыонг расплатилась с рикшей и стала пробираться сквозь толпу зевак на тротуаре. В демонстрации принимали участие сотни две-три школьников, студентов, но было и несколько взрослых мужчин, судя по всему, служащих учреждений. Были тут и люди неопределенных занятий, в одежде, напоминавшей японскую военную форму. Они шли колоннами, и в каждой – свое знамя и лозунги: «Да здравствует независимый Вьетнам!», «Да здравствует Великая Восточная Азия!», «Вьетнамским служащим – учреждения!», «Молодежь, вступай в ряды национал-социалистического союза молодежи!»… Демонстранты шли, заполнив всю проезжую часть улицы, выкрикивая на ходу лозунги. Каждую колонну возглавлял человек в одежде цвета хаки, который либо отдавал команды в рупор, либо подавал сигналы пронзительным свистком. На тротуарах по обеим сторонам улицы толпились зеваки, а в хвосте колонн шествовали мальчишки. И эта шумная оживленная процессия преграждала путь всякому движению на улице.
Увлекаемая толпой, Фыонг дошла почти до набережной и очутилась против полицейского участка на Барабанной. Над главным жандармским учреждением, находящимся в самом центре столицы, развевался флаг с восходящим солнцем, а по обе стороны от входа стояли японские часовые. Голова колонны демонстрантов поравнялась с участком. Какой-то парень в военной форме и в нарукавной повязке с красным пятном выскочил из рядов, подбежал к японским часовым и несколько раз низко поклонился им. Потом он выпрямился, гордо выпятил грудь и с воинственным видом вернулся в строй, чеканя шаг и подавая команды свистком.
– Ну что за прелесть! Какое счастье!
– Ладно, иди, неужели не тошно смотреть!
– Подожди, дай полюбоваться.
Фыонг оглянулась. Двое говоривших тоже быстро оглядели Фыонг. И тут она узнала в одном из них Донга, того самого футболиста, который произвел на стадионе такое впечатление на нее. Она тогда даже захотела с ним познакомиться, но вскоре позабыла об этом. У второго, в надвинутом на лоб берете, было желтое одутловатое лицо, яркие, глубоко запавшие глаза смотрели насмешливо и настороженно. Фыонг выбралась наконец из толпы и, спустившись к озеру, быстро зашагала домой.
Весь вечер Фыонг не находила себе места и с нетерпением ждала сестру. А Ханг как назло все не шла. Взгляд Фыонг невольно упал на портрет, и она принялась разглядывать себя на портрете – Ты писал этот портрет, когда они еще только познакомились. Она и сама затруднялась определить, почему эта картина, знакомая ей уже более десятка лет, сейчас предстала перед ней в совершенно новом свете. Она вдруг впервые поняла, какими глазами смотрел на нее тогда Ты, какую любовь, чистоту и веру он вложил в эту картину. Юная Фыонг там, на портрете, была словно окружена каким-то нежным, трепетным сиянием! Боже мой, как она раньше этого не понимала! Неужели у нее тогда не хватило разума, чтобы понять его! Да, ей нравились тогда лишь лесть и комплименты, она жаждала счастья, мелкого, мещанского счастья. И получила по заслугам – потеряла такую любовь!
Теперь уж ничем не возместишь потерянного! Это чистое сияние, которым он окружал ее тогда, она променяла на блеск и мишуру, превратившиеся в груду мусора! Теперь все кончено, прошлого не вернешь, а жить так, как она жила все эти годы, она уже не сможет! При одной мысли об этом ее мутило от отвращения и презрения к самой себе.
Фыонг не заметила, как наступила полночь, но ложиться не стала – все равно она не уснет. Фыонг вдруг вспомнила, что еще не ужинала. Она стала разжигать примус, чтобы подогреть рисовый суп, но, как только вспыхнуло синее пламя денатурата, в памяти вдруг возник тот вечер, когда к ней пришел Ты и она кормила его… Она чуть не разрыдалась. Он сидел вот на том стуле, голодный, несчастный… Во всем мире только он один любил ее по-настоящему, любил всю жизнь, до последнего дыхания!.. Горький ком подкатил к горлу, глаза наполнились слезами…
Когда она легла, было уже почти четыре утра. Фыонг чувствовала себя разбитой, в голове был какой-то сумбур. Она устала так, что, казалось, не может пошевелить ни рукой ни ногой, но сон все не шел… На минуту Фыонг вроде бы задремала. Она вдруг ясно увидела Ты, он открыл дверь, подошел к изголовью и стал смотреть на нее… Она вскочила, испуганно озираясь, но в комнате, кроме нее, никого не было. Сердце судорожно колотилось в груди. Она долго не могла успокоиться, руки дрожали… Конечно, в комнате никого нет, только ночник освещает постель неярким светом… Фыонг еще раз посмотрела на другой конец стола, где сидел Ты в тот вечер… Он сказал тогда, что она должна начать жить по-новому. Но как? Разве она могла вернуть ушедшие годы? Ее жизнь, ее счастье – все прошло, все потеряно, у нее ничего не осталось. А все то, что окружало ее, – люди, вещи, все связывало ее по рукам и ногам, цепями приковывало к прошлому, к человеку, который становился ей все более омерзительным. И она ничего, ничего не могла поделать! Оставался лишь один выход: умереть! Да-да, у них есть право распоряжаться ее жизнью, но они не смогут помешать ей умереть, тут они бессильны!
Фыонг снова легла, закрыла глаза, прислушиваясь к тиканью будильника на тумбочке у кровати. Часы стучали тихо, мерно и торопливо, словно с волнением следили за ходом ее мыслей. Да, Фыонг вправе сама распорядиться своей жизнью, и в этом ее счастье. Если бы у них была власть помешать ей в этом, было бы совсем невыносимо! Фыонг нашла в тумбочке флакон с люминалом. Подумать только, вот они, ключи к ее освобождению, – десяток белых таблеток! До чего просто! Вот теперь она сумеет разорвать путы, избавиться от всего разом! Она приподнялась на локте, налила в стакан воды и высыпала на ладонь таблетки. Ужасно! Скоро шесть часов.
Фыонг села на постели, взяла в рот таблетки и, запрокинув голову, запила водой. Потом спокойно поставила стакан на тумбочку, легла, натянула одеяло до самого подбородка и, закрыв глаза, стала ждать. В душе было пусто – ни грусти, ни радости и никаких мыслей…
Утром Ханг пришла навестить сестру. Она долго стучала, но никто не открывал. Наконец хозяйская девочка пролезла в окно и отворила дверь. Фыонг уже ничего не слышала…
8
Наступил март, а ночи еще были холодные. Неосвещенные вагоны железнодорожного состава бежали по рельсам, постукивая на стыках, в мертвенном свете тусклой луны. Маму пришлось ехать в тамбуре вагона четвертого класса, потому что вагон был забит до отказа и все везли корзины, кошелки, коромысла. Время от времени холодный ветер бросал в лицо Маму капли дождя, но он не замечал этого и не отрываясь смотрел на знакомые просторные поля за окном. Почти у самого полотна дороги мелькали крохотные поселки, и тогда стук колес становился громче, усиливаясь среди крытых соломой лачуг, в окнах которых мерцали тусклые огоньки лампешек. А поезд все катил и катил сквозь ночь. Мама вдруг поразила молчание, которое царило в вагоне, хотя он был набит так, что яблоку негде было упасть. Даже во время остановок, когда одни протискивались к выходу, а другие молча, яростно атаковали подножку, не было произнесено ни единого слова, точно эти люди были немые – они молча толкали друг друга в темноте, молча боролись за место. До чего печальна эта ночь – ночь его возвращения домой!..
Странное дело, всего несколько дней назад Мам находился в лагере где-то в глухих лесах, а сейчас вот едет в поезде, и еще немного – он услышит знакомый плеск волн Лыонга. Раскачиваясь в темном вагоне, Мам вдруг отчетливо вспомнил тот день, когда им удалось бежать. С утра он с несколькими ребятами ушел в лес за дровами, а когда они возвратились, то увидели, что губернатор провинции и начальник лагеря стоят, окруженные заключенными. Впереди всех – Лыонг, выборный от заключенных, в рубашке и коротких штанах, что-то раздраженно доказывает, яростно жестикулируя. Кольцо заключенных постепенно все теснее сжимается вокруг европейцев. Потом Мам издали увидел, как Лыонг вдруг взмахнул худыми руками и упал, а из рядов заключенных кто-то кинулся на губернатора и повалил его на землю. Все смешалось. Мам отбросил вязанку дров, успев только подумать: «Наверное, сорвалось!» И как бы в ответ со всех сторожевых вышек загремели выстрелы. Толпа заключенных кинулась к воротам, потом, словно прорвав плотину, они врассыпную бросились по окрестным холмам и полям к лесу. Мам с ребятами тоже побежал. Над головой засвистели пули. Винтовочные выстрелы гремели но переставая, но часовые-вьетнамцы стреляли, видно, больше в воздух, и через несколько минут лагерь опустел.
До чего же обидно! Мам даже топнул ногой. Обидно за тех ребят, которые так бессмысленно погибли в тот день. Не получилось у них ни восстания, ни побега. А ведь победа была уже почти в их руках, но все сорвалось… После японского переворота солдаты – и вьетнамцы и французы – стали постепенно разбегаться из лагеря. Перепуганный начальник лагеря стал приходить в бараки, теперь он заговорил с заключенными совсем другим языком. Многие предлагали покончить разом со всеми, но товарищи из руководства все тянули, не давая определенного ответа. Все не могли решить, что лучше – устроить восстание и захватить лагерь или организовать массовый побег. Пока они готовились, из провинции неожиданно приехал губернатор для переговоров с заключенными. В первый раз они ни о чем не договорились, тогда он пришел снова. И вот, когда, казалось, вот-вот они договорятся, все неожиданно сорвалось. Такая обида!
Распухшие ноги гудели от усталости. Мам уселся на пол тамбура, спустив ноги на подножку. Под мерный перестук колес хорошо думалось. Интересно, где он найдет пристанище? Ребята из лагеря разбежались кто куда, лишь бы поскорее скрыться от охранников, потом они встречались в лесу, собирались группами и вместе продолжали путь. Попутчиками Мама стали Мок из Хайфона и бонза Нанг из Хайзыонга, а позже к ним присоединился еще ханоец Дык. Бежали кто в чем был, захватить одежду в лагере не удалось. Хорошо еще, что у Нанга оказался десяток донгов – ему недавно прислали деньги из дому – да у кого-то нашлась коробка спичек.
…Дни, которые им пришлось провести в лесу, верно, никогда не изгладятся из памяти! Лес точно издевался над ними. Утром они вышли из небольшой горной деревушки, шагали бодро, преодолевали бесчисленные кручи, чащобы, а часам к четырем вышли опять к тем же домам на сваях!.. Кого только им не приходилось встречать в пути: и обезьян, и питонов, и тигров… По ночам, лежа в каком-нибудь шалаше, оставленном местными жителями на дереве, и слушая протяжные вопли лани, Мам испытывал такую тоску, что у него все переворачивалось внутри. Но мучительнее всего были голод и страх при приближении к населенным пунктам. Несколько раз они, отчаявшись, шли в деревни и просили что-нибудь поесть… Однажды забрались на чье-то поле и решили поживиться овощами. В другой раз целый вечер просидели в какой-то расселине, по которой протекал ручей, и, дрожа от холода, прислушивались к стуку водяной крупорушки. Когда стемнело, они пошли на этот звук, надеясь добыть рису. Дык приготовил даже «мешок» – снял с себя шаровары и связал концы штанин. Но едва в темноте показалась крупорушка, как послышался собачий лай и тут же из ближайшего дома вышли люди с факелами. Мам с товарищами снова спрятался в кустах. Несколько человек – видно, они были из народности тхай – подошли к крупорушке и вычерпали ее содержимое. Беглецы старались избегать больших многолюдных поселков, и все же несколько раз их чуть было не схватили. Впервые это случилось, когда они вышли из леса и перед ними раскинулся простор рисовых полей. Они шли счастливые, радостно смотрели по сторонам и вдруг нос к носу столкнулись со старостой, который шел в сопровождении сельских стражников с ружьями на плечах. Беглецы тут же свернули с дороги и бросились бежать к лесу, не обращая внимания на крики старосты и выстрелы. В другой раз, когда они подошли к большому селу, придумали маскировку – каждый собрал по вязанке хворосту и так, с вязанками, они подошли к деревне. Нагнав стражника, у которого не оказалось оружия, они прошли по деревне, болтая с ним о том о сем, и тут неожиданно увидели в каком-то дворе двоих связанных мужчин. Неизвестно, были ли это такие же беглецы из лагеря или еще кто-нибудь, но друзья примолкли и, как только миновали деревню, побросали свои вязанки и исчезли в лесу… Был еще комичный случай: однажды, спускаясь вдоль речушки, они вдруг увидели, как впереди зашевелился куст. Они спрятались на берегу и стали наблюдать за кустом. Тот все шевелился, ветки наклонялись то вправо, то влево. Наконец Мок не выдержал, осторожно подобрался поближе и расхохотался: куст шевелился, потому что его ветви свисали в воду, а как раз под ним был небольшой водоворот.
Дни проходили за днями, ребята заметно осунулись, волосы у них отросли, одежда превратилась в лохмотья и держалась лишь на бечевках из лыка. Горная речушка, вдоль которой они спускались, стала заметно полноводнее. Путь им не раз преграждали потоки, которые стремительно неслись с гор, и по тому, как изменялось их течение, чувствовалось приближение долины. Наконец как-то к вечеру они вышли к рисовым полям. Они смотрели на зелень полей и все не могли насмотреться. На другом берегу они увидели двух женщин из народности мыонг в черных шароварах и длинных платьях, волосы у них были собраны в узел на затылке, женщины стирали. «Смотрите!» – шепнул Нанг. Но высунуться из кустов они все-таки побоялись. Так и шли, прячась за кустами, вдоль берега. Потом щи еще попадались группы женщин, одетых так же, как и те две, одни рушили рис, другие несли воду. Женщины эти казались им неземными существами, какими-то феями. Деревни стали попадаться чаще, дома стали больше. У жителей удалось узнать, что они где-то на подходе к провинциям Сонла и Футхо. В какой-то деревне купили, рису, кукурузы, жители рассказали, что французы, удирая отсюда, начисто обобрали крестьян, так что, к сожалению, они не могут помочь «ребятам». Услышав слово, «ребята», они едва сдержали слезы. Эту ночь они впервые провели под крышей, а на дорогу им дали несколько комков клейкого риса.
На следующий день, когда они немного отошли от деревни, Мок почувствовал резь в животе, такую острую, что то и дело бессильно опускался на землю, обливаясь холодным потом и сплевывая темную слюну. «Если это кровотечение, дело плохо!» – тихонько сказал Дык Маму. Они тронулись дальше, поддерживая Мока, пока не приблизились к перевалу. Дорога здесь круто забирала вверх. Взглянув на нее, Мок покачал головой: «Оставьте меня здесь, идите дальше одни!» Но никто из них не решился оставить товарища. Пока обсуждали, что делать дальше, с перевала спустились трое парней в беретах, в синих шароварах, с плотницким инструментом в плетеных кошелках. Незнакомцы уселись неподалеку от них на землю и приготовились поесть.
– А что, ребята, соли не найдется? – Нанг подошел к парням.
– Найдется, – ответил один из них.
Он вынул из кошелки соль и протянул Нангу пригоршню.
– Большое вам спасибо!
– Не за что, люди в пути должны помогать друг другу.
Незнакомцы поели и двинулись в путь.
Когда они поравнялись с Дыком, тот проводил их внимательным взглядом и пробормотал: «Что-то подозрительны мне эти плотники!» Потом быстро вскочил и бросился вдогонку, крича: «Постойте, постойте!» Мам и Нанг побежали следом. Незнакомцы остановились.
– Ребята, вы случаем не из лагеря? – спросил Док, который подбежал первым.
– Из какого лагеря! Плотники мы, не видишь, что ли!
– Что-то личности мне ваши знакомы. Вы в Сонла случайно не были? Кхая и Сонга не знаете ли?
– А вы откуда?
Дык назвал свой лагерь, и «плотники» возбужденно зашумели:
– Неужели оттуда? Значит, ваш лагерь тоже разбежался? В вас стреляли? Убитые были?
Наконец Дык спросил:
– Как там дорога?
– Скоро будет пост Ванг, потом, как пройдете перевал, дорога идет по равнине, тут уж совсем легко, села будут чаще попадаться, уже не страшно.
– Ну ладно, идите, а нам еще отдохнуть нужно.
Они попрощались. Трое друзей вернулись к Моку.
– Да мы уже почти пришли, оставьте меня здесь, а сами идите дальше, не задерживайтесь, – уговаривал их Мок.
– Нет, нам нужно разделиться, – сказал Мам. – Дык с Нангом пусть идут, а я останусь с Моком. Станет ему полегче – тронемся дальше, а если будет хуже, вернемся с ним в деревню, а я потом доберусь до дому один.
– Ну что ж, пожалуй, ты прав, – согласился Дык. – Придете в Ханой, разыщите переулок Кхамтиен и дом, о котором я вам говорил. А я постараюсь к вашему приходу уже связаться с организацией.
Нанг достал деньги и, разделив их поровну, половину отдал Маму.
Когда двое друзей уже почти скрылись из глаз, Мок принялся ворчать:
– И чего ты остался? Тоже называется революционер! Жалость проявил!..
– Да ну тебя. Давай-ка лучше вскипятим воды, сварим чего-нибудь поесть. А то у меня живот подвело.
Мам усадил друга под дерево, а сам сходил с бамбуковым ведром за водой и, набрав сухих веток, разжег костер.
…Спустя три дня Мам довел друга до уезда Чуангха. На пароме они молча сидели среди пассажиров, похожие на двух нищих бродяг – оборванные, с желтыми изможденными лицами; на них было страшно смотреть. Так же молча сошли они на берег и, только отойдя на порядочное расстояние от берега, Мок остановился:
– Все. Дальше доберусь сам. Теперь уж не помру. А ты поезжай в Ханой, разыщи Дыка. Потом, наверное, вернешься к себе в Хайзыонг?
– Ага… А ты теперь куда думаешь податься?
– К сестре, в Виньиен. Здесь недалеко. Поживу у нее несколько дней, подлечусь, тогда будет видно. Наверно, поеду в Хайфон, разыщу Гай.
– Держи деньги, они тебе пригодятся.
– Зачем они мне, теперь уж мне недалеко до своих!
После долгих препирательств они согласились поделить деньги поровну, и Мам чуть не силой сунул Моку три бумажки.