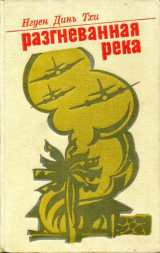
Текст книги "Разгневанная река"
Автор книги: Нгуен Динь Тхи
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
Сверху, из комнаты Ханг, доносились звуки фортепиано. Ханг решила заняться музыкой и настояла, чтобы родители купили ей инструмент.
Мать сидела против Фыонг, жевала бетель и слушала жалобы дочери на мужа. Она молчала, желая сначала выяснить, не произошло ли у них чего-нибудь серьезного. Когда же Фыонг заявила о своем намерении переехать в Ханой, мать возразила:
– Твой муж, дочка, прав, что скупает землю. Дело это верное. Он ведь долго прикидывал, прежде чем окончательно решить. Конечно, на торговле можно быстрее разбогатеть, но уж больно цены теперь неустойчивы. Да и хлопот не оберешься, ни минутки свободной нет. Я и сама подумываю купить подходящий участок.
– Я же, мама, не говорю, что не нужно покупать землю. Но откуда денег взять? Может быть, ты одолжишь?
– Вот тебе на! У ее мужа такой пост, и они – без денег! Надо что-то придумывать, а не сидеть сложа руки!
– Муж получает всего несколько сотен в месяц. Едва хватает на питание, на содержание машины да на гостей. А побочные доходы в этом уезде – пустяковые! Вот и получается, каждый год из моих денег исчезают тысячи, как ни выкручивайся.
– Ну и что же ты надумала? – Мать сплюнула красную от арековой кожуры слюну и повернулась к мужу: – Нет, нынешним детям палец в рот не клади! Только и знают, что обирать родителей.
Ить Фонг нагнул к себе мундштук кальяна, неторопливо затянулся и, отправив в рот очередную щепоть сладостей, издал какой-то неопределенный звук. Было не понятно, на чьей он стороне: матери или дочери.
Фыонг рассмеялась:
– Не удивительно, что я прошу у вас взаймы, даже друзья говорят: не зря родители нашли тебе любящего жениха, таким и приданого меньше дают.
– Ах ты неблагодарная! А десять тысяч, что я тебе дала, – на дороге, по-твоему, валяются? А свадьбу какую сыграли, это не в счет?!
Глава семейства снова издал неопределенный звук, точно прочищая горло. Ему давно наскучил этот разговор, и он уже подумывал: не пойти ли заняться соловьем или аквариумом с рыбками, которых нельзя надолго оставлять без присмотра, но боязнь вызвать неудовольствие жены вынуждала его оставаться на месте. Однако, когда пакет со сладостями опустел и ему больше нечем было заняться, старик не выдержал, спустил ноги с топчана, нашарил шлепанцы и тихонько удалился в соседнюю комнату.
Фыонг продолжала улыбаться:
– Да развел упрекаю тебя, мама! Я ведь, ты знаешь, человек нетребовательный, но ты сама посуди: жена начальника уезда, а в Ханое негде даже гостей принять. Надо мной и так все уже смеются. И муж не продвигается по службе, потому что я ни с кем не общаюсь. Купила бы ты мне в Ханое дом, я бы смогла переехать сюда и сделала бы гораздо больше, чем сидя в провинции. К тому же дом и вам пригодится. Ханг подрастет, соберется замуж, дом ей как раз и будет кстати. У меня нет никакого желания вечно сидеть на родительской шее, поэтому я и хочу просить у тебя взаймы некоторую сумму, чтобы начать свое, пусть даже небольшое дело.
– Взаймы, говоришь? – Мать выплюнула бетель в медную плевательницу и прополоскала рот. – Сколько же тебе надо?
– Я думаю на паях с друзьями открыть на улице Быой фирму по производству бумаги. Тысяч двадцать мне бы было достаточно.
– Фирму, говоришь? Двадцать тысяч?
– Всего нужно будет тысяч пятьдесят. Двадцать – это только мой пай. Бумага сейчас – дефицит. Подвоз из Франции прекратился, а японцы поставляют ее слишком мало. Вот французы и разрешили нам производить собственную бумагу. С бумагой сейчас то же, что и с тканями. Разрешение на открытие фирмы у нас уже есть. Мы будем производить типографскую бумагу и бумагу для пишущих машинок. На этот товар сейчас самый спрос. Дело, мама, верное!
– Пожалуй, что так. Даже японцы, я смотрю, стали приглядываться к нашим тканям. Японка, которую ты видела у меня сегодня, расспрашивала, где у нас производят муар. Хотят продавать в Японию… Так, значит, решила взять у меня взаймы двадцать тысяч?
– Это только чтобы открыть производство бумаги. Но я думала заняться еще и торговлей.
– Чем же хочешь торговать?
– Да мало ли сейчас товаров! Были бы деньги – скупай любой товар и придерживай до поры до времени. Цены растут, а деньги обесцениваются. Банк тайно выпустил большое количество бумажных денег, чтобы оплатить содержание японской армии. Только об этом, мама, никому ни слова. Я случайно узнала от мужа. Обеспечить золотом они эти бумажки, конечно, не смогут. Вот я и думаю: сначала надо скупать золото, а за золото можно потом приобрести все, что хочешь, – мыло, табак, пряжу. Сейчас все деньги.
Мать положила на лист бетеля комочек извести, кожуру арека и, завернув все это, сунула в рот.
– Ладно, дочка, помогу! Все эти годы ты только развлекалась, а сейчас, видно, взялась за ум. Но согласится ли муж, чтобы ты переехала в Ханой? Закрутит он там без тебя. Да и самой не мешает быть поосторожнее, он ведь не дурак.
– Я не боюсь. Заведет любовницу – брошу! Но это так, к слову. Вряд ли он решится. А на мелкие его интрижки мне наплевать… Так ты мне дашь тысяч пятьдесят?
– Пятьдесят у меня найдется. Правда, самим придется ужаться. Дам для начала тысяч тридцать, погляжу, что у тебя выйдет. Сумеешь как следует распорядиться ими – дам и остальные.
– С тридцатью не развернешься! Дай хоть сорок. Я уже и товар присмотрела, дело за деньгами. Куплю – и тебе кое-что подброшу. Ты на этом только выиграешь.
– Ну а сколько процентов дашь?
– Тысячу в месяц. Ты все-таки мне мать, должна хоть немного уступить!
Мать выплеснула остатки чая, заварила свежий.
– Иди, выпьем чаю. Ханг который уже час играет, как только не надоест! Нашла себе учителя, увальня какого-то, посмотреть не на что.
Фыонг поняла, что переговоры с матерью закончились успешно.
– Ханг уже совсем взрослая, и я, мама, серьезно говорю: нужно купить небольшую виллу в европейском стиле. Молодежь теперь тянется к новому, и, если вы будете продолжать жить по старинке, останется она без жениха!
– Я и по старинке-то едва концы с концами свожу!
Звуки фортепиано стали громче, быстрее и наконец смолкли.
– Ханг! – позвала мать. – Спустись, посиди с нами.
16
Обставленная новой мебелью, квартира стала еще уютнее. На окна Фыонг повесила кружевные шторы, пол застелила пестрыми фатзьемовскими циновками. Уж эту-то квартиру она обставит по собственному вкусу.
Когда ушли рабочие мебельной мастерской, Фыонг села в кресло и задумалась. Новой ее квартире все-таки чего-то не хватало, чтобы этот дом стал ее настоящим домом. Мебели было вполне достаточно, она была красива, изящна и подобрана по собственному вкусу, однако все здесь было какое-то чужое, не хватало связи с прошлым, романтики воспоминаний, радостных и печальных. Фыонг охватила глубокая грусть. Ведь жизнь ее могла сложиться совсем иначе! Ей казалось, что она безвозвратно потеряла, упустила свою жизнь, как опоздавший пассажир пропускает свой рейс.
Теперь, когда она обрела наконец столь желанную свободу, она не знала, что с ней делать! Фыонг сидела у окна и безучастно смотрела на улицу. Здесь у нее не было ни одного знакомого, и ей вдруг показалось, что ее прежняя жизнь осталась где-то далеко-далеко.
Решение созрело внезапно. Она подошла к новенькому трельяжу, привела себя в порядок, вышла на улицу и, подозвав рикшу, велела ехать на Корзиночную улицу.
Не доезжая до дома Ты, Фыонг, как и тогда, год назад, отпустила рикшу и пошла пешком. Она снова идет знакомой улицей! За этот год она успела сделаться женщиной вольного поведения. Теперь ее можно было назвать испорченной, хотя удовольствия в жизни она искала не так, как их ищут мужчины. Среди ее окружения так и не нашлось человека, которого она смогла бы полюбить. В течение всего этого суматошного, бестолкового года Фыонг ни разу не зашла к Ты, ни разу не дала о себе знать, а если и вспоминала о нем, то очень редко. Любовь Ты представлялась ей единственным огоньком, который еще теплился в ее неудачной жизни. Зачем она явилась сюда и чего, собственно, ждет от этой встречи? Какой-то внутренний голос говорил Фыонг: «Оставь его лучше в покое. Не причиняй ему страданий и не сжигай себя подобно мотыльку, летящему на огонь!» Но она не могла совладать с собой и продолжала идти. Ей казалось, если сейчас она не встретится с ним, они уже никогда в жизни больше не увидятся, а если даже увидятся, то разойдутся, как чужие.
Войдя в сырой, темный, пропахший помоями дворик, Фыонг остановилась перед крутой лестницей, чувствуя, что мужество изменяет ей. Еще не известно, дома ли Ты? И как он ее встретит?
Опираясь на шаткие железные перила, Фыонг поднялась на раскаленную от солнца крышу-терраску. Ты не было дома. Дверь оказалась запертой, и на ней мелом было написано: «Уехал работать. Ключ здесь». Стрелкой было указано место под балкой, где лежал ключ. Фыонг рассмеялась. Вот чудак!.. Она нашарила ключ, отперла дверь и вошла в комнату.
Все та же убогая комнатушка. Фыонг скользнула взглядом по топчану, заметила на столе глиняный горшок с кистями – как все это было знакомо. У изголовья топчана и во всех углах стояли картины и подрамники, покрытые толстым слоем пыли. Фыонг принялась перебирать их, с любопытством рассматривая новые, еще не известные ей работы. Особенно понравились ей пейзажи, сделанные на берегу широкой реки. Что же до портретов, то это были по большей части морщинистые старухи да оборванные мальчишки – чистильщики обуви или девочки, торгующие цветами на улицах. На одном из полотен была изображена обнаженная женщина. Она сидела на стуле, грустная, с опущенной головой. Фыонг отошла немного, чтобы получше рассмотреть ее, и подумала: «Если бы он изобразил меня, картина получилась бы совсем другой!..» В ней смутно шевельнулось желание запечатлеть свое стройное, красивое тело на фотографии или полотне, пока оно еще не утратило привлекательности. Может, предложить Ты нарисовать себя обнаженной? Тхань Тунг долго добивался этого, но она так и не согласилась. Не потому, что стеснялась. Просто уже тогда он был ей противен. Но согласится ли Ты? Да и сама она вряд ли сможет позировать ему обнаженной.
Пересмотрев картины, она аккуратно сложила их и вышла на терраску. Когда же он вернется? Солнечные лучи золотили неровно торчащие крыши старых домов. Фыонг вернулась в комнату, отыскала на столе клочок бумаги, карандаш и, собравшись с мыслями, стала писать:
«Здравствуй, Ты!
Приходила, но не застала тебя дома. Нашла ключ, посидела у тебя в комнате и решила оставить записку…»
Фыонг остановилась, задумчиво повертела карандаш, потом решительно сжала губы и быстро застрочила:
«…Хочу тебя видеть. У меня теперь отдельная квартира, так что нашей встрече никто не помешает. Мне почему-то немного боязно того момента, когда мы снова встретимся с тобой! Интересно, почему?
Оставляю свой адрес. Приходи сегодня вечером. Только прошу: не заставляй меня томиться в ожидании».
Она возвращалась домой в состоянии какого-то опьянения от совершенного ею поступка. Она не ожидала, что сумеет так быстро и смело решить все проблемы. Да, только так и нужно!
Сегодня ханойские улицы казались Фыонг какими-то странными, точно все, что она видела по дороге, происходило не рядом с нею, а где-то в ином мире. Она двигалась в толпе, не сознавая, куда идет, а когда очнулась, оказалась на берегу Озера Возвращенного Меча. В цветочном магазине она купила букет желтых пионов, а на Чангтиен кое-что из еды.
Дома Фыонг сняла верхнее платье, подобрала волосы и, засучив рукава, принялась за уборку: мыла, чистила, подметала, расставляла, развешивала. По лицу струился пот, ломило спину, но Фыонг не обращала внимания на усталость. Работая, она старалась представить себе, как произойдет их встреча, как он войдет, как они поздороваются, заговорят. От волнения у Фыонг пересохло в горле, а сердце билось так сильно, что она несколько раз присаживалась на стул.
Когда в комнате все было прибрано и застеленный белой скатертью стол был накрыт, Фыонг зажгла все лампы и несколько раз вышла из квартиры и вновь вошла в нее, придирчиво осматривая комнату, что-то переставляя, подправляя, пока не осталась довольна. Потом отправилась в ванную.
Холодные струи приятно освежили кожу, заставили быстрее бежать кровь, а мохнатое полотенце сняло остатки усталости. Зеркало отражало ее розовое, по-прежнему стройное тело. Оно стало, может быть, чуточку более округлым, но это только придало ему больше женственности. Фыонг внимательно разглядывала мягкую линию спины, длинные ноги. Да, тело у нее действительно великолепное. А что, не предложить ли в самом деле Ты писать ее обнаженной?
Приведя себя в порядок, Фыонг переменила платье и села к окну поджидать Ты.
Догорала вечерняя заря. Сквозь ветви деревьев из окна хорошо была видна улица. Сейчас она была пуста, лишь время от времени проезжал велосипедист или рикша. Нетерпение Фыонг росло. Если Ты прочел ее записку, то он должен был бы уже прийти. Она снова – в который уже раз – посмотрела на часы. Неужели Ты не придет? Может быть, он еще не вернулся? Стрелки часов подошли к половине седьмого, потом к семи. Стемнело, но Фыонг продолжала напряженно всматриваться в вечерний сумрак. Ожидание превратилось в пытку. Может быть, еще раз сходить к нему, узнать, в чем дело? А что, если он просто не захотел прийти? На нее вдруг нахлынуло глубокое безразличие. Она закрыла глаза. Но почему?.. Тоска! Боже, какая тоска!..
Легкий стук в дверь заставил Фыонг встрепенуться. Стук повторился. Фыонг открыла дверь и увидела на пороге дочь жильцов с первого этажа.
– Вам письмо…
Фыонг сразу догадалась, от кого оно, но постаралась не подать виду:
– Кто тебе его дал?
– Приехал дядя, попросил передать и сразу же уехал.
– Давно? Какой он?
– Я не знаю, к нему выходила мама.
Фыонг взяла со стола горсть конфет и сунула девочке в руку.
– Скажи маме спасибо.
Когда дверь за девочкой закрылась, Фыонг прошла в спальню, села на свою новую кровать, зажгла ночной светильник у изголовья и вскрыла конверт. В нем оказалась записка. Фыонг почувствовала такую слабость, что рука бессильно упала на колени. Но она собралась с силами и прочла карандашные строчки.
«Нет, Фыонг, так нельзя! Ведь тогда нам уже не вернуть прежних отношений. Всю жизнь мы будем вынуждены жить украдкой, прятаться от людских глаз, это отравит все! Я не выдержу этого, а тебе станет еще тяжелее. Раз уж так случилось, нам остается только издали следить за жизнью друг друга. Тогда, возможно, еще удастся сохранить то лучшее, что когда-то было у нас. Если, конечно, у тебя нет иных намерений. Сможешь ли ты бросить все, порвать со своей прошлой жизнью?..»
17
В полночь поднялся сильный ветер. Вначале едва слышно зашелестела листва на окутанных тьмой деревьях. Потом они точно вздрогнули и вдруг заходили, закачались, сгибаясь под мощными порывами северного ветра. Бились на столбах фонари, вырывая из темноты кусты.
Ты не спал. Он сидел за мольбертом и слушал, как за стеной неистовствует ветер. Ему казалось, что небо над Ханоем превратилось в бушующий океан. Сразу похолодало. Почувствовав озноб, Ты закутался в байковое одеяло и снова уселся за мольберт. Во рту от табака стояла горечь, но он машинально взял из полупустой пачки щепоть махорки, свернул самокрутку и закурил. Нет, в такую ночь ему не уснуть! Ты принес с террасы таганок, охапку бамбуковых щепок и разжег в углу очаг, чтобы как-нибудь согреться и вскипятить чайник.
В щели двери с воем врывался ветер, плясало, потрескивая, пламя. Ты устремил невидящий взгляд на пейзаж, который писал вчера на берегу Красной реки. Мысли в разгоряченном мозгу метались, словно табун сорвавшихся с привязи коней.
Хватит ли у тебя сил, Фыонг, чтобы покончить с прошлым? А почему бы и нет? Что, в сущности, связывает тебя с жизнью, которая давно уже стала ненавистна тебе? С человеком, которого ты сама презираешь? Почему красивая, умная, тонкая женщина должна влачить жизнь, полную фальши и грязи? Если отбросить мишуру внешнего благополучия, эта жизнь давно уже превратилась в жалкое существование. Ты стремишься обмануть себя, хочешь сделать забавой самое дорогое – любовь! К чему это, родная? Остановись, попробуй разорвать путы прошлого! Жалкие путы, которые удерживает только твой страх…
Ты застыл перед мольбертом. Перед ним рисовались радужные картины. Ему представлялось, как Фыонг поднимается по лестнице, раскрывает дверь и входит в его комнату, освещая ее чудесным светом. Она смеется, она зовет: «Родной мой, я решила, я иду с тобой!» О боже!..
Слава, деньги, общественное мнение… Все это пустое, никчемное, но как это отравляет душу, умерщвляет любовь! Презренное общество, пресмыкающееся перед богатством, общество, где есть достаток, но нет любви. В конечном счете женщина здесь вынуждена продаваться либо кому-то одному, по закону, либо любому, кто пожелает заплатить. Настанет ли время, когда женщина сможет выбрать себе друга жизни по любви?
И от него тоже требуют продавать себя, свое искусство, свою душу. Пойди он по пути Тхань Тунга, он давно бы имел все, что пожелает. Но он не захотел продавать свой талант, и теперь ему остается только одно – умирать с голоду. Его полотна так и останутся лежать здесь, пока не покроются плесенью. Любовь и творчество даются человеку в дар. Но в этом обществе и они сделались предметом купли и продажи!
У Ты разламывалась голова. Закутанный в байковое одеяло, он сидел перед мольбертом, лицо исказило страдание. Из-под крышки чайника шумно вырывался пар. В щель под дверью проникла мышь и остановилась, удивленная ярким светом. Сверкнув своими смышлеными, живыми глазками, она привычным путем отправилась к груде картин, стоявших у стены. Ты заварил чай, налил чашку и, грея об нее руки, подошел к мольберту. Хватит! Он не должен думать сейчас ни о чем, только писать! Вся беда в том, что у него просто нет таланта! Ты невольно вспомнил о последней выставке Тхань Тунга. Надо же дойти до такого падения! Гвоздем выставки были портреты императорской четы. И главным образом жены Бао Дая. Чувствовалось, что художник применил весь набор своих излюбленных приемов, стараясь изобразить красавицей августейшую особу. Тхань Тунг кичится этими картинами, пресса, конечно, превозносит их до небес. Подумать только, и с этим негодяем у Фыонг была связь!
…Пейзаж давался Ты легко, без особых мук и исканий. Как почти во всех его пейзажах, сюжет был прост: вид с дамбы на Красную реку. Все полотно было занято гладью воды блеклого кирпично-красного оттенка, в ней отражались свинцовый блеск зимнего неба, тяжелые облака. Вдали, на реке, маячил коричневый парус одинокой лодки, плывущей против течения. Вдоль противоположного берега протянулась зеленая полоса кукурузы, садов тутовника, а позади – узкая темно-коричневая лента еще не вспаханных полей, испещренных бамбуковыми изгородями. А дальше, над полями, высилась синяя цепь гор Тамдао, кое-где покрытая полосками тумана. Правый угол картины оставался незаконченным. В пойме он изобразил капоковое дерево, под которым две женщины увязывали на коромысла охапки скошенной травы.
Композиция картины была несложной. По существу, отрезок реки, избранный Ты, продиктовал и излюбленную им компоновку. Ты наклонился ближе к картине, чтобы рассмотреть горы. Он еще не был удовлетворен синим цветом, слишком легким, слишком «поэтичным». Ему хотелось найти более густой, тяжелый, даже мрачноватый оттенок, лишить горы их красивости и картинности. Ты стремился, чтобы горы на полотне были такими же реальными, грубыми, земными, какими они были в жизни, – горы с их деревьями на склонах, с их пернатым царством, с деревушками, населенными живыми людьми, со скалами, влажными от утренних туманов, залитыми лучами солнца и покрытыми пятнами теней. Ты терпеть не мог в живописи внешние эффекты, многозначительность, как правило скрывающую скудость мысли, подменяющую реальную картину жизни. Ведь каждый предмет живет своей конкретной неповторимой жизнью, и художник сможет почувствовать и изобразить все это лишь тогда, когда научится видеть, когда полюбит их больше своего искусства.
Так он сидел, пока не задремал, уронив голову на мольберт. Теперь только лампа бодрствовала в комнате художника, тускло освещая незавершенный пейзаж.
В тяжелой дреме Ты временами казалось, что кто-то ходил по комнате, касаясь его рукой, однако усталость и горечь переживаний так сковали Ты, что он не в состоянии был поднять веки, а потом и вовсе провалился в черную, бездонную пропасть сна.
В комнате была Бить. Она вошла босая, всклокоченная, с оторванным подолом и остановилась около Ты. Одеяло сползло на пол, в комнате стоял густой табачный дым. Бить присела на краешек топчана и долго сидела так, боясь пошевелиться. Потом подошла к Ты и осторожно накрыла его одеялом.
За окном было темно, тянуло прохладой. Ветер утих, и заморосил дождь. Внизу, у соседей, часы пробили два. Бить поежилась в своем легком стареньком платье, потом сбросила его и, сняв со стены зеркало, села возле чуть теплившегося очага, прислонившись к стене. Из зеркала на нее смотрели покрасневшие глаза, остатки румян и пудры размазаны слезами, плотно сжатые губы еще хранили следы помады. Нижняя губа припухла, на подбородке запеклись струйки крови.
– Пусть будут прокляты ваши предки! – с ненавистью прошептала девушка, откладывая зеркало.
Откинув упавшую на лоб прядь, она провела рукой по влажным волосам, от ладони пахло вином и рыбным соусом. Девушка разрыдалась.
А Ты по-прежнему спал, не ведая о том, что происходит у него в комнате.
Стало холоднее. Бить сняла с вешалки рабочий халат Ты и натянула на себя. Что толку плакать! Надо вымыть голову. Она принесла с террасы воды, подбросила в очаг дров и поставила воду на огонь. Яркий свет ничем не защищенной лампочки нестерпимо резал глаза, Бить обернула ее газетой и, обхватив руками колени, села у очага, неотрывно глядя на пляшущие языки пламени, бросавшие розовый отсвет в угол комнаты. Отвратительные картины этой ночи ожили в ее памяти, и к горлу снова подступила горечь. Она сегодня чуть не покончила с собой. Конечно, проститутке нечего сетовать на позор, но то, что нынче проделала с ней эта сволочь, омерзительно! Бить и раньше знала, что богатые и знатные клиенты, как правило, самые жестокие и подлые. Большинство годились ей в отцы. Когда они одеты – еще терпимо, а разденутся – от гадливости мороз подирает. У одного жиры висят, как у перекормленного борова; другой – скелет, обтянутый дряблой кожей, а изо рта – смрад от опиума и водки. На молоденьких они набрасываются, точно хищники на свежее мясо. А когда насытятся, начинают издеваться. Бить крепко зажмурила глаза, спрятала лицо в ладони, стараясь избавиться от омерзительных видений. «Пусть будут прокляты все ваши предки!» – в исступлении твердила она. Вначале, когда они вошли, степенные, разодетые, Бить даже оробела. А через час все эти благородные господа превратились в грязных животных! Голые, горланя и дрыгая ногами, топтали на столе посуду, ползали на четвереньках по полу… Она вспомнила этого типа с усиками, вспомнила, как от внезапно нахлынувшей ненависти потемнело в глазах, как, не успев подумать, она плюнула в эту мерзкую рожу, а потом как была, полуодетая, босиком, выскочила на улицу и бродила по темным переулкам, словно помешанная. И еще вспомнила, как она плакала под деревом, а когда поднялась с земли, первое, что она увидела, была темная гладь озера, в которой тускло отражались фонари. Черная, холодная вода точно магнитом тянула к себе, хотелось погрузиться в нее, идти, пока вода не сомкнется над головой. И тогда исчезнет все – страдания, позор, унижения…
Бить открыла влажные от слез глаза. Перед ней на таганке кипела вода. Не сидеть бы ей здесь сейчас, если бы не старый рабочий, случайно оказавшийся поблизости в тот момент…
Скинув халат, Бить вынесла котел на террасу и долго мылась прямо под дождем. Горячая вода согрела и успокоила девушку. В комнате она расчесала волосы и стала рассматривать синяк под глазом. Теперь в зеркале отражалась не размалеванная маска уличной проститутки, а милое девичье лицо, В мокрой нижней рубашке ее знобило, но, чтобы переодеться, пришлось бы спуститься вниз и разбудить своих, а этого ей не хотелось. Бить достала из платяного шкафа рубашку и синие брюки Ты и выбежала на террасу переодеться. Войдя в комнату и взглянув в зеркало, она весело рассмеялась. Ей захотелось есть. В тумбочке Бить отыскала немного риса и принялась варить похлебку. Когда похлебка закипела, проснулся хозяин.
Ты с трудом открыл отяжелевшие веки. Он хотел было встать и перейти на топчан, как вдруг увидел, что в углу, у очага, кто-то сидит. Вначале ему показалось, что это какой-то мужчина небольшого роста, но, присмотревшись, увидел откинутые назад длинные волосы и стройную шею…
– Кто здесь?
Бить вздрогнула и испуганно обернулась.
– Бить? – Ты поднялся со стула, разглядывая странный наряд девушки.
– Я!.. Вот похлебку варю…
Бить смущенно улыбалась, не спуская с Ты тревожного вопросительного взгляда.
Заметив ее замешательство, Ты сдержал недовольство.
Он вытер мокрым полотенцем лицо, чтобы окончательно прогнать сон, и бормотал:
– Однако ты…
Бить поняла, что на этот раз непрошеное вторжение сошло ей с рук.
– Иди погрейся. Похлебка скоро будет готова.
Ты подошел к очагу.
– Ба! Да ты еще и в мою рубашку вырядилась!
Он придвинулся поближе к огню и внимательно посмотрел на девушку:
– А что с лицом, ушиблась?
– Они отделали! – Бить отвернулась, схватила косынку и повязала ее, прикрыв распухшую щеку.
В комнате вкусно пахло вареным рисом. Девушка сняла крышку и воскликнула:
– Вот и готово! Сейчас поедим.
Бить достала из тумбочки миски, ложки, завернутую в газету соль, сняла с таганка котелок и разлила похлебку.
– А ведь и верно, я не ужинал! От голода живот подвело, – признался Ты, принимая у нее миску.
– Бедняжка! И чего ради ты моришь себя?
– А это не твое дело! – отрезал Ты и тут же шутливо добавил, чтобы сгладить невольную резкость: – Наверное, привык.
Оба проголодались, ели шумно, торопливо, точно наперегонки. Неожиданно Бить взглянула на Ты и залилась смехом. Тот в недоумении посмотрел на девушку, но она смеялась так заразительно, что он не выдержал и тоже расхохотался.
– Ну ладно, ешь! Тебе смешно, что я на похлебку набросился?
– Нет. – Бить покачала головой. – Я подумала, что во всем мире не найти, наверное, человека добрее тебя. И мне почему-то стало весело.
– Не выдумывай! Добавь-ка лучше мне еще.
– Правда, не найти! – радостно сказала Бить и вспыхнула.
Ее блестящие черные глаза потемнели, сделались как будто бы глубже – перед Ты сидела веселая, славная девушка. Ты невольно задержал на ней удивленный взгляд. Бить почувствовала это, и улыбка заиграла на ее губах.
– Ешь на здоровье! – Она протянула миску, стараясь скрыть смущение.
Взгляд Ты упал на синяк.
– Как же это тебя побили?
– Да так вот и побили! Еще и платье разорвали, и вином всю облили.
В голосе Бить прозвучало раздражение, и Ты, почувствовав неловкость, не решился продолжать расспросы. Они молча доели похлебку, не зная, о чем говорить. Ты подошел к картине, сделав вид, будто его что-то заинтересовало.
– Ладно, пора спать, – сказал он наконец. – Сейчас, наверное, уже часа три. Мне рано вставать. Возьми это одеяло и ложись на топчане, а мне оставь циновку, я лягу на полу.
Захватив циновку и второе одеяло, Ты ушел в угол комнаты и улегся там, поджав под себя ноги. Он видел, как Бить выключила свет, в темноте осторожно прошла к топчану и тихо легла.
Бить укрылась с головой и лежала, боясь пошевелиться. По лицу ее катились слезы: она уже и не помнит, когда с ней обращались, как с порядочной женщиной…
Ты проснулся рано. Утро выдалось холодное, пожалуй, еще холоднее ночи. Он сел на циновке и бросил взгляд на топчан. Бить лежала неподвижно, лицом к стене, свернувшись под одеялом. Тонкое одеяло не только не скрывало, но, казалось, подчеркивало мягкую линию тела. Ты улыбнулся: он уже так давно привык жить бобылем, что женская фигура на топчане представлялась ему нереальной, точно сошедшей с полотна. Ты тихонько вышел на терраску. Дождь кончился, но в воздухе еще висела дождевая пыль. Впрочем, это не помешает ему работать. Сегодня он должен закончить картину. Ты умылся, надел теплую нижнюю рубашку и, захватив мольберт и сверток с кистями, вышел из дому, осторожно прикрыв дверь.
Пока он привязывал сверток и мольберт к багажнику велосипеда, который стоял обычно внизу, у прачки, с улицы вбежал ее сын.
– Мама, Глухая умерла! – взволнованно сообщил он и тут же выскочил на улицу.
Ты, ведя рядом с собой велосипед, пошел за ним следом.
На тротуаре, против авторемонтной мастерской, где обычно сидела старушка, торговавшая бананами и зеленым чаем, собралась толпа. У старушки давно не осталось никого из родственников, а все ее имущество состояло из старой бамбуковой скамьи, широкой деревянной лавки, глиняного котла для заварки чая и нескольких выщербленных чашек. Ночевала она в большой бетонной трубе, за ненадобностью неизвестно когда брошенной на улице рабочими управления коммунальных работ. С утра до ночи просиживала старушка у стены, черной от угольной пыли, предлагая чай рабочим мастерской и возчикам, проезжавшим мимо с ручными тележками и повозками, запряженными быками. Поздно вечером она брела к своей бетонной трубе и долго заворачивалась в мешковину, устраиваясь на ночь. Старушка была туга на ухо, почему ее и прозвали Глухой. Ее хорошо знали мальчишки всей улицы, собиравшиеся вечерами под фонарем около ее скамейки, на которой всегда были разложены бананы – лакомство, которым не часто баловали их родители. Ребята боялись Глухую, потому что дома их обычно пугали: «Будешь плакать – отдам Глухой!» – а взрослые жалели ее и время от времени совали ей несколько су. Под Новый год кто-нибудь обязательно приносил ей кусок праздничного пудинга или чашку риса. Чаще же эту тихую, похожую на тень старую женщину просто не замечали. И вот холодный ветер этой ночи унес с собой Глухую, наконец-то она навсегда избавилась от непогоды и от голода!
Через плечи и головы людей, столпившихся возле трубы, Ты увидел Глухую. Она лежала худая, высохшая, покрытая мешковиной, и казалось, что это просто куча тряпья, из-под которого порывы ветра вздымали пряди спутанных седых волос.








