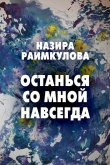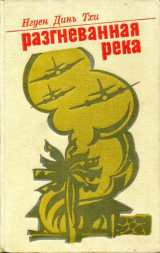
Текст книги "Разгневанная река"
Автор книги: Нгуен Динь Тхи
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
8
Куен отложила письма и задумалась. Большая черная ее тень застыла на стене. Когда она очнулась и выглянула во двор, небо на востоке уже побледнело – близился рассвет. Куен поспешно спрятала письма в ящик и разбудила Тху, чтобы та еще раз повторила уроки перед школой, а сама пошла варить рис.
Тху прихватила лампу и учебники и отправилась на кухню. Утром между делом Тху успевала рассказать о школе, расспросить Куен о домашних делах или просто молчала, довольная уже тем, что находится в обществе тети – она очень скучала без нее.
Поставив лампу на землю, Тху подсела к Куен, взяла ее за руку и положила голову ей на плечо.
– Ты что, не выспалась? Сходи-ка умойся и принимайся за уроки.
– Нам задали уроки только по природоведению и по истории. Я вчера все выучила.
– Мало выучить, надо еще раз повторить.
– А учительница говорит, главное – понять, а не зазубривать, как попугай.
Куен отвернулась, чтобы скрыть улыбку.
– Правильно. Но чем больше повторяешь, тем больше понимаешь.
– Все, что нам задали, я уже и поняла и выучила. Знаешь, тетя, вчера над нашей школой самолеты летали. Долго летали. А здесь они были?
– Были. Что же ты сделала, когда увидела самолеты?
– Ничего. Сидела под капоком и ела. И не визжала, как другие.
– Почему же не спряталась в щель? У вас же там есть щели.
– Они все обвалились от дождя и полны грязи.
Куен заглянула в котелок, воды там уже не осталось, и она поставила его в горячую золу, чтобы рис допрел, потом выкопала из золы несколько клубней печеного батата, который так любила Тху.
– Да, тетя, учительница сказала, что как-нибудь зайдет к нам в гости. Она знает, что случилось с дедушкой и папой.
– Ешь батат, подуй только, очень горячо. А что она знает о них?
– Один раз, после уроков, я вышла из школы вместе с ней, и по дороге она сказала, что я должна хорошо учиться, чтобы быть достойной дедушки и папы. Она всегда на уроках говорит по-вьетнамски – по-французски редко. Говорит, нужно любить родной язык. А в этом году на уроках нас заставляют говорить только по-французски. Знаешь, как трудно! Мне не нравится. Во французском учебнике пишут: «В древности наша страна называлась «Ля Голь»[14]14
От французского Gaule – Галлия.
[Закрыть]. Правда, смешно? А вчера к нам на урок приходил инспектор. Весь урок просидел, молчал и записывал что-то в свою тетрадку. После урока отобрал у нас сумки, просмотрел все тетради и книги, а потом спрашивает учительницу: «Почему у детей нет книжки «Слово маршала Петэна»? Мы испугались, что учительнице попадет, а она отвечает: «У них нет денег, чтобы купить ее». На последнем уроке инспектор вывел всех учеников во двор и долго говорил про маршала Петэна. Говорил он по-французски, и я ничего не поняла. Потом по-вьетнамски объяснил, как мы должны стоять при подъеме и спуске государственных флагов. Говорит, надо смотреть на флаги и при этом думать о Франции и Аннаме. Проверил, как мы это делаем, и ушел.
Куен с улыбкой слушала болтовню девочки. В школе еще что, думала она, они даже в село навезли всяких портретов, заставляют покупать и вывешивать их. И портрет маршала Петэна, и генерал-губернатора Деку, и императора Бао Дая, и даже портрет ее величества императрицы. Не говоря уже о книжке с трехцветным флагом на обложке – «Слово маршала Петэна». Грамотных-то на селе всего один-два человека, но книжку эту все купили, чтобы оставили их в покое.
Куен внимательно слушала Тху и наблюдала за ней. Как, однако, повзрослела девочка! Вот у нее уже свое суждение о людях, о событиях. А на ее вопросы иной раз просто не знаешь, что отвечать… Ну как она может оставить ее? Мысль об отъезде болью сжала сердце. Руки Куен машинально выкладывали на тряпку рис и лепили из него комки на обед девочке.
– Давай, тетя, я сама слеплю. Я люблю, когда комочки малюсенькие.
Пока девочка лепила рис, Куен нежно перебирала ее волосы. Но вот Тху, подхватив сумку и мешок, побежала в школу, и Куен вышла ее проводить. Долго она смотрела, как удаляется маленькая фигурка, не в силах справиться со своим смятением.
Днем, когда Куен пропалывала на огороде грядки с арахисом и горохом, с улицы вдруг послышался взволнованный голос Тху:
– Тетя! Тетя!
Странно, почему девочка так рано вернулась из школы? Голос Тху слышался уже во дворе.
– Я здесь, Тху. В чем дело?
– Тетя, наш класс сегодня распустили!
– Почему? Что случилось?
– Жуткое дело! Во время урока в класс вошли двое французов и начальник уезда, забрали учительницу и увезли на машине.
– То есть как это увезли? – встревожилась Куен.
– Правда, тетя! – Возбужденная, раскрасневшаяся Тху испуганно смотрела на Куен. – Они приехали на машине. Директор вошел в класс и позвал учительницу. Она сказала, что еще не закончила урок. А он как закричит! Потом в класс вошли два француза, начальник уезда и еще какие-то люди и надели на учительницу наручники. Она повернулась к нам и сказала: «Прощайте, дети! Учитесь хорошо!» Тут один француз как ударит ее по голове! Потом ее вывели во двор, втолкнули в машину и увезли. Директор сказал, что занятий сегодня не будет. Сказал, чтобы мы приходили завтра, он подумает, что делать с нами.
Куен прекратила полоть и направилась к водоему. Тху пошла следом и, пока Куен смывала грязь с рук, продолжала рассказывать, усевшись на ступеньки водоема:
– Я уже шла домой, как вдруг в конце улицы, около дома учительницы заметила машину. Они обыскивали ее дом. Хотела подойти, но солдат прогнал меня. Они никому не разрешали останавливаться около ее дома. Я только услышала, как в доме плакал сын нашей учительницы.
Куен села под карамболу и усадила Тху рядом.
– Сколько детей у вашей учительницы?
– Один Лям. Ему всего четыре года. Учительница приводила его как-то раз в школу. Бедный Лям!..
Тху уткнулась в плечо Куен и громко заплакала.
Весь день Куен не находила себе места. Наконец она надела нон, позвала Тху и вместе с ней отправилась разузнать, что стало с сыном учительницы.
К вечеру единственная улица уездного центра становилась совсем безлюдной. Всевозможные лавчонки, пошивочные, часовые и велоремонтные мастерские пустели. Спокойствие и уныние царили в эти вечерние часы. Трудно было представить себе, что здесь вообще могло что-то случиться.
В низеньком домике учительницы, стоявшем на окраине села, был учинен настоящий разгром. Обстановка в доме была простая: деревянная кровать, топчан, стол и полка для книг. Куен еще с порога увидела, что по всему дому – и на земляном полу, и на столе, и даже под кроватью валялись книги. Мать учительницы, растрепанная, бледная, еще не пришла в себя от всего случившегося, она старалась успокоить ребенка. Куен помогла ей прибрать комнату и, пока Тху играла с малышом, выслушала ее горестный рассказ. Вечером, по дороге домой, Куен зашла на почту и отправила телеграмму брату учительницы – нужно, чтобы он приехал к матери.
Домой Куен и Тху вернулись затемно. Во время ужина Куен была молчалива, зато Тху болтала без умолку, рассказывая бабушке о событиях дня.
– Что с тобой, Куен? Ты сегодня какая-то странная! Все переживаешь? Но нельзя же морить себя голодом!
Куен вздохнула. Вот уедет она, тогда и в их доме останутся только старуха с ребенком.
После ужина Тху, как всегда, села за уроки, тетушка Бэй ушла к соседке, а Куен, устроившись напротив Тху, принялась чинить одежду. Время от времени она посматривала на старательно склоненную головку девочки, на свесившуюся над тетрадью черную прядку, и в душе ее поднималось все то же смятение, чувство странной раздвоенности и нереальности всего происходящего, точно она была уже не дома, рядом с Тху, а где-то далеко-далеко; ей казалось даже: все, что она видит сейчас, – мираж, навеянный тоской по дому. О небо!..
Тху приготовила уроки и пошла спать, а Куен решила дождаться тетю. Но чем дольше оставалась она наедине со своими мыслями, тем сильнее ее терзали сомнения и страхи. Куен пыталась представить себе, что будет с Тху, если она уедет и оставит ее с тетей Бэй. И это теперь, в такое тревожное время! А вдруг начнутся бомбежки или тетя заболеет? Страшно подумать, что тогда будет с Тху! Имеет ли право она, Куен, оставить Тху, допустить, чтобы дочь Кхака, последняя кровинка их рода, осталась в конце концов беспризорной?.. Она в волнении ходила по комнате, и, несмотря на мучительный страх, где-то в глубине души у нее росла уверенность в том, что она должна ехать! Снова и снова вставала перед ней картина, которую она увидела в доме учительницы: несчастная старушка пытается успокоить внука. Куен жалела, что в свое время не познакомилась поближе с учительницей Тху. Судя по фотографии, которую она видела в ее доме, учительница моложе Куен. Лицо доброе и умное, только грустное. Почему-то нигде не было видно фотографии ее мужа. Куен хотела было спросить мать учительницы о нем, но так и не решилась. Старушка сама сказала потом, что муж был из хорошей семьи, но они не сошлись характером. Куен подумала, что дело здесь, видно, не только в характерах и что в жизни молодой учительницы есть еще много такого, о чем мать не знает. Не нужно быть особенно проницательной, чтобы догадаться об этом. Ведь не случайно же ее арестовали! Даже закованная в наручники, она не забыла о детях: «Учитесь хорошо!»… Куен взяла лампу и подошла к кровати, на которой спала Тху. Она внимательно осмотрела полог, не забрался ли туда москит, но на самом деле ей просто захотелось еще раз взглянуть на девочку. Тху забилась к самой стенке и лежала, выпростав ноги из-под одеяла, откинув руку в сторону, голова ее совсем съехала с подушки. Куен прикрыла ноги одеялом, поправила под головой девочки подушку и вышла из комнаты.
Теперь она почувствовала себя спокойнее и снова села чинить платье. Нечего больше откладывать, надо писать письмо Ле! Другого пути у нее нет! И Кхак одобрил бы ее решение.
9
«Здравствуй, Шау!
Письмо твое получил. Постарайся уладить свои домашние дела и восемнадцатого, часов в восемь-девять утра, приходи к чайной на окраине села Кот. Там тебя будет ждать человек с белым платком в правой руке. Ты должна тоже держать в левой руке белый платок. Соблюдай осторожность. Постарайся, чтобы никто не заметил, как ты ушла».
Куен проснулась с первыми петухами, тихонько оделась и на цыпочках выскользнула во двор. Тетушка Бэй решила проводить племянницу.
– Уже уходишь?
Они присели перед дорогой. Говорили шепотом.
– Помни, тетя, нельзя подавать вида, будто у нас в доме что-то произошло. Если будут спрашивать, где я, говори, поехала, мол, в Хайзыонг и в Ханой по делам.
Старая Бэй только вздохнула:
– Без тебя в этом доме будет пусто, как в пагоде. Я здесь не останусь, через неделю-другую заберу с собой Тху и перееду к бабушке в Намсать. Смотри, Куен, ты можешь кончить так же, как твой брат…
Старая Бэй заплакала.
– Я все оставляю на вас, – сказала Куен. – Можете переехать к бабушке, а можете привезти ее сюда, смотрите сами, как лучше. Недели через две пришлю вам письмо, напишу, что живу в Сайгоне с дядей Ча. Когда получите его, попросите кого-нибудь из соседей прочитать. А если кто спросит обо мне, говорите то, что написано в письме. Запомнили?
– А что тут запоминать! Не волнуйся, все сделаю как надо. О небо! И на дорогу-то дать тебе нечего.
– Мне ничего и не нужно! Ну до свидания, тетя, я пошла. Провожать не надо.
Куен решительно поднялась, взяла нон, небольшую кошелку и оглянулась на дом. Ей очень хотелось еще раз взглянуть на Тху, но она боялась разбудить девочку, боялась, что в последнюю минуту расчувствуется и передумает, поэтому в дом она не пошла, а только чуть дотронулась до руки тетушки Бэй и быстро вышла. В переулке она вдруг увидела, что у ног ее вьется Ванг. Заслышав шаги хозяйки, верный пес выскочил и бросился ей в ноги, он всегда провожал ее, когда она уходила из дома. И тут Куен не выдержала, прислонясь к дереву, она смотрела на родной дом, из глаз ее неудержимо лились слезы. Когда-то теперь вернется она сюда? И вернется ли вообще? Неужели Бэй и Тху тоже покинут этот дом? Столько поколений их семьи прожило здесь, а теперь этот дом будет стоять пустой, заброшенный или, еще хуже, в нем поселятся чужие люди, безразличные к судьбе прежних хозяев, для которых каждый камень здесь хранит воспоминания.
Вдруг Куен почувствовала на ладони влажную теплоту – это Ванг изливал свою преданность. Куен вытерла слезы, надела нон и быстро пошла вперед. Ванг побежал рядом.
Село все еще спало в окружении густых банановых и тутовых садов. Чем дальше Куен уходила от дома, тем сильнее в ее душе крепла решимость. Прощайте, родные места! Не сразу и нелегко пришла Куен к решению покинуть родной дом, родное село, покинуть свою Тху, но теперь она твердо знала: иного пути для нее не может быть!
Вот и конец села. Теперь Куен шла среди джутовых полей, скрывавших ее почти с головой. Ванг все так же неотступно следовал за хозяйкой. Иногда он забегал немного вперед и поджидал ее. Обычно он провожал ее до дамбы и возвращался домой. Девушка тихонько подозвала его. Пес подбежал, повизгивая от радости, и стал прыгать вокруг Куен.
Было еще темно, но небо уже начинало светлеть, когда они подошли к дамбе. Куен обернулась и в последний раз посмотрела на черневшее вдали родное село. «Ну, Ванг, возвращайся к тете Бэй и Тху». Она присела, ласково потрепала собаку по шее и пошла по дамбе, а пес остался одиноко стоять на дороге, провожая хозяйку грустным и недоуменным взглядом.
10
Жизнь Тоана из месяца в месяц, из года в год текла однообразно, не принося ничего нового. Каждый вечер, после ужина, он надевал свой единственный костюм, сорочку с крахмальным воротничком и галстук, который казался ему наиболее подходящим для данного случая, брал футляр со скрипкой и отправлялся в центр, к Озеру Возвращенного Меча. Неторопливо и равнодушно шел он по Чангтиен – самой фешенебельной улице столицы, мимо закрытых в этот час швейных и обувных мастерских, мимо сверкающих золотом и драгоценными камнями витрин ювелирных магазинов, мимо банковских контор и различных экспортно-импортных компаний, мимо шумных баров и кафе для европейцев. Дойдя до бара-ресторана «Галльский Петух», появившегося на этой улице лет шестьдесят или семьдесят назад, сразу после взятия французами Ханоя, он проходил в комнату для оркестрантов, брал себе стакан лимонада или пива и коротал время в ожидании коллег. Оркестр состоял из представителей самых различных наций: кроме него, единственного вьетнамца, здесь были филиппинцы, русские, венгры, австрийцы и человек пять французов – бывших легионеров. Все они немало побродили по свету, до того как судьба забросила их в эту страну. Оркестр был неплохой, но, кроме работы, музыкантов ничто не связывало. Как только заканчивали работу, они сразу же расходились по домам и редко когда встречались вне бара, во всяком случае, так они держались с Тоаном. Играли в душном, насквозь прокуренном зале, в основном это были танцевальные мелодии. Подвыпившие посетители громко разговаривали, смеялись, не обращая внимания на музыку. Правда, иногда музыканты исполняли какую-нибудь любимую мелодию, и тогда они играли для себя. Играли переглядываясь, улыбаясь друг другу и словно соревнуясь в мастерстве. В такие минуты оркестр напоминал вольную стаю птиц, кружившую высоко в небе, на порывистом ветру. Самой интересной фигурой в оркестре был, пожалуй, пианист Федор. Он так увлекался детективными романами, что вместо нот часто ставил на пюпитр книгу, ухитряясь читать во время исполнения. Иногда, зачитавшись, Федор брал фальшивую ноту, тогда он виновато улыбался, подмигивал товарищам и снова углублялся в роман. В субботние и воскресные вечера посетителей обычно было много, все хотели танцевать. Если пауза между танцами затягивалась больше чем на две-три минуты, в зале поднимался шум. Оркестранты играли в эти дни по пять-шесть часов кряду, обливаясь потом, оглохнув от собственной музыки. Тоан удивлялся этим колониальным дамам, которые продолжали вести разгульную жизнь, несмотря на то, что во всем мире шла смертоубийственная война; французы, в сущности, лишились родины, и здесь, в Индокитае, на шею им прочно уселись японцы. Создавалось впечатление, что им просто некуда девать деньги и они сорят деньгами потому, что боятся не успеть их потратить. Какой-нибудь кутила за один вечер оставлял в баре такую сумму, на которую могла бы прокормиться в течение месяца целая вьетнамская семья. То, что ежедневно наблюдал Тоан в «Галльском Петухе», никак не вязалось с лозунгами, развешанными на всех перекрестках и заполнившими все газеты, не говоря уже о «Слове маршала Петэна». Все это вызывало у Тоана лишь ощущение пустоты и апатию. Поздно ночью, когда он, возвращаясь с работы, одиноко брел по темным улицам, едва освещенным тусклым светом синих фонарей, им овладевала тоска…
Правда, с некоторых пор у него появилось какое-то утешение – он стал собирать старинные национальные мелодии. Тоан понимал, что одному ему такая задача не под силу, это работа для большого коллектива в несколько сот человек, да и то потребуются десятки лет, чтобы добиться серьезных результатов. Но почему он должен сидеть сложа руки и ждать, когда, в стране появится Вьетнамская государственная консерватория?! Тем более, что на сегодняшних картах пока еще даже не значится такой страны – Вьетнам. Нет, Тоан решил, не дожидаясь «лучших времен», искать и записывать национальную музыку. Эта работа все больше увлекала его. Медлительный и робкий по натуре, Тоан обычно терялся, когда требовалось предпринимать какие-то практические шаги. Теперь же ему приходилось много разъезжать для того, чтобы прослушать десяток частушек или две-три народные оперы. Самая большая трудность состояла в том, что старинная музыка передавалась изустно, никем никогда не обрабатывалась и не записывалась. Хранителями и исполнителями ее были обычно музыкальные труппы, разбросанные по провинциям и селам. При передаче изустно музыка, естественно, искажалась, и нередко одна и та же народная опера в разном исполнении звучала совсем по-разному, причем споры по поводу того, какой вариант считать верным, нередко заканчивались самой настоящей дракой. Однако все эти трудности только разжигали Тоана. Он чувствовал себя первооткрывателем, он был словно старатель, который напал на золотоносную жилу и лихорадочно разрабатывал ее. Тоан пришел к твердому убеждению, что у его народа есть свое музыкальное искусство, свой голос, отличавшийся удивительной теплотой, задушевностью и богатством. И Тоан старался постичь его своеобразие и глубину.
Теперь Тоан отдавал любимому делу все свое свободное время. Он работал с увлечением, но порою испытывал мучительную тоску одиночества. Он был постоянно один – со своими поисками, мыслями и со своими чувствами… Иногда, проснувшись утром, Тоан долго лежал в кровати в состоянии какой-то прострации. В эти минуты перед ним возникал образ русской девушки, которая любила его, любила и не признавалась в своей любви. Прошло уже почти три года… Как быстро летит время! Где она теперь, в какие края забросила ее судьба?
И вот однажды он снова произнес вслух ее имя. Как-то, вскоре после новогодних праздников, вечером, когда зажглись синие лампочки уличных фонарей, Тоан, прихватив с собой скрипку, вышел из дома. Было холодно, моросил мелкий дождь. В серой дымке дождя улицы быстро, прямо на глазах погружались во мрак.
Бар был полупустой. Тоан прошел в артистическую комнату и с удовольствием увидел там Федора, никогда так рано не приходившего, перед ним стояла нераспечатанная бутылка коньяка. Черная бабочка на ослепительно-белой сорочке пианиста сегодня выглядела как-то особенно торжественно. Лицо Федора сияло радостным возбуждением. Когда весь оркестр был в сборе, Федор откупорил бутылку, разлил коньяк по рюмкам и торжественно произнес: «Сегодня у меня, друзья, радость! Давайте чокнемся и выпьем! У меня к вам одна небольшая просьба: нашу сегодняшнюю программу начнем русской мелодией «Эй, ухнем». Когда все выпили, Федор подошел к Тоану и шепнул ему: «Слышал про Сталинград? Триста тысяч немцев сдались в плен!»
Вот оно что! Последние месяцы газеты ежедневно под огромными заголовками печатали победные реляции немцев о битве на берегах Волги. Десятки раз Тоан читал сообщения о том, что Красная Армия почти уничтожена, что Сталинград агонизирует и от города, растянувшегося на десятки километров по берегу Волги, остались лишь груды развалин. И вот недавно японское информационное агентство Домэй цусин вдруг круто изменило линию и заговорило о необычайной стойкости солдат генерала Паулюса, которая проявилась в отчаянном единоборстве с русским «генералом Зимой». Так вот, значит, в чем дело! Тоан улыбнулся Федору и неожиданно предложил: «За Нину!» Федор весело подмигнул, и они выпили.
Когда они вышли в зал, у Тоана слегка кружилась голова, однако, как только он увидел за ближайшим столиком капитана третьего ранга Роже, возглавляющего Бюро информации, пропаганды и печати – доверенное лицо адмирала Деку, – Тоан почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот высокий француз отлично знал не только вьетнамский язык, но даже и китайскую иероглифику. Он сидел за столиком с сотрудником французской охранки. Тоан сразу узнал его и оглянулся на Федора, давая ему знак, что лучше подождать, пока эти двое не уберутся из бара, но пианист сделал вид, что не заметил предупреждения, он уселся за рояль, поднял руки над клавишами и, застыв на мгновение, взял первый сильный аккорд. Оркестр подхватил протяжную печальную мелодию…
Стихли последние звуки, и в зале воцарилась тишина… Тоан промокнул платком мокрый лоб, протер гриф скрипки и снова бросил тревожный взгляд туда, где сидел Роже. Там все оставалось по-прежнему, по вот Роже обернулся, внимательным взглядом окинул оркестр и продолжал ужин. А Федор уже начал какой-то латиноамериканский танец, Тоан, подняв скрипку к подбородку, присоединился к оркестру.
С этого дня каждое крупное поражение немцев в России Федор отмечал бутылкой коньяка. Но знали об этой новой традиции только Федор и Тоан. Так были отмечены победы русских под Курском, Орлом, Харьковом, осенью они пили за взятие Смоленска и Киева. Однажды Тоан купил бутылку рисовой водки, приготовил курицу и пригласил к себе Федора. Они выпили, разговорились, и тогда Федор рассказал Тоану об их общей знакомой – Нине.