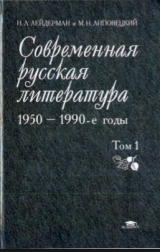
Текст книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Автор книги: Н Лейдерман
Соавторы: М Липовецкий
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 57 страниц)
Петрушевская всегда и в этой повести в особенности доводит будничные, бытовые коллизии до последнего края. Повседневный быт в ее прозе располагается где-то на грани с небытием и требует от человека колоссальных усилий для того, чтобы не соскользнуть за эту грань. Этот мотив настойчиво прочерчен автором повести, начиная уже с эпиграфа, из которого мы узнаем о смерти повествовательницы, Анны Андриановны, считавшей себя поэтом и оставившей после смерти "Записки на краях стола", которые, собственно, и образуют корпус повести. Как нам кажется, повесть и заканчивается этой "смертью автора". Несмотря на то, что она, эта смерть, прямо не объявлена о ней можно догадаться – ее приход подготовлен постоянным ощущением сворачивания жизни, неуклонного сокращения ее пространства – до пятачка на краях, до точки, до коллапса наконец: "Настало белое, мутное утро казни".
Сюжет повести также выстроен как цепь необратимых утрат. Мать теряет контакт с дочерью и с сыном, от жен уходят мужья, бабушку отвозят в далекий интернат для психохроников, дочь рвет все отношения с матерью, и самое страшное, бьющее насмерть: дочь отнимает внуков у бабушки (своей матери). До предела все накалено еще и оттого, что жизнь по внешним признакам вполне интеллигентной семьи (мать сотрудничает в редакции газеты, дочь учится в университете, потом работает в каком-то научном институте) протекает в перманентном состоянии абсолютной нищеты, когда семь рублей – большие деньги, а даровая картофелина – подарок судьбы. И вообще еда в этой повести – всегда событие, поскольку каждый кусок на счету, да на каком! "Акула Глотовна Гитлер, я ее так один раз в мыслях назвала на прощание, когда она съела по два добавка первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была сильно беременна, а есть ей было-то нечего совершенно. . . " – это так мать думает о своей дочери.
Как ни странно, "Время ночь" – повесть о любви. Об испепеляющей любви матери к своим детям. Характерная черта этой любви – боль и даже мучительство. Именно восприятие боли как проявление любви определяет отношения матери с детьми, и прежде всего с дочерью. Очень показателен телефонный разговор Анны Андриановны с Аленой, когда мать дешифрует каждую свою грубость по отношению к дочери как слова своей любви к ней. "Будешь любить – будут терзать", – формулирует она. Еще более откровенно эта тема звучит в финале повести, когда Анна Андри-ановна возвращается домой и обнаруживает, что Алена с детьми ушли от нее: "Живыми ушли от меня", – с облегчением вздыхает мать.
Анна Андриановна неуклонно и часто неосознанно стремится доминировать – это единственная форма ее самореализации. Но самое парадоксальное состоит в том, что именно власть она понимает как любовь. В этом смысле Анна Андриановна воплощает своеобразный "домашний тоталитаризм" – исторические модели которого отпечаталась на уровне подсознания, рефлекса, инстинкта*367. Способность причинять боль служит доказательством материнской власти, а следовательно – любви. Вот почему она деспотически пытается подчинить своих детей себе, ревнуя дочь к ее мужчинам, сына к его женщинам, а внука к его матери. В этой любви нежное "маленький мой" тянет за собой грубое: "сволочь неотвязная". Любовь матери у Петрушевской монологична по своей природе. За все жизненные потери и неудачи мать требует себе компенсации любовью – иначе говоря, признанием ее безусловной власти. И естественно, она оскорбляется, ненавидит, лютует, когда свою энергию любви дети отдают не ей, а другим. Любовь в таком понимании становится чем-то ужасно материалистичным, чем-то вроде денежного долга, который обязательно надо получить обратно, и лучше – с процентами. "О ненависть тещи, ты ревность и ничто другое, моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, т. е. меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня. Заменить собою все, и я видела такие женские семьи, мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья! Жуть и кошмар", – так Анна Андриановна описывает свои собственные отношения с матерью, не замечая, что и ее отношения с дочерью полностью укладываются в эту модель.
Однако несмотря на "жуть и кошмар", любовь Анны Андриановны не перестает быть великой и бессмертной. Собственно говоря, это попытка жить ответственностью, и только ею. Эта попытка иной раз выглядит чудовищно вроде шумных замечаний незнакомому человеку в автобусе, который, на взгляд Анны Андриановны, слишком пылко ласкает свою дочь: "И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто!". Но одно не отменяет другое: противоположные оценки здесь совмещены воедино. Парадоксальная двойственность оценки воплощена и в структуре повести.
"Память жанра", просвечивающая сквозь "записки на краю стола", – это идиллия. Но если у Соколова в "Палисандрии" жанровый архетип идиллии становится основой метапародии, то у Петрушевской идиллические мотивы возникают вполне серьезно, как скрытый, повторяющийся ритм, лежащий в основе семейного распада и перманентного скандала. Так, "конкретный пространственный уголок, где жили отцы, будут жить дети и внуки" (Бахтин), идиллический символ бесконечности и целостности бытия, у Петрушевской воплощен в хронотопе типовой двухкомнатной квартиры. Здесь смысл "вековой прикрепленности к жизни" приобретает все – от невозможности уединиться нигде и никогда, кроме как ночью, на кухне ("дочь моя. . . на кухне будет праздновать одиночество, как всегда я ночами. Мне тут нет места!") вплоть до продавленности на диванчике (". . . пришла моя очередь сидеть на диванчике с норочкой").
Более того, у Петрушевской бабушка – мать – дочь повторяют друг друга "дословно", ступают след в след, совпадая даже в мелочах. Анна ревнует и мучает свою дочь Алену, точно так же, как ее мать Сима ревновала и мучила ее. "Разврат" (с точки зрения Анны) Алены полностью аналогичен приключениям Анны в ее младые годы. Даже душевная близость ребенка с бабушкой, а не с матерью, уже была – у Алены с Симой, как теперь у Тимы с Анной. Даже претензии матери по поводу якобы "чрезмерного" аппетита зятя повторяются из поколения в поколение: ". . . бабушка укоряла моего мужа в открытую, "все сжирает у детей" и т. д"*368. Даже ревность Алены к брату Андрею отзывается в неприязни шестилетнего Тимы к годовалой Катеньке. Даже кричат все одинаково: ". . . неся разинутую пасть. . . на вдохе: и. . . Аааа!"). Эту повторяемость замечают и сами персонажи повести, ". . . какие еще старые, старые песни", – вздыхает Анна Андриановвна. Но удивительно, никто и не пытается извлечь хоть каких-то уроков из уже совершенных ошибок, все повторяется заново, без каких бы то ни было попыток выйти за пределы мучительного круга. Можно объяснить это слепотой героев или бременем социальных обстоятельств. Идиллический архетип нацеливает на иную логику: "Единство места поколений ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жизнями и между различными фазами одной и той же жизни. Единство места сближает и сливает колыбель и могилу. . . детство и старость. . . Это определяемое единством места смягчение всех граней времени содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности времени" (Бахтин)*369.
В соответствии с этой логикой перед нами не три персонажа, а один: единый женский персонаж в разных возрастных стадиях – от колыбели до могилы. Извлечение опыта здесь невозможно, потому что в принципе невозможна дистанция между персонажами – они плавно перетекают друг в друга, принадлежа не себе, а этому циклическому потоку времени, несущему для них только утраты, только разрушения, только потери. Причем Петрушевская подчеркивает телесный характер этого единства поколений. Колыбель – это "запахи мыла, флоксов, глаженых пеленок". Могила – "наше говно и пропахшие мочой одежды". Это телесное единство выражается и в признаниях противоположного свойства. С одной стороны: "Я плотски люблю его, страстно", – это боабушка о внуке. А с другой стороны: "Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонгии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи. . . " – это мать о сыне. Идиллический архетип в такой интерпретации лишен традиционной идиллической семантики. Перед нами антиидиллия, сохраняющая тем не менее стрвуктурный каркас старого жанра.
Сигналы повторяемости в жизни поколений, складывающиеся в этот каркас, образуют центральный парадокс "Времени ночь" и всей прозы Петрушевской в целом: то, что кажется саморазрушением семьи, оказывается повторяемой, цикличной, формой ее устойчивого существования. Порядком – иными словами: алогичным, "кривым" ("кривая семья", – говорит Алена), но порядком. Петрушевская сознательно размывает приметы времени, истории, социума – этот порядок, в сущности, вневременной, т. е. вечный.
Именно поэтому смерть центральной героини неизбежно наступает в тот момент, когда Анна выпадает из цепи зависимых отношений: когда она обнаруживает, что Алена ушла со всеми тремя внуками от нее, и следовательно, ей больше не о ком заботиться. Она умирает от утраты обременительной зависимости от своих детей и внуков, несущей единственный осязаемый смысл ее ужасного существования. Причем, как и в любой "хаотической" системе, в семейной антиидиллии присутствует механизм обратной связи. Дочь, ненавидящая (и не без причины) мать на протяжении всей повести, после ее смерти – как следует из эпиграфа – пытается опубликовать записки матери. Всегда называвшая мать графоманкой, она теперь придает этим запискам несколько иное значение. Этот, в общем-то тривиальный литературный жест в повести Петрушевской наполняется особым смыслом – в нем и примирение между поколениями, и признание надличного порядка, объединяющего мать и дочь. Сами "Записки" приобретают смысл формулы этого порядка, именно в силу его надличностного характера, требующего выхода за пределы семейного архива.
***
По сути Петрушевскую все время занимает лишь одно – перипетии изначальных природных зависимостей в сегодняшней жизни. Это ее версия вечности. В ее прозе вполне нормально звучат мотивировки, допустим, такого рода: "Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным несбывшимся желанием продолжения рода. . . " ("Бессмертная любовь"). Если же уточнить, что входит у Петрушевской в мифологическое понимание природы, то придется признать, что природа в ее поэтике всегда включена в эсхатологический контекст. Порог между жизнью и смертью – вот самая устойчивая площадка ее прозы. Ее главные коллизии – рождение ребенка и смерть человека, данные, как правило, в нераздельной слитности. Даже рисуя совершенно проходную ситуацию, Петрушевская, во-первых, все равно делает ее пороговой, а во-вторых, неизбежно помещает ее в масштабы космоса.
В сборниках своей прозы, в собрании сочинений (1996) Петрушевская всегда выделяет раздел под названием "Реквиемы", в который входят такие рассказы, как "Я люблю тебя", "Еврейка Верочка", "Дама с собаками", "Кто ответит" и др. Но соотнесение с небытием конструктивно важно для многих других ее рассказов, в этот раздел обычно не включаемых, – особенно показательны маленькие антиутопии Петрушевской "Новые Робинзоны" и "Гигиена", в подробном бытовом изображении материализующие мифологему конца света. А в фантастических рассказах Петрушевской то и дело внимание концентрируется на посмертном существовании и мистических переходах из одного "царства" в другое, а также на взаимном притяжении этих двух царств (см. "Бог Посейдон", "Два царства", "Луны", "Рука").
Природность у Петрушевской предполагает обязательное присутствие критерия смерти, вернее, смертности, бренности. Для нее важно, что очерченная природным циклом и окаменевшая в древних архетипах логика жизни трагична по определению. Всей своей поэтикой Петрушевская настаивает на осознании жизни как правильной трагедии. Ее главный вопрос о том, как жить с этим сознанием. "В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче. . . "; ". . . завтра и даже сегодня меня оторвут от света и тепла и швырнут опять идти одну по глинистому полю под дождем, и это и есть жизнь, и надо укрепиться, поскольку всем приходится так же, как мне, потому что человек светит другому человеку только раз, и это все. . . " ("Через поля") – таковы максимы и сентенции Петрушевской. Других у нее не бывает.
Укрепиться же в прозе Петрушевской можно только одним – зависимостью. От того, кто слабее и кому еще хуже. От ребенка. От слабого. От жалкого. Это решение не обещает счастья, но это единственный возможный путь к катарсису, без которого неодолимый круг существования лишается смысла. Классический образец такого катарсиса находим в рассказе "Свой круг", в котором мать, уже знающая о своей скорой смерти, ради блага ребенка инсценирует его избиение на глазах у всей компании друзей и отца мальчика, ушедшего к подруге, после чего возмущенные друзья забирают сына у матери. Иначе говоря, мать приносит в жертву сыну свою сегодняшнюю любовь к нему, свое последнее утешение:
Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. . . <...> И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной романтической традиции в жизни моего сироты Алеши, с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сознательный мальчик, и там, среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так – лучше для всех. Я умная, я понимаю.
Символический план Пасхи (нарочито сниженный до бытовых образов "пьяной и доброй толпы") не случайно возникает в этом финале: катарсис зависимой ответственности оказывается у Петрушевской единственным противовесом смерти, единственным обещанием воскресения – не буквального, естественно, но весомого в контексте архетипических образов и обытовленных мифологем, из которых соткана ее поэтика.
5. Владимир Маканин
Сегодня Владимир Маканин (р. 1937) признан одним из лидеров современной русской литературы*370 . Но это признание пришло к нему далеко не сразу. Его первая повесть, написанная в духе "исповедальной прозы", "Прямая линия" (1965), была тепло встречена критикой, однако появилась эта повесть в момент, когда "оттепель" стремительно шла на убыль и остывающее время требовало новых песен. Поколение "шестидесятников", к которому Маканин мог бы примкнуть (как его одногодки Битов и Ахмадулина дебютировавшие, правда, значительно раньше), переживало жесточайший кризис, рассыпаясь на противоположные идеологические течения (почвенники и диссиденты, "горожане" и "деревенщики", бунтари и конформисты). Маканин, однако, не примкнул ни к одной из неформальных литературных групп того времени.
В 1970-е годы Маканин написал несколько повестей-портретов, практически не замеченных критикой ("Безотцовщина", "На первом дыхании", "Валечка Чекина", "Старые книги", "Погоня", "Повесть о старом поселке" и некоторые другие). Возможно, в литературном процессе эти повести не сыграли большой роли, но для эволюции Маканина они были существенны. В этих повестях он наблюдал за тем, как активный характер молодого человека, разбуженного "оттепелью", приспосабливает свою невостребованную энергию к новому социальному климату – как из романтиков формируются люди практического действия, живущие интересами одной минуты, для которых вопрос прописки, обмена или карьеры становится способом осуществить свою личность, свою свободу. В сущности, его герои были сродни вампиловским "аликам" или Лукьяновым Трифонова, но Маканин ни в коем случае не осуждал своих прагматиков, а даже в какой-то мере любовался ими. Они убеждали его в том, что для осуществления витальной энергии, а значит, свободы нет высоких или низких материй: в этих повестях он исследовал поиски свободы внутри "мебельного времени", в тайных махинациях, аферах "черного рынка", остапо-бендеровских комбинациях, донжуанских рейдах, карьерных гамбитах. В сущности, эти повести строили мост от идеализма "исповедальной прозы" 1960-х к "амбивалентности" прозы "сорокалетних" в 1980-е годы.
"Самотечность жизни"
Именно дискуссия о "сорокалетних" сделала имя Маканина известным широкой публике. Но и маканинская проза к рубежу 1970 – 1980-х годов серьезно трансформировалась. Именно в это время сложилось ядро новой поэтики Маканина. В конце 1970-х годов Маканин перенес тяжелейшую травму позвоночника и был в течение года прикован к постели. Трудно сказать, какие психологические изменения происходили в его сознании в это время. Однако именно с произведений, написанных на рубеже 1970 – 1980-х, с рассказов "Ключарев и Алимушкин", "Река с быстрым течением", "Антилидер", "Человек свиты", "Гражданин убегающий", повестей "Отдушина" и "Предтеча", романа "Голоса" – проза Маканина приобретает отчетливое философское, а именно экзистенциалистское звучание.
Гораздо позднее, в 1990 году критик А. Агеев определил центральную тему зрелого Маканина как драматическое противоборство индивидуального и роевого, хорового, начал в душе человека*371. Авторитетность идеи приоритета "роевого" (народного, соборного) над личностным глубоко укоренена в русской классической традиции. Не случайно многие маканинские тексты строятся на прямых или косвенных отсылках к Гоголю ("Человек свиты"), Чехову ("Отдушина"), Толстому ("Кавказский пленный"), Лермонтову ("Андеграунд, или Герой нашего времени"). Однако Маканин придает этой концепции совершенно новое значение, связывая ее с такими феноменами культуры XX века, как "восстание масс", "массовое сознание", интерес к подсознанию, "массовая культура" и "массовые мифологии" (MM – как он называет их в повести-эссе "Квази").
В рассказах и повестях конца 1970 – начала 1980-х годов центральной маканинской метафорой отчуждения личности становится "самотечность жизни" (выражение, впервые прозвучавшее в "Повести о Старом Поселке", 1974). "Самотечность жизни" – это хаотическая логика повседневности, "сумасшествие буден", когда человек уже не контролирует свою жизнь, а превращается в щепку в безличном потоке бытовых сцеплений, зависимостей, обязанностей ритуалов, автоматических действий. "Самотечность" противоположна свободе, она стирает различия между личностями, уравнивая их в единстве функций. "Самотечность" – это и метафора безвременья, тотального социального разочарования и "примирения" с уродливой действительностью "застоя". По Маканину главное орудие "самотечности" – стереотип, воплощающий некую отчужденную логику общепризнанного и несомненного. Герои Маканина обнаруживали свою зависимость от "самотечности", когда в силу каких-то обстоятельств попадали в "конфузную", нестереотипную ситуацию – выпадали из потока. Так, Митя Родионцев из рассказа "Человек свиты" (1982), маленький чиновник, адъютант при большом начальнике, чувствует безмерную трагедию, потерю смысла всей жизни в тот момент, когда его отставили от свиты. Не сразу он понимает, что его просто выкинули, как вещь, не за какие-то личные проступки или прегрешения, а просто так, по внешней изношенности – "как ненужный старый шарф или старую перчатку". Переживая эту внутреннюю драму (а Маканин не опускается до иронии над своим "маленьким человеком"), Родионцев отдаляется от власти самотечности, начинает понимать ее обесчеловечивающую силу и постепенно приходит к ощущению свободы как ценности:
Родионцев улыбается: свободен от свиты, это же замечательная мысль! Это же очень умно!. . кого или чего бояться теперь ему, Родионцеву. Он смеется: великолепная мысль! Он приваливается спиной к какой-то стене. Свободен – пронзает его мысль еще раз. Родионцев улыбается и засыпает.
Восторг открытия очевидного показывает, что делает с человеком "самотечность", вытравляя из него самый инстинкт свободы. То, что не смогло сделать тоталитарное насилие, сделала тотальная повседневность – "жизнь без начала и конца". Собственно, весь рассказ "Человек свиты" оказывается о том, как трудно пробуждается в человеке "самотечности" инстинкт свободы.
Но Маканин одновременно показывает, что инстинкт свободы недостаточное орудие против "самотечности". В рассказе "Гражданин убегающий" (1984), повести "Предтеча" (1982) он рисует характеры профессионального первопроходца Костюкова, знахаря Якушкина – людей, живущих вопреки заведенному порядку вещей. Однако обнаруживается, что их существование очень быстро обрастает своей "самотечностью" – другими, нестандартными, но ритуалами и автоматизмом. И точно так же, как и "человек свиты", "убегающие" персонажи понимают, что они не властны над своей собственной жизнью и что убежать от самотечности можно только в смерть. Более того, Маканин показывает, что существование, подчиненное только "инстинкту свободы", обладает колоссальной разрушительной силой – метафорой этого разрушения становится первопроходчество Костюкова, оставляющего на своем пути брошенных женщин, детей, выросших без отца и затем идущих по его следу, изнасилованную природу. . . В "Предтече" платой за неспособность совладать с "самотечностью" культа знахаря, мышиной возней поклонников и пропагандистов, становится утрата стихийно-диким и страшноватым Якушиным своего целительного дара.
Глубинная неудовлетворенность "самотечностью" и трагическое неумение преодолеть ее власть наиболее глубоко исследованы в одном из лучших рассказов Маканина – "Антилидере" (1983). В одном и том же человеке, слесаре-сантехнике Толике Куренкове, сочетаются послушное следование заведенному порядку вещей ("человек он был смирный и терпеливый") и неуправляемое бунтарство, направленное обязательно на какого-нибудь удачника, любимца публики, мелкого пахана. Против чего бунтует Толик? Против логики "самотечности" – одних почему-то возвышающей, хотя они ничем не лучше, а чаще хуже других: "Ну, Шура, говорил он негромко, – ну почему же одному все можно – и деньги, и похвальба? А его еще и любят, унижаются". . . Причем Толику для себя ничего не надо, он вполне доволен своей жизнью, своей работой, друзьями ("Куренков вовсе не самолюбивый и не обидчивый"). Его бунтарство носит метафизический и иррациональный характер: он бунтует против несправедливости судьбы, пытаясь исправить ее доступными ему средствами – дракой. Показательно, что симптомы приближающегося бунта описаны Ма-каниным как чисто физиологический процесс – у Толика жжет в животе, темнеет лицо, съеживается тело. Он сам боится своих порывов, пытается их как-то сдержать, но безуспешно. В конце концов, после одной из драк оказавшись "на химии", Толик со стоическим спокойствием идет навстречу собственной гибели, не умея сломать себя перед холодной жестокостью "урок": он и здесь остается самим собой. Начатый как анекдот, рассказ заканчивается как высокая трагедия.
Характер Куренкова получил в критике очень разноречивые оценки: если И. Роднянская называет его "еще одним не согласным с ходом вещей Дон Кихотом"*372, то Л. Аннинский увидел в "антилидере" квинтэссенцию люмпенского, "барачного", сознания, стремящегося "всех уравнять" любой ценой*373.
Думается, маканинская интерпретация этого характера далека и от апологии, и от осуждения. В Куренкове наиболее ярко выразилось маканинское понимание "самотечности" и свободы. Порыв "антилидера" внутренне оправдан, но и разрушителен, потому что замешан на инстинкте, не осмыслен самим Куренковым, не обдуман, не пропущен через опыт культуры и цивилизации, да и откуда этот опыт у советского "маленького человека"? В этом смысле Куренков похож на шукшинских "чудиков", чье стремление к гармонии мира не было оплачено серьезной духовной работой. Но в отличие от Шукшина, Маканин видит источник освобождения от власти "самотечности" именно в бессознательном, в той неконтролируемой области, что рождает бунт тихого Толика. По Маканину, свобода от "самотечности" может быть достигнута ценой сознательного погружения в бессознательное, путем поиска корней своего "Я" в глубине прапамяти, в том, что он называет "голосами".
"Голоса" и экзистенция
Как пишет Маканин в одноименной повести, "голоса прямо противоположны стереотипам, которые в отличие от голосов всегдашни и даже вечны". Вечность стереотипов (хотя, казалось бы, вечными должны быть "голоса", восходящие к архетипам бессознательного) объясняется их безличностью – они соответствуют отчужденному от индивидуальности потоку массовой жизни, власти социальных ритуалов, правил, абстрактных идей; в то время как "голоса" у Маканина воплощают неповторимо личный, и потому уникальный, способ контакта с бытием, соответствуют предельно конкретному переживанию смысла жизни. Напряженное и сознательное вслушивание в "голоса", звучащие под сознанием, в прапамяти, – это, в сущности, то же самое, что и поиски ускользающей от абстракций, всегда личностной и неповторимой "экзистенции", "окликание бытия" (М. Хайдеггер). Человек Маканина стремится в архетипическом отзвуке услышать подтверждение подлинности и незаменимости своего существования. Это для него так важно именно потому, что "самотечность" лишает жизнь индивидуального смысла, превращая человека в молекулу в потоке таких же молекул.
Начиная с "Голосов", Маканин накапливает в своей прозе ситуации, позволяющие человеку пробиться к "голосам" сквозь корку "самотечности": это и сознание собственной смертности ("Утрата"), и чувство метафизической вины ("Отставший"), и "конфузная ситуация" ("Человек свиты"), и точка болезни, безумия ("Река с быстрым течением", и опять "Утрата", "Отставший"), безысходное одиночество ("Один и одна"). . . Отставание, утрата, одиночество, с одной стороны, давят "бессмыслием жизни вообще перед лицом рано или поздно подбирающейся смерти", а с другой – дарят недолгую возможность выйти за пределы "ограниченного и одностороннего своего опыта". Герой прозы Маканина – человек безвременья, не питающий ни малейших иллюзий насчет возможности обрести духовную почву во внешнем мире. Вот почему он ищет эту почву в себе, в собственной психике, пытаясь открыть в себе самом нечто тайное, нереализованное, связывающее изнутри и с прошлым, и с будущим:
Тоска же человека о том, что его забудут, что его съедят черви и что от него самого и его дел не останется ни следа (речь о человеке в прошлом), и вопли человека (в настоящем), что он утратил корни и связь с предками не есть ли это одно и то же? Не есть ли это растянутая во времени надчеловеческая духовная боль? ("Утрата")
Вместе с тем для Маканина крайне важно, что окликание "голосов" может быть только результатом напряженного интеллектуального труда. Через всю его прозу проходит образ счастливого "дурачка", юродивого, слабоумного – в "Голосах", "Отставшем", "Где сходилось небо с холмами", "Сюжете усреднения", "Лазе", "Андеграунде" – он счастлив, потому что живет в полном согласии со своими "голосами". Это они наделяют "дурачка" способностью чувствовать то, что безуспешно ищут другие (так в повести "Отставший" несчастный дурачок, изгнанный из партии золотоискателей, разбивает свою ночевку именно там, где золотая жила выходит на поверхность, и тщетно пытаясь догнать ушедшую от него бригаду, он не знает, что золотоискатели на самом деле идут по его следу). Но этот вариант недоступен для центрального героя Маканина – точнее, он лишен смысла: "голоса" нужны как опора для индивидуального само-сознания, которого лишен счастливый "дурачок".
Человек Маканина обретает себя только в "промежутке" между двумя формами роевого, массового сознания – между стандартизированной "самотечностью" внешней, социальной, жизни и между коллективным-бессознательным. Углубление в коллективное-бессознательное у Маканина не равнозначно растворению в нем. Это всегда напряженный поиск своего "голоса", уникального созвучия – равного обретению свободы. Так складывается экзистенциальный миф Маканина.
Крайне показательно, что одним из сквозных мотивов в зрелой прозе Маканина становится образ туннеля – купчик Пекалов в повести "Утрата" роет бессмысленный, по видимости, туннель под рекой Урал; Ключарев в повести "Лаз" по вертикальному туннелю спускается в некий подземный благополучный мир, в туннеле – "андеграунде" провел всю свою жизнь непризнанный писатель и бомж Петрович из последнего романа. Конечно, маканинский туннель шире этих конкретных образов. Неустанно пытаясь зарыться "в глубь слоистого пирога времени", а точнее, в пра-память, в пласт коллективного-бессознательного, маканинский герой все-таки ищет (и строит!) из темноты коллективного-бессознательного выход наружу – к своему "Я".
Наиболее сложно и интересно этот поиск разрешается в повести "Где сходилось небо с холмами" (1984). В центре повествования композитор Башилов, мучающийся виной перед своим родным Аварийным поселком – ему кажется, что он высосал "поселковый мелос", использовав душу народного хора в своей музыке. На самом деле, по Маканину, Башилов сохранил коллективную пра-память в своем индивидуальном творчестве, в то время как сам поселок утратил связь с "голосами", полностью поглощенный "самотечностью". Причем вина и боль Башилова оказываются воплощением темы трагической философской ответственности перед породившим тебя "хором" – той ответственности, без которой обретаемая в муках индивидуальная свобода была бы пустой или разрушительной. "Ему казалось возле темного раскрытого окна, что весь мир вокруг – это его поселок", – пишет Маканин. Именно ценой этой муки ответственности перед миром, сосредоточившимся в маленьком уральском поселке, рождается "завораживающая, заклинающая башиловская музыка" – один из немногих у Маканина примеров осуществленной свободы личности. Башилов действительно не может создать свою музыку вне силового поля "поселкового мелоса", именно отсюда он извлекает то единственное, что его индивидуальности, его уникальному таланту соответствует. Но неизбежная плата за личную свободу – разрушение безличной целостности поселкового хора-роя, бессознательного единства "голосов", уходящих в "слоистый пирог времени".








