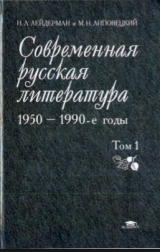
Текст книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Автор книги: Н Лейдерман
Соавторы: М Липовецкий
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 57 страниц)
Повторения в этом рассказе опять-таки превращают абсурд в закономерность, но несколько иначе, чем в рассказе о дяде Романе Степановиче. Здесь сама повторяемость абсурдных поступков подчеркивает их неизбежность, их обязательность. Неожиданной объясняющей параллелью к абсурдным выходкам брата становится история о побеге из лагеря, как бы невпопад рассказанная нелепым алкашом капитаном Дерябиным:
Поставил конвоира. Отлучился за маленькой. Возвращаюсь – нет одного зэка. Улетел. . . Нагнули, понимаешь, сосну. Пристегнули зэка к верхушке монтажным ремнем – и отпустили. А зэк в полете расстегнулся – и с концами. Улетел чуть не за переезд. Однако малость не рассчитал. Надеялся в снег приземлиться у лесобиржи. А получилось, что угодил во двор райвоенкомата. . . И еще – такая чисто литературная деталь. Когда его брали, он военкома за нос укусил.
Абсурд – это такой же полет вопреки земному притяжению. Абсурд оказывается воплощением ничем не искоренимой, органической (подчас бессознательной) потребности в свободе (именно поэтому Довлатов называет брата "стихийным экзистенциалистом"). Абсурдный полет в небеса ни к чему не может привести – он возвращает в исходное положение (на двор райвоенкомата), но это поражение порождает новый абсурд ("укусил за нос военкома"), совершенно лишенный реального смысла, однако значимый как "чисто литературная деталь" – как эффектный художественный прием.
Абсурд роднит Бориса не только с безымянным зэком. Контрапунктом к истории брата проходит через рассказ история самого Довлатова. Если брат удачник и конформист, то у Довлатова (персонажа) талант – совершенно противоположный: неудачника и нонконформиста. Естественно, братьев то и дело разносит в разные стороны. Но нелепые дары, полученные рассказчиком от брата ("четыре куска рафинада, японские сигареты "Хи лайт", голубая фуфайка да еще вот этот штопор"), оказываются самым дорогим в его собственной жизни. А Борис отказывается искать родственников со стороны своего биологического отца, говоря Сергею: "у меня есть ты, и больше никого. . . " Правда, аргументируется это братское родство вполне абсурдно (а может ли быть иначе?): "Как странно! Я – наполовину русский. Ты – наполовину еврей. Но оба любим водку с пивом".
Все дело в том, что абсурд у Довлатова обладает особой "скрытой теплотой", обнаруживающей (или подтверждающей) человеческое родство. Не случайно большинство рассказов из цикла "Наши", построенных так же, как рассказ о дяде Романе или о двоюродном брате, завершаются довлатовским признанием в родстве: "Мои внуки, листая альбом, будут нас путать" (о деде по отцовской линии), "Сейчас мы в Нью-Йорке, и уже не расстанемся. И прежде не расставались. Даже когда я надолго уезжал. . . " (о матери), ". . . что бы я ни сделал, моя жена всегда повторяет: – Боже, до чего ты похож на своего отца", "В остальном мы похожи. Немолодые раздражительные чужестранцы с комплексами. . . Сообща таскаем колбасу из холодильника" (о собаке Глаше). Подобные финалы вообще характерны для прозы Довлатова – достаточно вспомнить рассказ "Представление".
В сущности говоря, не только лирический герой Довлатова оказывается версией, авторской биографией, но и все прочие довлатовские персонажи выступают в той же функции. Почему? Потому что их жизнь точно так же строится из повторяющихся "микроабсурдов" (термин Виктора Топорова). Вся проза Довлатова напоминает разбитое, распавшееся на мелкие осколки, зеркало, над которым склонился человек, его разбивший, – автор. И в каждом, даже мельчайшем осколке мы снова и снова видим его лицо. Точнее, его лица, одновременно похожие и не похожие друг на друга. Абсурдность – знак распада, распада целостностей, распада логики, распада перспективы. Но Довлатов претворяет абсур-дистский распад – в общую "почву и судьбу". Все похожи на автора, и автор похож на всех, потому что все, включая автора, живут в абсурде, дышат абсурдом, любят, ссорятся, умирают в абсурде. В числителе человеческой дроби может быть любая величина и любое ничтожество, но знаменатель у этих дробей один, общий – абсурд. Все поделены на абсурд, но только благодаря этому общему знаменателю человеческие "дроби" могут вступать друг с другом в отношения, объединяться, расходиться, тосковать, чувствовать родство и отчуждение.
Абсурд у Довлатова приобретает черты постмодернистского компромисса между несовместимо полярными состояниями и понятиями. Абсурд одновременно оказывается уникальным и универсальным он примиряет повторяемость и неповторимость. Благодаря абсурду эпический мир Довлатова наполняется лирическим смыслом, и наоборот: все лирическое предстает в виде эпического предания*361. В конечном счете, абсурд выступает у Довлатова как. основа порядка в человеческой судьбе, в отношениях с людьми, в мироздании. Недаром он писал в "Записных книжках": "Основа всех моих занятий – любовь к порядку. Страсть к порядку. Иными словами – ненависть к хаосу. Кто-то говорил: "Точность – лучший заменитель гения". Это сказано обо мне".
Довлатовский абсурд не делает мир постижимым, он делает мир понятным. И это, пожалуй, самый удивительный парадокс довлатовской поэтики.
4. Людмила Петрушевская
Первоначально мир прозы Людмилы Петрушевской (р. 1938) воспринимался критикой и читателями как "натуралистический", с "магнитофонной" точностью воспроизводящий кухонные скандалы и бытовую речь. Петрушевскую даже характеризовали как родоначальника "чернухи". Но Петрушевская в этих характеристиках не повинна. Свою прозу она писала с конца 1960-х годов, тогда же началась ее карьера драматурга.
Проза и драматургия Петрушевской, бесспорно, замешаны на абсурдных коллизиях. Но ее абсурдизм не похож на приемы Евг. Попова или Сорокина. Петрушевская не пародирует соцреализм. Хотя нельзя сказать, что она совершенно не "замечает" соцреалистический миф. Петрушевская, минуя собственно соцреалистическую эстетику, как будто бы напрямую обращается к "жизни", сформированной этой эстетикой. Она изображает ситуации, в принципе невообразимые в соцреалистическом контексте, но соцреалистический миф здесь работает как "минус-прием": он сформировал особый мир "недопущенного" в свои священные пределы. Теневым двойником соцреализма была концепция о "жизни как она есть". Убежденность в том, что открытие социальной "правды" о жизни адекватно идеалам добра, справедливости и красоты, – питало мощное течение критического реализма в литературе 1960 – 1970-х годов. Эта вера объединяла таких разных писателей, как Солженицын и Айтматов, Астафьев и Искандер, Шукшин и Трифонов. . . Но Петрушевская последовательно демонтирует и эту эстетическую мифологию, доказывая, что правда жизни сложнее и трагичнее, чем правда о преступлениях социальной системы.
Одновременное противостояние лжи соцреализма узкой социальной правде "критического реализма" 1960 – 1970-х годов формирует особенности поэтики Петрушевской, как в драматургии, так и в прозе.
Драматургия: мифологизация абсурда
Пьесы, принесшие Петрушевской театральную славу, были написаны ею в 1970 – начале 1980-х годов. В это время они крайне редко ставились, их мрачные бытовые коллизии никак не соответствовали помпезным декорациям "развитого социализма". При первых постановках (в начале 1980-х) обнаружились два основных подхода к пьесам Петрушевской: либо они воспринимались как психологические драмы в чеховском духе о распаде семьи и о страданиях не приспособленных к грубой жизни интеллигентных людей ("Три девушки в голубом" в ленкомовской постановке Марка Захарова), либо как абсурдистские трагифарсы, лишь использующие современные реалии в качестве материала для актерской импровизации ("Квартира Коломбины" в театре "Современник", постановка Романа Виктюка). Парадоксальность и новизна драматургического языка, созданного Петрушевской, состоит, по нашему мнению, в сочетании тонкого реалистического психологизма с поэтикой абсурда.
Английская исследовательница Кэти Симмонс в книге о драматургии Петрушевской последовательно доказывает родство ее пьес с эстетикой театра абсурда, расцветшего на западе в 1950 – 1960-е годы (С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене и др. )*362. По мнению К. Симмонс, драматургия Петрушевской, как и европейский театр абсурда, рождены тотальной дискредитацией идеологии, на которую опиралась жизнь общества: Петрушевская "разделяет с абсурдистами внимание к процессам дезинтеграции в мире, потерявшем устойчивые ценности и определенность, вытекающую из веры, распад общества и человеческих отношений, обессмысливание языка, который перестает быть средством общения между персонажами, постоянно подверженным. . . разрушительным воздействиям внешней среды"*363. К. Симмонс отмечает особую для абсурдизма Петрушевской роль следующих элементов содержания и поэтики:
драматическая ситуация у Петрушевской всегда обнажает искаженность человеческих отношений, особенно в семье или между мужчиной и женщиной; ненормальность и патологичность этих отношений неизменно приводит ее персонажей к отчаянию и чувству непреодолимого одиночества; вообще Петрушевская выразила в своих пьесах катастрофический кризис семьи как социального института;
невозможность нормальных человеческих отношений выражается в том, что диалог у Петрушевской, как правило, приобретает черты монологов глухих, в сущности, язык не в состоянии выразить ту глубину отчаяния и одиночества, на которой находятся ее герои, и потому сам язык деградирует: языковая коммуникация не способствует взаимопониманию, а еще больше изолирует персонажей;
важной характеристикой персонажей Петрушевской является их анонимность (нередко имя характера обозначается просто буквой) – они взаимозаменяемы и безличны, одинаково тяжкие условия существования стирают их индивидуальные черты. Кроме того, как и в пьесах Беккета, характер у Петрушевской постоянно зависит от течения времени и меняется в зависимости от малейших изменений жизненной ситуации: только в данной конкретный момент характер равен самому себе – человеческая жизнь таким образом распадается на цепь изолированных друг от друга моментов, в которой не имеют значения ни опыт, ни культура ни память, каждый новый момент начинается с нуля;
особенностью сюжета пьес Петрушевской является неразрешимость конфликта, пьесы завершаются либо возвращением к начальной ситуации, нередко усугубленной новыми осложнениями ("Три девушки в голубом", "Дом и дерево", "Изолированный бокс", "Опять двадцать пять"), либо "ничем" осознанием тщетности попыток преодолеть одиночество, вступить в человеческий контакт, найти помощь или просто сострадание ("Лестничная клетка", "Я болею за Швецию", "Стакан воды"), либо мнимым финалом, разрешающим ситуацию лишь иллюзорно ("Чинзано", "День рождения Смирновой", "Анданте", "Вставай, Анчутка").
Эти наблюдения безусловно справедливы, но драматическая ситуация, характеры, конфликт и диалог у Петрушевской обладают также чертами, отличающими их от поэтики театра абсурда.
Прежде всего, бросается в глаза то, что Петрушевская, как правило (за исключением пьесы "Вставай, Анчутка"), избегает фантастических или условных ситуаций, характерных для Беккета, Ионеско или Жене. У нее абсурдистская коллизия разворачивается в узнаваемой декорации, в сплетении обычных (и шокирующих именно своей обычностью) бытовых обстоятельств. Вместе с тем Петрушевская никогда не выходит за пределы бытовой ситуации – скажем, отношения между властью, историческими обстоятельствами и людьми, кажется, совсем или очень мало занимают ее. Бытовая ситуация выступает как ситуация внесоциальная и даже вневременная (приметы времени могут быть сведены до минимума или даже совсем замещены стандартными театральными декорациями как в "Квартире Коломбины"). Таким образом, абсурдизм у нее выступает как вечная характеристика самых фундаментальных человеческих отношений – между родителями и детьми, мужчиной и женщиной, друзьями и родственниками.
Все эти отношения предстают изломанными и искаженными потому, что на первом плане в театре Петрушевской разворачивается ожесточенная борьба за существование: за крышу над головой, за квадратный метр, за сортир во дворе, за десятку до получки, за стакан воды на старости лет. Точно написала о театре Петрушевской М. Туровская: "Выжить, выдержать в разваливающемся или напротив слишком плотно обступающем быту, – вот лейтмотив пьес Петрушевской"*363. Человеческие отношения здесь превращены в одно из средств выживания – с кем-то, с минимальной поддержкой от кого-то, пускай давно уже не близкого человека, выжить легче. Критиков в свое время шокировало то, что пошлый Николай Иванович завоевывает сердце тонкой Ирины в "Трех девушках в голубом" тем, что строит ей отдельный сортир на даче; между тем с точки зрения героев, ведущих непрерывную борьбу за выживание, это действительно царский подарок.
Но в мире Петрушевской наивысшей ценностью обладает то, что не вписывается в условия этой жестокой борьбы. То, что существует вопреки ей. Это беспомощность и самопожертвование.
Мотив беспомощности, взывающей к состраданию, как правило, связан у Петрушевской с образами детей. Заброшенные дети, раскиданные сначала по детсадикам-пятидневкам, потом по интернатам; сын Ирины ("Три девушки"), оставшийся дома один и от голода сочиняющий трогательные и мучительные сказки; Дима из пьесы "Я болею за Швецию", который говорит о родителях, что они "подохли", – его мать повесилась от измен отца, а отец умер из-за того, что его "загнала в гроб" телефонными звонками теща; погибшие и не родившиеся младенцы ("Уроки музыки", "День рождения Смирновой", "Стакан воды") – вот главные жертвы распада человеческих отношений, раненые и убитые на бесконечной войне за выживание. Тоска по детям и вина перед детьми – это самые сильные человеческие чувства, переживаемые персонажами Петрушевской. Причем любовь к детям обязательно отмечена печатью жертвенности или даже мученичества:
Я с детьми в воскресенье на диете (т. е. не пью. – Авт. ). Утром в воскресенье просыпаюсь, а мои бурундуки сидят на мне. Говорят: папа, мы будем тебя мучить, пока не закричишь. Ну, говорю. У них иголки. Пока не закричишь. Я молчу. Они глубже загоняют. Папа, почему ты не кричишь. А я говорю: партизаны всегда молчат.
Эта странная сцена отцовской любви несет на себе явный садо-мазохистский отсвет, но если учесть, что слова эти принадлежат персонажу пьесы "Чинзано", алкоголику, скрывающемуся от своих многочисленных жен и подруг, то станет понятно, что эта пытка оправдана желанием искупить вину перед детьми страданием. В то же время дети оказываются единственным оправданием повседневного мученичества, единственным тем, за что можно держаться:
. . . У меня Владику семь, а Светочке четыре с половиной. Ради них надо кое-как жить. Я тут в экспедиции была, летом в Каракумах. Вышла в пески, легла на бархан и думаю: вот бы так от солнца удар получить, умереть. Но детей ведь не оставишь, их надо поднимать. Старики уже старые. ("День рождения Смирновой")
Самопожертвование в театре Петрушевской встречается крайне редко. Наиболее чистый, почти идеальный пример – Анчутка из цикла "Бабуля-блюз". Но Анчутка в русском фольклоре – это одно из имен Лешего. Анчутка, созданная Петрушевской, также обладает сказочно-фантастическими чертами она бессмертна, хотя от сострадания чужим горестям буквально рассыпается прахом ("она чем хороша, что она неистребимая. . . "). Анчуткина готовность к самопожертвованию – вот что делает ее бессмертной. Другие созданные Петрушевской старики и старухи борются до последнего момента за скромные жизненные блага, стараясь не поддаться соблазну самопожертвования ради детей, внуков, правнуков. Инерция борьбы за выживание настолько сильна, что они уже не могут остановиться. Но на самом деле их неспособность к состраданию и самопожертвованию выдает их страх смерти и, главное, внутреннюю неготовность к смерти.
Мотив смерти неизменно возникает в пьесах Петрушевской и особенно в цикле "Бабуля-блюз". Это своеобразный критерий вечности, и редкий персонаж Петрушевской выдерживает испытание им. Паша из "Чинзано" пускается в запой, только чтобы не хоронить мать, мать Иры ("Три девушки") оставляет пятилетнего внука одного в пустой квартире и уходит умирать в больницу ("ухожу умирать с чистой совестью"), Вера Константиновна из пьесы "Дом и дерево" ходит к юристу, чтобы выяснить, как бы так сделать, чтобы детям после ее смерти ничего не досталось – ни дача, ни квартира и т. п.
Но несмотря на то, что сюжетное развитие доказывает, как попираются и игнорируются ценности, выходящие за пределы борьбы за выживание, в структуре пьес Петрушевской эти ценности представлены мотивами смерти, голосом ребенка, надеждой на сострадание (пусть даже тщетной), иррациональной потребностью жить для кого-то, которую испытывают даже самые черствые: "Я хотела всегда первая о нем заботиться, все ему отбила, сама расхлебала, а он тоже человек, тоже хочет жить по-человечески, о ком-то думать" ("Стакан воды"). Иногда знаками этих ценностей становятся такие чисто литературные сигналы, как, например, "звук разорвавшейся струны" в пьесе "Любовь" или страшный ритуальный танец Паши из "Чинзано" с материным похоронным платком на глазах, символизирующий ослепление и явственно вызывающий ассоциацию с "Царем Эдипом" ("Я ничего не вижу. . . Слушай, у тебя лицо почернело"). Как бы ни был текуч и анонимен характер у Петрушевской, каждый из них осознает себя через отношение к этим категориям. У каждого есть свой трагический микросюжет, воплощающий его или ее неповторимую и неизменную душевную боль. Так, М. из "Стакана воды" не может забыть, как истопница сжигала в топке ее не рожденных близнецов, а Эля из "Дня рождения Смирновой" помнит о том, как, сделав поздний аборт, она услышала от врача: "Эх, какого парня загубили!".
Язык диалогов Петрушевской – со спутанной грамматикой и смешными стилистическими ошибками ("Ира, ты гордая, пойми об этом!", "я так соскучился за вам", "это не играет никакого веса"), конечно, отражает сдвинутые, смещенные и ненормальные отношения между людьми. Но не только. Роман Тименчик проницательно писал о языке драматургии Петрушевской: "Здесь своя иерархия ценностей. Здесь фамильярничают со всем, что попахивает официальным. Подрывание основ, хранение и распространение, тенденциозная подборка и прочее, прочее, здесь заложены в самом языке. Но эта ехидная наивность, ерническое косноязычие, скороговорки нахальных метафор через голову книжно-газетного языка аукаются с поэтическим словом, с бессмертными стихами. И с Петрушевской мы входим не столько в прозу жизни, сколько в поэзию языка"*364. И в самом деле, ответ на вопрос о месте жительства "Сейчас еще нигде, пока уже опять" ("Чинзано"), обещание "я в пятницу буду, как отщепенец", или же характеристика семейной пары: "жена у него дочь какого-то генерала, совсем простая девка. А он из Рюриковичей" ("День рождения Смирновой") и многие другие парадоксы, произносимые героями Петрушевской, воплощают максимально доступную им свободу. Зажатые в тисках бытовых обстоятельств, они только в языке чувствуют себя свободными, только в речи могут выразить свое "я". Права М. Туровская, когда пишет о том, что театр Петрушевской отличается "всецелой выраженностью через язык", и что "обмен словами, "выясняловка" и есть главное действие пьес Петрушевской"*365.
С этой точки зрения, необходимо внести поправку в представление о неразрешимости конфликтов Петрушевской. Да, в практическом смысле ситуация не изменяется к лучшему, а чаще всего ухудшается. Но диалог героев, "выясняловка", даже если эти персонажи и не слышат друг друга, отнюдь не бесполезен. Во-первых, их одновременные, перебивающие друг друга монологи слышит зритель (читает читатель), и он видит, как похожи в своих несчастьях эти разные люди, и главное, как похожи они на нас. Мы не одиноки в своем одиночестве – так можно обозначить драматическую кульминацию фактически любой пьесы Петрушевской. Это сознание парадоксально преодолевает изоляцию, протягивает хрупкую нить сострадания между людьми. Так, в пьесе "Стакан воды" М. , не пускающая на порог пришедшую просить о помощи А. (после смерти матери она попала в психиатрическую больницу, а когда выписалась, брат-близнец выгнал ее из дома), несмотря на отказ помочь, на видимое непонимание, М. как бы узнает в А. свою не родившуюся дочь ("Я тебе рассказывала, моим близнецам было бы сорок лет. . . Только не говори про брата, что близнецы. А то он на меня кричать будет – это ты все выдумала, опять у тебя галлюцинации, опять близнецов приплела. Ты ведь не галлюцинация"). А пьеса "Любовь" начинается с того, что сразу после свадьбы Толя объясняет Свете, что он не любит ее, потому что "любить никого не способен". Но на самом деле его любовь выражается не в романтических словах и поступках, а в том, что он все время помнит о том, что у Светы стерта нога и ей больно ходить в новых туфлях, и Света чувствует его способность к состраданию и чувствует его одиночество (такое же глубокое, что и у нее), когда решается уйти вместе с Толей от своей разгневанной матери.
Да, мир драматургии Петрушевской абсурден и раздроблен, но в глубине распада всегда ощущается некое большее, чем бытовое, единство. Это единство парадоксально: оно опирается на образы вечности, начала и конца жизни (дети и старики), явленные не в возвышенном, а, скорее, в униженном виде; оно реализуется через диалогические созвучия между изолированными монологами одиноких героев; оно окрашено в оксюморонные тона вольным и не подчиняющимся никаким правилам языком ее персонажей. Но это единство вносит в жизнь ее героев измерение вечности, не отделимое от измерения бытовых войн и катастроф. По сути дела драматургия Петрушевской убеждает в том, что распад и разрушения, ненависть и жестокость в повседневной жизни на самом деле истребляют бытие и вечность, не менее. И только сострадание и самопожертвование способны укрепить тонкую ткань вечности, на поверхности которой идет смертельная борьба за выживание.
Новелистика: эсхатология повседневности
В прозе Петрушевской грубо натуралистические, максимально приближенные к "правде жизни" ситуации и коллизии сочетаются с исключительной и подчеркнутой литературностью. Даже в названиях ее новелл постоянно звучат интертекстуальные сигналы, в повествовании скрытые или полускрытые за "жизнеподобием" сюжета: "Случай Богородицы", "Песни восточных славян"; "Медея", "Новые Робинзоны", "Новый Гулливер", "Новый Фауст", "Дама с собаками", "Элегия", "Теща Эдипа", "Мост Ватерлоо". . . Петрушевская, как правило, продолжает интертекстуальную связь, заданную в названии рассказа. Зачем-то знаки высокой культуры нужны Петрушевской. Самое легкое объяснить все это тем, что так создается тот контрастный фон, на котором отчетливее проступают дикость и безумие жестокой повседневности, в которую Петрушевская всматривается без малейших признаков брезгливости. Однако в интонации повествования у Петрушевской никогда не прорвется гнев или осуждение. Только понимание, только скорбь: ". . . все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело" ("Смотровая площадка"). Тем самым Петрушевская демонтирует такой важный элемент реалистической традиции, как учительское всезнание автора, дающее ему право суда над заблудшим героем. Автор у Петрушевской такого права лишен.
Максимально приближенная к обыденной речи, звучащая как бы из глубины обыденности, повествовательная интонация Петрушевской насыщена элементами той речи, что звучит в российских очередях, курилках, канцеляриях и лабораториях, во время семейной ссоры и дружеского застолья. Но эта интонация обязательно содержит в себе какой-то сдвиг, причем сдвиг этот ничуть не выпадает из общей сказовой стилистики, он, скорее, ее утрирует, добавляя трудноуловимый элемент некой неправильности, логической или грамматической. Эти повороты то и дело происходят и в речи автора-повествователя, и в так называемых монологах – разницы тут почти никакой нет, дистанция между автором и героем сведена до минимума:
Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, прикрывшегося для виду седой гривой и красной кожей. . . такой у нее получился результат", ". . . у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь", "Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, как-то нечеловечески страшно", ". . . ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей Дамы – своей единственной.
Эти сдвиги фиксируют возникновение какой-то новой, нереалистической, точки зрения внутри повествования. Почему нереалистической? Потому что этот сдвиг никак не мотивирован изменением обстоятельств существования героев: а ведь детерминированность сознания обстоятельствами – важнейший постулат реалистической эстетики. Стилистические сдвиги у Петрушевской создают эффект метафизических "сквозняков". На наших глазах предельно конкретная, детально мотивированная, строго конкретная ситуация вдруг развоплощается и, не теряя в конкретике, оборачивается притчей, параболой, абстрактной экзистенциальной моделью. Притча у Петрушевской как бы просвечивает сквозь конкретную ситуацию изнутри. На эти параболические абстракции и работают интертексты, прошивающие натуралистические сюжеты прозы Петрушевской.
Во-вторых, проза Петрушевской убеждает в том, что "жизнь как она есть" при ближайшем рассмотрении этически безразлична, если не бессмысленна. В 1990-е годы Петрушевская все активнее стала работать в жанрах, казалось бы, весьма удаленных от ее обычной манеры. Ее "страшилки" ("Песни восточных славян") волшебные сказки "для всей семьи", "дикие животные сказки" (в которых наряду с пчелой Домной и червяком Феофаном действуют поэт Евтушенко и славистка Нюся Мильман) – все эти формы, в сущности, сублимируют тот пласт, то измерение, которое всегда присутствовало в подсознании поэтики Петрушевской. Это измерение мифа. Именно координаты мифологического сознания объясняют, почему, например, герои "реалистических" рассказов Петрушевской абсолютно не совместимы с реалистической концепцией "типического характера" как "знакомого незнакомца" – индивидуального психологического продукта более или менее всеобщих социальных обстоятельств. Петрушевская парадоксально деконструирует этот постулат реализма: при всем своем жизнеподобии она совершенно игнорирует какую бы то ни было индивидуальность психологии персонажа, так называемую "диалектику души", зато максимально утрирует "типичность" персонажа – правда, она связывает характер не с социальными обстоятельствами, а с категорией более древней, абстрактной и строго метафизической – с роком. Человек у нее полностью равен своей судьбе, которая в свою очередь вмещает в себя какую-то важную грань всеобщей – и не исторической, а именно вечной, изначальной – судьбы человечества*366.
Недаром в ее рассказах формальные, чуть не идиоматические фразы о силе судьбы и власти рока звучат с мистической серьезностью: "Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья" ("Темная судьба"). "Но рок, но судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь неизвестно в каком мраке, повернули все не так. . . ", ". . . хотя потом оказалось, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы, спасти не может ничто, кроме удачи". Нередко фразы такого рода звучат у Петрушевской в концовках рассказов – как некое снимающее этическую оценку завершение, на самом деле не завершающее сюжет, а размыкающее его в метафизическую бесконечность.
Судьба, проживаемая каждым из персонажей Петрушевской, всегда четко отнесена к определенному архетипу: сирота, безвинная жертва, суженый, суженая, убийца, разрушитель, проститутка (она же "простоволосая" и "простушка"). Все ее "робинзоны", "гулливеры", другие сугубо литературные модели – не исключение из этого же ряда. Речь идет всего лишь о культурных опосредованиях все тех же архетипов судьбы. Петрушевская, как правило, только успев представить персонажа, сразу же и навсегда задает архетип, к которому будет сведено все ее/его существование. Скажем, так: "Дело в том, что эта. . . Тоня, очень милая и печальная брюнетка, на самом деле представляла из себя вечную странницу, авантюристку и беглого каторжника" (курсив наш. – Авт. ). Более того, Петрушевскую чрезвычайно увлекают причудливые взаимные метаморфозы различных архетипов. Так, например, в рассказе "Новый Гулливер" повествование ведется от лица прикованного к постели человека, которому кажется, что его окружают лилипуты (никто, кроме него, их не замечает), ворующие у него еду и лекарства, таскающие перья из подушки, всячески ему досаждающие. Однако в конце рассказа "новый Гулливер" превращается в Бога и в лилипута одновременно:
Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я, всевидящим оком наблюдающий их маету и пыхтение, страдание и деторождение, их войны и пиры. . . Насылающий на них воду и голод, сильнопалящие кометы и заморозки (когда я проветриваю). Иногда они меня даже проклинают. <...> Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего десять тысяч лет назад, и иногда нас тоже заливает водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение. . . Моя жена ждет ребенка и все ждет не дождется, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже, но кто бдит над нами, и почему недавно в магазинах появилось много шерсти (мои скосили полковра). . .
Почему?. . .
Интересно, что замечание о связи между появлением шерсти в городских магазинах и тем, что "мои (т. е. лилипуты. – Авт. ) скосили полковра", рисует жизнь Богов парадоксальным образом зависимой от жизни лилипутов: кто по отношению к кому более могущecтвeн, непонятно. Иерархия разрушена вместо нее возникают отношения взаимной зависимости, при которых каждая, даже не видимая глазу мелочь, может оказать влияние на жизнь.
Повесть "Время ночь"
Во всем пестром хороводе мифом отлитых ролей центральное положение у Петрушевской чаще всего занимают Мать и Дитя. Лучшие ее тексты про это: "Свой круг", "Дочь Ксении", "Случай Богородицы", "Бедное сердце Пани", "Материнский привет" "Маленькая Грозная", "Никогда". Наконец – ее повесть "Время ночь". Именно "Время ночь" (1991), самое крупное прозаическое произведение писательницы, позволяет увидеть характерную для Петрушевской интерпретацию отношений между матерью и дитем с максимальной сложностью и полнотой.








