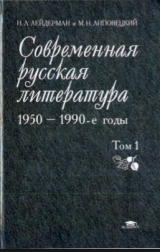
Текст книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Автор книги: Н Лейдерман
Соавторы: М Липовецкий
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 57 страниц)
Однако натурализм Астафьева определяет такую важную черту романного дискурса, как беспощадная трезвость видения, часто опровергающая декларации автора. Если присмотреться к бытию солдатского "союза", особенно в первой книге романа, то нетрудно увидеть, что нестерпимой его жизнь делают не только к даже не столько идеологические и этнические "чужаки". Кто обворовывает солдат? "Кухонные враги", – отвечает Астафьев. Откуда ж они взялись? Из "нашего любимого крещеного народа", в котором, по наблюдениям романиста, случаются порой такие вот психологические странности: "Получив хоть на время какую-то пусть самую ничтожную власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его". И кстати тезис этот подтверждается наглядно, когда любимые астафьевские герои, попав в наряд по кухне, отъедаются за счет своего же брата-служивого, или же когда дружно наваливаются на "шамовку", украденную Булдаковым. Где? У кого? Либо все на той же кухне, либо из подполов у таких же голодных да беспомощных бабок из соседней деревни, чьи сыновья сейчас гибнут на фронте.
Имеет ли такое народное единство, эстетически восславленное в романе "Прокляты и убиты", что-то общее с христианской идеей? Очень сомнительно. Потому что это единство тел, борющихся за выживание, а не душ, охваченных единой верой или хотя бы единой духовной ориентацией. Это единство до-нравственное, до-идеологическое. Не случайно поэтому его лидерами становятся люмпены, не связанные никакими моральными нормами и принципами. Характерно, что единственный среди огромного множества персонажей глубоко верующий – Коля Рындин, добряк-богатырь, воспитанный своей "баушкой Секлетиньей" в строгости и душевной чистоте (о нем говорится: "Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять"), который поначалу обещал божьи кары своим однополчанам за порочные склонности, сам потом с удовольствием уплетает ворованное у бердских крестьян сало и нахваливает вора, Леху Булдакова, за сноровку и лихость. Кстати, если Коле Рындину отводилось немало места в первой книге, то во второй, фронтовой книге он оттесняется на задний план, фактически исчезая из поля зрения автора, зато в центре повествования оказываются фигуры Булдакова и Зеленина-Шорохова один демагог и бездельник, другой вор-рецидивист, вот они-то и в казарме, и на фронте возглавляют солдатский "союз".
Подобное единство носит саморазрушительный и антициви-лизационный характер; и потому так риторичны христианские проповеди автора, потому так неубедительны религиозные "прозрения" героев, возникающие лишь тогда, когда подводит надежда на "союзность", на выживание в стае (как после казни братцев Снегиревых). Желание Астафьева придать народной телесной общности (в сущности, глубоко языческой, племенной, первобытной) христианский, религиозный характер тоже не на пустом месте возникает. Астафьевская религиозность сродни его же телесной стихии прежде всего игнорированием личностных ценностей. В романе "Прокляты и убиты" выстраивается миф о народной общности вне личности, вне индивидуального самосознания основанный на доличностных (телесность) или надличностных (вера) ценностях.
У философа и писателя Александра Зиновьева есть работа, которая называется "Почему мы рабы?". Здесь автор рассматривает то социально-психологическое явление, которое он назвал феноменом "коммунального сознания". Человек "коммунального сознания" – раб, раб по доброй воле, ибо он отказался от муки свободы выбора и бремени личной ответственности, отдал себя на волю общей, классовой стихии, обретя покой в чувстве однородности со всеми и покорности общей судьбе. А разве в конце романа "Прокляты и убиты" не получается тот же апофеоз "коммунального сознания"? Только не под большевистской звездой, а под православным крестом.
В жанре жестокой "физиологии", в мире "черной ямы" едким сарказмом были окрашены слова автора про политбеседы недалекого умом и не шибко образованного капитана Мельникова:
Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все же веровать хочется – под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящая сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание.
А вот в мире идиллии абсолютно серьезное восприятие солдатами совершенно убойных агитстихов Джамбула, этого "словесного варева", вызывает у умницы Ашота Васконяна, который читывал "Данте в лучших переводах, Верхарна и Бодлера – без перевода", вполне примирительное: "Дант Дантом, Бодлер Бодлером, но жизнь такова, что ныне ей нужен Джамбул". И с этим автор теперь не спорит.
Это незаметное возвращение на круги своя, невольное примирение с тем, что яростно отвергал, сам романист, похоже, не замечает.
В рассказе "Жизнь прожить" Астафьев печалился нашим повседневным раз-ладом, ужасался тому, что мы умеем одолевать его только отчаянной самоотверженностью, ценою больших мучений и потерь. Теперь же, в романе "Прокляты и убиты", тональность сменилась. Раскрыв весь ужас стадности по большевистским рецептам, Астафьев не сомневается в благостности "коммунального сознания" как такового. Пороки "коммунального сознания" оказались амортизированы ситуацией Отечественной войны. И оттого "бедовость" общенародного менталитета приобрела розовую, идиллическую окраску.
Противоречия, которые свойственны роману "Прокляты и убиты", в той или иной мере проявились и в последующих произведениях Астафьева – в повестях "Так хочется жить" (1996) и "Веселый солдат" (1998), также обращенных к памяти об Отечественной войне. В самых последних публикациях, увидевших свет в 2001 году, Астафьев остается верен принципам натуралистического сентиментализма. Только он как бы разъял свой бинарный (натуралистически-сентиментальный) мир на автономные "материки". В рассказах "Трофейная пушка" и "Жестокие романсы" (Знамя. – 2001. – No 1) Астафьев показал в жестоком натуралистическом свете два варианта нашей родимой дури. В первом – тип советского дурака с инициативой, из-за которого на фронте гибнут люди. Во втором – еще одну версию "песенного характера": сибирского егозливого парня Кольку-дзыка, что, не зная удержу, лихачил на фронте, по собственной глупости лишился ног, а оказавшись в тылу, в роли героя-инвалида, стал форменным бедствием для земляков, которые сами от него и избавились, утопив в реке. Завершается рассказ кратким эпилогом: "Начат этот рассказ еще на Урале, закончен осенью 2000 года в Сибири. Настоящую фамилию Кольки-дзыка я изменил, чтобы не так стыдно было мне, вам. Всем нам".
В рассказе "Пролетный гусь" (Новый мир. – 2001. – No 1) писатель излагает душераздирающую историю гибели семьи молодого фронтовика (Данилы и Марины и их малыша Аркани), которую уже в мирное время сгноила бессердечность сытого обывателя, что всю войну "провоевал" в политотделах. (Рассказ "Пролетный гусь" перекликается с некоторыми фабульными линиями повести "Веселый солдат", но в отличие от полифонического колорита повести рассказ окрашен в тона слезной пасторали о послевоенных Тристане и Изольде. )
В последних рассказах Астафьев как бы оголил каркас своего художественного мира, что привело, с одной стороны, к усилению дидактизма, а с другой – к некоторой схематизации и эстетическому упрощению картины жизни. . .
* * *
Собрание сочинений Виктора Астафьева, выпущенное в 1998 году в Красноярске, состоит из пятнадцати томов. В них спрессован изнурительный труд души художника, остро переживающего все, что совершается в мире, мечущегося мыслью, запальчивого в чувствах, но всегда искреннего в своих поисках истины. Это огромное количество произведений, не всегда ровных по степени совершенства, порой очень угловатых и даже колючих по мыслительному напору, раздражающе беспокойных по эмоциональному пафосу, все-таки представляет собой вполне узнаваемую художественную систему. Ее структурной осью выступает диалогическая оппозиция жестокого натурализма и открытой сентиментальности. Семантика этих полюсов у Астафьева устойчива: если натуралистический срез мира – это полюс хаоса, гибели души и жизни, то сентиментальный срез – это всегда полюс идеального, эстетически возвышенного.
Существенные особенности сентименталистской эстетики, как отмечал М. М. Бахтин, таковы: она "развенчивает примат грубой силы", отрицает официальное величие ("слезы антиофициальны"), осуществляет переоценку существующих масштабов, в противовес им утверждает ценность "элементарной жизни". Астафьев в своих произведениях актуализирует память сентиментализма, вводя его семантику в живую современность. Более того, он открывает новые семантические ресурсы сентиментальной оптики и палитры. Вопреки утверждению Бахтина о том, что "сентиментально-гуманистический тип развеществления человека ограничен", что "сентиментальный аспект не может быть универсальным и космическим, он сужает мир, делает его маленьким и изолированным"*58, Астафьев охватывает сентиментальным пафосом, а конкретнее – жалостью и состраданием – и отдельного, "маленького человека", и целое воинство, и весь народ, и всю землю.
Однако модус сентиментального мировосприятия остается у Астафьева традиционно нормативным, т. е. как бы "предзаданным" в исходной позиции автора. Нормативность всегда выражается в организованности художественного материала авторским замыслом. И если организованность органична, то это проявляется в эффекте саморазвития художественного мира, наглядно убеждающего в достоверности авторской концепции, какой бы "предзаданной" она ни была. В самых совершенных произведениях Астафьева (например, в "Пастухе и пастушке") возникает эстетическая согласованность между натуралистической достоверностью и сентиментальной нормативностью. В отдельных вещах писателя такой "баланс" не получался. Это происходило тогда, когда на полюсе идеала вместо сентиментальной модели мира пасторальной ли, наивно-детской, утопически-деревенской или какой-то другой – выступала публицистическая риторика (наиболее явственно – в романах "Печальный детектив" и "Прокляты и убиты"). Риторика, конечно, носит нормативный характер, и в этом смысле она со-природна сентиментальному пафосу. Однако нормативность, выраженная риторически (через автора-повествователя или через героя-резонера, вроде следователя Сошнина в "Печальном детективе"), оказывается неравным полюсом в диалоге с натуралистической картиной. Как ни накачивает Астафьев свое риторическое слово экспрессией, используя для этого самые сильнодействующие средства от исступленных лирических медитаций до лихих ненормативных "заворотов", все равно пластика натуралистических картин эстетически впечатляет куда больше. Такой "дисбаланс" оборачивается художественными потерями: раз нет равноправного диалога между оппозиционными полюсами эстетической реальности, который является в системе Астафьева "мотором" саморазвития художественного мира, то эвристические способности такого произведения ослабевают, оно все больше начинает выполнять роль иллюстрации к авторской идее.
И все же. . . Астафьев настолько крупное явление в русской литературе второй половины XX века, что даже его художественные просчеты и то, что могло вызывать решительное несогласие с ним творчески значительно и примечательно для состояния художественного сознания его времени.
Глава IV ГРОТЕСК В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ
1. К характеристике гротеска
Концепция гротеска восходит к Ренессансу, когда были открыты римские орнаменты, состоящие из причудливых комбинаций животных, растительных и человеческих черт. М. М. Бахтин связывал гротеск с карнавальной культурой и проследил эволюцию этого художественного приема от Рабле до романтизма, в котором гротеску придавалось особое значение. Если в карнавальной и возрожденческой традиции сочетание противоположностей – смерти и рождения, высокого и низкого, красоты и безобразия – воплощает "противоречивое единство умирающего и возрождающегося мира", то в романтическом гротеске на первый план выдвигается кричащий диссонанс, выражающий трагическую несовместимость идеала и действительности, омертвение, автоматизацию жизни, искажение ее сущностных черт. В модернизме традиция романтического гротеска получает новое продолжение – в гротескных образах Андрея Белого, Федора Сологуба, Кафки, Джойса, Хармса – оформляется попытка "воплотить хаос, стоя на хаотической точке зрения" (выражение Й. Бехера). В советском литературоведении сложилась концепция "реалистического гротеска" (Гоголь, Щедрин, Маяковский, Брехт, Булгаков), в котором "гротескный мир не просто назван, существует не номинально, он воспроизведен во всем объеме, разанатомирован до мелочей, уснащен десятками выразительных подробностей. Мы как бы разделяем иллюзию истинности этого мира, ни на минуту не забывая об его условности"*59. В таком гротескном мирее обязательно – впрямую или "от противного" – присутствует знание о жизненной норме, о том, какой жизнь является или должна быть на самом деле: "Гротескный катарсис связан с постижением разумного в неразумном, естественного в странном"*60.
В русской культуре особая роль в формировании гротескной эстетики принадлежит Гоголю, который, как показал в своих исследованиях Ю. В. Манн, соединил свойства карнавального романтического и реалистического гротеска. По мнению этого исследователя, для гоголевского гротеска характерны такие черты, как "универсализация", связанная с нагнетением однородных искажений здравого смысла и невероятных комбинаций в пределах одного образа: "Углубление смысла происходит за счет того что "глупость" следует за "глупостью". И тогда в какой-то момент читателю открывается, что лиц и событий иного порядка не будет и не может быть и что это унылое течение пошлости и "называется жизнью". В этот трудно уловимый, но объективно непреложный момент "смешное" оборачивается "грустным""*61. Другим важным свойством гоголевского гротеска является "логика обратности", при которой "недостойный счастливее достойного; словом, моральные нормы также ставятся с ног на голову. . . Все происходит наоборот не по отношению к моральным достоинствам лица, а по отношению к сознательно поставленной им и сознательно преследуемой цели"*62. В то же время "соприкосновение, казалось бы несовместимых явлений", например, низкого и высокого не обязательно окрашено у Гоголя в комические тона. Так "в "Старосветских помещиках" образы еды, образы низшей, естественной жизни вдруг начинают свидетельствовать о глубоком индивидуализированном чувстве, о высших человеческих способностях"*63. А в "Шинели" традиционный романтический мотив автоматизации, подчинения личности власти вещи раскрывает "могучую внутреннюю силу", скрытую в несчастном Акакии Акакиевиче.
Влияние Гоголя на литературу 1960 – 1970-х очевидно: оно отчетливо дает о себе знать уже в прозе Синявского и Даниэля, а затем доходит до таких прямых парафразов гоголевских сюжетов, как, например, "Шапка" В. Войновича ("Шинель") или "Полтора квадратных метра" Б. Можаева ("Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"). Гротескная поэтика позволила выразить фантасмагорическую, противоестественную и уродливую природу советского социального устройства и советской психологии, этим устройством отштампованной.
Но обращение к гротеску в литературе этого периода объясняется и более фундаментальными свойствами гротеска.
Известный эстетик XIX века Джон Рескин видел в гротеске форму сопротивления социальному порядку: по его мнению, все формы гротеска непосредственно связаны с игрой и тем самым воплощают волю к свободе от каких бы то ни было социальных, эстетических или логических ограничений. Гротеск в философском смысле выражает болезненное ощущение пределов познания, мучительно суженной перспективы, отсутствия трансценденции. Чувство предела находит воплощение в мотивах смерти, насилия, а также неадекватности знака, слова, языка, человеческого сознания в целом по отношению к страшному и таинственному миру вокруг*64.
Современный исследователь Джеффри Харфем, развивая этот взгляд на гротеск, отмечает, что гротескная эстетика регулярно актуализируется в моменты культурных "интервалов", "парадигматических кризисов", "когда накопилось уже достаточное количество аномалий для того, чтобы прежняя парадигма или модель познания была дискредитирована настолько, что в нее нельзя было верить, но до того, как происходит общее приятие новой парадигмы"*65. Эта характеристика как нельзя более точно подходит для периода 1970-х годов, когда идеология и эстетика "развитого социализма" были полностью дискредитированы фактически во всех слоях общества, но для "общего приятия" новой системы ценностей было еще очень далеко.
Гротескное искусство 1970-х было рождено раздвигающимися "ножницами" между социально-идеологическим языком вместе с соответствующей ему картиной реальности и тем, что эта реальность представляла на самом деле; условно говоря, между программой "Время" и каждодневным опытом ее зрителей, между "Историей партии" и подлинными историческими трагедиями.
Однако "парадигматический кризис", отразившийся в подъеме эстетики гротеска в литературе 1970-х годов, распространился не только на категории и ценности коммунистической идеологии и социалистической эстетики. Он носил более универсальный характер. Парадоксальность ситуации состоит в том, что большинство авторов гротескного направления начинают как язвительные критики советского мира, но сама избранная ими поэтика подводит их к тому порогу, за которым – нередко помимо воли самих авторов – обнаруживается противоречивость и проблематичность тех ценностей, которые они противопоставляли фантасмагориям советской системы и ментальность: "парадигматический кризис" выражается в том, что под беспощадным обстрелом гротеска оказываются категории личности и личной свободы (А. Галич и В. Высоцкий), народа и народной правды (Ю. Алешковский, В. Войнович, Ф. Искандер, М. Жванецкий), культурного опыта и интеллигентской традиции (В. Аксенов, Вл. Уфлянд, Игорь Губерман).
Несколько схематично можно выделить в русской литература семидесятых следующие тенденции внутри гротескного направления:
романтический гротеск основан на контрасте между личностью взыскующей индивидуальной свободы, и фантастическими парадоксами общества комфортабельной несвободы (поэзия Александра Галича и Владимира Высоцкого);
потенциал социально-психологического (или реалистического) гротеска в современной русской литературе, пожалуй, впервые был наиболее полно реализован в прозе Андрея Синявского (Абрама Терца) и Юлия Даниэля (Николая Аржака) (об их творчестве см. в главе III книги первой). Эта версия гротеска предполагает остранение через укрупнение (порой доходящее до фантастики) отдельных, как правило, наиболее существенных и наименее артикулированных норм советского образа жизни. Другой характерный для этой поэтики прием – небольшое фантастическое допущение (вроде Дня Открытых Убийств или существование независимого от СССР острова Крыма), внедренное во вполне реалистическую картину мира и тем самым катализирующее ее саморазоблачительные эволюции. Вслед за Синявским и Терцем по этому пути пошли в 1970 – 1980-е годы бывшие лидеры "исповедальной" прозы: Василий Аксенов (именно на примере его творчества мы рассмотрим поэтику этого типа гротеска) и Анатолий Гладилин (повести "Французская ССР", "Репетиция в пятницу"), в этом же направлении работают Владимир Марамзин (книги "Блондин обеего цвета", "Тянитолкай") и Валерий Попов ("Жизнь удалась", рассказы);
карнавальный гротеск выдвигает на первый план образ народного бытия, вбирающего в себя все гротескные фантомы социальной системы и подвергающего их карнавальному осмеянию и развенчанию, притом что "уничтожение и развенчание связаны с возрождением и обновлением" (Бахтин), а высший смысл приобретают самые "низкие" – естественные! – свойства человека и жизни (Юз Алешковский, Владимир Войнович, Фазиль Искандер).
Искусство гротеска решительно отторгалось официальной культурой (что стало видно уже на примере фантастического реализма Синявского и Даниэля). Гротеск обнажал трагикомические противоречия между советской мифологией и реальностью. "Универсализм" гротеска не позволял ограничиться "отдельными недостатками" системы. Прошлое, настоящее и будущее коммунистической утопии предстали в гротескных произведениях нагромождением лжи и псевдожизни; советский мир открылся как кунсткамера уродливых "мнимых величин", исказивших естественное движение жизни. Вполне закономерно, что авторы гротескных произведений либо были вытолканы в эмиграцию (А. Галич, Ю. Алешковский, В. Войнович, В. Аксенов, И. Губерман, В. Марамзин, А. Зиновьев), либо были обречены на существование в неофициальной культуре (В. Высоцкий, М. Жванецкий, О. Григорьев, Вл. Уфлянд), либо вынуждены были публиковать свои лучше произведения за рубежом (Ф. Искандер).
2. Романтический гротеск
Вместе с Булатом Окуджавой Александр Галич и Владимир Высоцкий стали классиками "магнитофониздата", еще когда их стихи не печатались в журналах и книгах, а их имена упоминались в официальной прессе исключительно в бранном контексте. Само понятие о свободной поэзии под гитару, записанной на магнитофонные бобины, возникает в культурном быту 1960-х, а затем 1970-х и 1980-х годах, именно в связи с этими авторами. В редком интеллигентском доме не было хотя бы одной-двух, а чаще десятков записей этих современных бардов. Безусловно, именно Галич, Высоцкий, Окуджава оказались самыми популярными поэтами десятилетия. Конечно, свою роль здесь сыграли песенная форма, бесцензурность этой поэзии, атмосфера непосредственного контакта с автором (как правило, на записях звучали не только песни, но и авторский комментарий, нередко обращенный к дружеской аудитории). Таков был общий контекст бытования "авторской песни", внутри которого каждый поэт формировал свою особую роль. И если Окуджава выбрал роль современного романсиста, возвращающего лирику к романтическим ценностям частной жизни, то Галич и Высоцкий приняли на себя роли шутов. Условно говоря, Галич создал современный вариант "белого клоуна", Пьеро, исполненного горечи и сарказма, а Высоцкий возродил традицию "рыжего", Арлекина, карнавального скомороха, обращающегося к толпе и любимого толпой, не ведающего почтения ни к каким земным и небесным авторитетам ("я похож не на ратника злого, а скорее на злого шута").
2. 1. Александр Галич
В поэзии Александра Галича (1918 – 1977) четко просматривался черты романтического двоемирия. С одной стороны, мир псевдожизни, лжи и пошлости. Здесь по ночам вышагивают свой парад гипсовые памятники вождю всех времен и народов: "Им бы, гипсовым, человечины – Они вновь обретут величие!" Здесь "молчальники вышли в начальники, потому что молчание – золото". Здесь "под всеми словесными перлами/ Проступает пятном немота". Здесь "старики управляют миром". Здесь бог говорит человеку: "Иди и убей!. . " В сущности, это мир смерти.
С другой стороны, мир художников-мучеников, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Хармса, Зощенко, Михоэлса и других, кому посвящен цикл Галича "Литераторские мостки". Даже загнанные судьбой и эпохой в угол, лишенные не только поэтических, но и элементарных человеческих прав, персонажи этого цикла воплощают для Галича образцы святости и духовного величия. Так, например, в одном из лучших стихотворений этого цикла "Без названия" Галич рисует Ахматову в тот момент, когда она вынуждена сочинять казенные вирши во славу Сталина. Под его пером этот акт превращается в трагическое самопожертвование поэта во имя спасения сына: "По белому снегу вели на расстрел/ Над берегом белой реки. / И сын Ее вслед уходящим смотрел/ И ждал – этой самой строки". Заглавная буква в местоимении отсылает к евангельской традиции, и все это стихотворение в целом явно перекликается с ахматовским "Распятием" (из "Реквиема"). В образе Христа, поднимающегося на крест, выступает не Он, а Она – Ахматова, отводящая от сына смерть ценой отказа от поэтического дара. Вот почему "Ангел стоял у нее за спиной и скорбно качал головой".
Интересно, что Галич обостряет контрасты тем, что о "пошлом мире" он пишет в стиле "высокой поэзии". Так, стихотворение об оживших памятниках называется "Ночной дозор", не только сюжетом, но и ритмически напоминая балладу Лермонтова "Воздушный корабль". "Баллада о сознательности", в которой Егор Петрович Мальцев излечивается от диабета после того, как в газетах было объявлено, "что больше диабета в стране Советской нет", сопровождается подзаголовком "подражание Хармсу". "Баллада о том, как одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан "Динамо"" явственно отсылает к блоковской "Незнакомке". И наоборот: стихотворение "Памяти Б. Л. Пастернака" строится на контрасте между цитатами из пастернаковских стихов и натурализмом хамской речи: "А зал зевал, а зал скучал – Мели, Емеля! Ведь не в тюрьму и не в Сучан, Не к "высшей мере"!" Посвященное Мандельштаму "Возвращение на Итаку" сталкивает цитаты из Мандельштама с вульгарным романсом про Рамону. Поэтический плач по Зощенко перемежается "матершинным субботним загулом шалманчика", где "шарманка дудела про сопки маньчжурские".
Такие стилевые диссонансы характерны для Галича: они обнажают несовместимость двух миров, вынужденно сосуществующих в одном времени и пространстве и вступающих в гротескные комбинации – мира духа, поэзии, красоты, человечности и советского уродства, хамства, убогости.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что каждый из этих миров насыщен внутренними контрастами. Особенно это заметно в "ролевых" балладах, таких, как "Леночка", "Песня-баллада про генеральскую дочь", "О прибавочной стоимости", "Красный треугольник", "Городской романс (Тонечка)", и во всем цикле "Коломийцев в полный рост". Так, в балладе "О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира" разыгрывается классическая для романтического гротеска тема: превращение человека в автомат. Клим Петрович, передовик производства и член ЦК, выступает на митинге в защиту мира, но "пижон-порученец перепутал в суматохе бумажки", и Клим Петрович декламирует речь от лица женщины: "Как мать, – говорю, – и как женщина, / Требую их к ответу!/ Который год я вдовая, все счастье – мимо, / Но я стоять готовая/ За дело мира!" Парадокс, однако, состоит в том, что никто, кроме сконфуженного Клима Петровича, этой подмены не замечает. В автомат превращен не только он сам, но и все участники советского ритуала "заутрени за дело мира": "В зале вроде ни смешочков, ни вою. . . / Первый тоже, вижу, рожи не корчит, / А кивает мне своей головою". Галич – мастер сказа, и за маской образцового советского функционера вырисовывается куда более интересный характер. Хорошо об этом написал А. Зверев: ". . . В том-то и фокус, что не просто "партейный человек" Клим Петрович. Как его ни воспитывали, как ни обтесывали да обстругивали, до конца вытравить из него человека природного – достаточно сметливого, чтобы сообразить что к чему, не получилось. И вот он прямо на глазах у нас раздваивается: есть функция, которую Коломийцев старательно выполняет, и есть подлинная его жизнь, с этой функцией не соприкасающаяся ни в общем, ни в частностях"*66. Действительно, Клим Петрович трезво знает цену всем митингам да собраниям. Делая и говоря, что положено, он заработал "и жилплощадь, и получку по-царски". И дома у себя он кум королю: "Я культурно проводил воскресенье, Я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, начались У нас подначки да байки!" И насчет всей советской жизни у него нет иллюзий. Намытарившись в дружеском Алжире, где, чтоб не потратить валюты, он ел одну сплошную салаку в масле, Клим Петрович в сердцах восклицает: "И вся жизнь их заграничная – лажа! Даже хуже, извините, чем наша!" Налицо феномен советского "двоемыслия", описанный еще в "Рычагах" А. Яшина. Сам Клим Петрович замечает это противоречие только в конфузные моменты, как на митинге в защиту мира, однако Галич часто доводит этот конфликт до болевого порога, как, например, в песнях о номенклатурном зяте ("Городской романс (Тонечка)") или "гражданке Парамоновой" ("Красный треугольник"), в которых человек понимает, что за благополучие в советском мире он должен уплатить отказом от любви, ампутацией живой части души. В сущности, в своих сказовых балладах Галич разрушает миф о "простом" советском человеке" как о цельном характере, живущем в гармонии с обществом и с самим собой. "Простой человек" у Галича предстает гротескным монстром, в котором здоровое трезвое жизнелюбие сочетается с механическим бездумным и бездушным "партейным" автоматизмом, лишающим человека даже половых признаков.
Парадоксальным оказывается и образ лирического героя Галича во всем, казалось бы, противостоящего уродству советского мира. "Я выбираю Свободу / Пускай груба и ряба, / А вы валяйте, по капле/ "Выдавливайте раба"!" декларирует он в известном стихотворении. Но свобода, о которой он говорит, неотделима от советского мира. Это свобода "Норильска и Воркуты". Свобода Галича – это "гордость моей беды", это трагическое право принять страдание за слово правды. Боль, следы унижений и насилия – вот что связывает лирического героя с родиной прочнее ностальгии и сентиментальных воспоминаний: "А что же я вспомню? Усмешку/ На гадком чиновном лице, / Мою неуклюжую спешку/ И жалкую ярость в конце. / Я в грусть по березкам не верю, / Разлуку слезами не мерь. / И надо ли эту потерю/ Приписывать к счету потерь?" Распрощавшись в стихотворении "Псалом" с попытками найти, а точнее, создать, вылепить своими руками "доброго и мудрого" бога, он заканчивает словами не умершей надежды эту горькую притчу о том, как "бог, сотворенный из страха, / шептал мне: – Иди и убей!":
Но вновь я печально и строго
С утра выхожу на порог
На поиски доброго Бога,
И – ах, да поможет мне Бог!
Он мечтает о том, чтобы его бессмертная душа досталась советскому "подлецу и шиберу", который полной чашей получит и "номенклатурные блага, и номенклатурные предательства". Но зато – "в минуту самую внезапную/ Пусть ему – отчаянье мое/ Сдавит сучье горло черной лапою". Его молитва (уже в годы вынужденной эмиграции) – о возвращении в Россию ("Когда я вернусь. . . "), о прижизненном признании. Ему отнюдь не безразлично, как именно "помянет историк меня".








