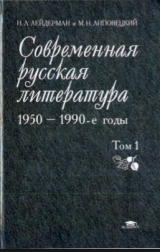
Текст книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Автор книги: Н Лейдерман
Соавторы: М Липовецкий
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 57 страниц)
Такая поэтическая логика глубоко характерна для Кушнера. Принципиально избегая глобальных ответов на "проклятые вопросы", принимая экзистенциальное одиночество и холод мироздания как данность, Кушнер, иной раз с дидактической назидательностью, настаивает на превосходстве жизни над ее смыслом (по его убеждению, заведомо мнимым либо вовсе отсутствующим). Стоицизм Кушнера строится на двух, на первый взгляд, противоположных основаниях. С одной стороны – "чудо жизни", предстающее в "мимолетностях" повседневности и природы: "какое счастье, благодать/ ложиться, укрываться, / с тобою рядом засыпать, / с тобою просыпаться!"; "Но как набраться храбрости такой, / чтоб объявить, что радость – под рукой, / наперекор сновидцам знаменитым!"; "О до чего ж эта жизнь хороша и сладка, / шелка нежней, бархатистого склона покатей!" Каждый пустяк, мелочь, деталь, выхваченные "пристальным зреньем с ощущеньем точности в глазу", даруют "предметную связь с этим миром". Вот, скажем, кушнеровский гимн скатерти:
Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Боже мой! Еще живу!
Все могу еще потрогать
И каемку и канву,
И на стол поставить локоть.
Угол скатерти в горсти.
Даже если это слабость,
О бессмыслица, блести!
Не кончайся, скатерть, радость.
"Вечность – это расширенье всех мимолетностей земных" под этой формулой Кушнера подписался бы и Набоков.
С другой стороны – безнадежности мироустройства противоположны искусство, творчество, прежде всего потому, что именно они вносят в мир "строй": "Чему стихи нас учат? Строю. / Точнее, стройности. Добру". Кушнер воспринимает это противостояние достаточно драматично: "Потому и порядок такой на столе, / чтобы оползень жизни сдержать, / так сажают кустарник на слабой земле/ и воюют за каждую пядь". А дальше в этом же стихотворении из сборника "Письмо" (1974) появятся "те же трещины, та же борьба", похожий "на изрытую землю" черновик, героически-отчаянное "дальше некуда нам отступать", "твой последний плацдарм и рубеж" – "под лампой на тесном столе". Тот же семантический ряд возникает и в других поэтических манифестах Кушнера: "Но силы нужны и отвага/ сидеть под таким сквозняком!/ И вся-то защита – бумага/ да лампа над тесным столом"; "Стихов дорогое убранство, / их шепот, и говор и спесь – / клочок золотого пространства, / тобой отвоеванный здесь. / Не столько у вечности, сколько/ у выпуклой этой страны, / где Кама, и Лена, и Волга – / и те, посмотреть, не видны". Такое нагнетание военной риторики редкостно для неоакмеизма, и для Кушнера в особенности. По-видимому, все дело в остроте конфликта между искусством и бытием, а точнее, между творчеством и Россией как мощной, самой историей выкованной, метафорой экзистенциальной заброшенности. Как отмечал Д. С. Лихачев, в хронотопе поэзии Кушнера памятные места русской культуры неизбежно трагедийны и потому органически включены в ряд древних архетипов смерти: Черная речка в поэтическом мире Кушнера непосредственно вливается в "Стикс, Коцит и Ахеронт".
Но из чего складывается та угрожающая стихия, от которой поэт заслоняется листом бумаги? Не из тех ли деталей "таинственного бытия", которые он воспевает в своих одах "мимолетностям"? "Я драм боюсь, Эсхил. / Со всех сторон обступят, / обхватят, оплетут, как цепкою лозой, / безвыходные сны, бесстыдные невзгоды, / бессмертная латынь рецептов и микстур. . . " Недаром Кушнер настаивает на том, что родство с мирозданием оплачивается в первую очередь страхом, сознанием собственной малости, уязвимости, беззащитности: "Жучок, товарищ мой, / зазорный брат забытый, / засунутый бог весть в какую пыль, / сухой, запуганный, – задет слепой твоей обидой, / что вижу? Голый страх, защитный страх живой. . . / Не память, не любовь, / не жажда приключений/ роднит живущих нас, / не поиски добра, / а страх, бессмертный страх. . . "
Противоречие очевидно, а главное, Кушнер и не пытается его скрыть: его лирический герой одновременно причастен и хаосу повседневности и высокому строю искусства – и в равной мере дорожит "веком и мигом", уверенный, что между ними "особенной разницы нет". Он не выбирает между ними. Он пытается уравновесить одно другим. Он разрушает антитезу, его интересует связь.
Создаваемый Кушнером образ культуры принципиально открыт для повседневной "прозаики", демонстративно не торжествен, не героичен, не абсолютен. Символ пророческой, мессианской роли поэта – шестикрылый серафим, появляясь посреди ленинградской квартиры, поражает у Кушнера своей неуместностью: "Он встал в ленинградской квартире, / расправив среди тишины/ шесть крыл, из которых четыре, / я знаю, ему не нужны. / Вдруг сделалось пусто и звонко, / как будто нам отперли зал. / – Смотри, ты разбудишь ребенка! – / Я чудному гостю сказал". Императивная героика, завещанная русской культурой, встречает у лирического героя Кушнера неприятие и отторжение: "Жить надо. . . – / в дневнике есть запись у Толстого, / Как если б умирал ребенок за стеной. / Жить надо на краю. . . чего? Беды, обрыва, / отчаянья, любви, все время этот край/ держа перед собой, мучительно, пытливо, / жить надо. . . не могу так жить, / не принуждай!" Откуда такая вспышка раздражения против Толстого? Вероятно, дело в том, что выставленная на край бездны, лишенная контакта с прозаическими "мимолетностями", культура становится догмой, высокомерной "диктатурой совести" над душой частного человека – т. е. , в конечном счете, формой несвободы. Права И. Роднянская, которая еще в 1970-е годы писала о том, что Кушнер "воскресил для нашей поэзии "частного человека", столкнув его конечную участь с необозримым культурно-историческим, географическим и космическим пространством"*163. Именно с позиции "частного человека", ждущего от культуры реальной помощи, а не очередного окрика или, того хуже, унижения, Кушнер "предъявляет культуре счет, который та не в силах оплатить"*164.
Кушнер лелеет иной образ культуры, насквозь прозаический, не отъединенный от быта, а сплетенный с ним нерасторжимо:
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расчеты
<...>
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
<...>
Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
Причастность суетной стороне существования, ненадмирность поэзии служит для Кушнера доказательством ее истинности и точности. Истинности, потому что поэту не понаслышке знакомо то неизбывное бытовое присутствие страха бездны, преследующее кушнеровского частного человека – идеального читателя ("Снова дикая кошка бежит по пятам, приближается время платить по счетам, все страшней ее взгляды. . . "). Точности, потому что соседство с цифрой не может не бросить отсвет на стихи переводя идею "долгов" в иное измерение, но не лишая ее конкретной, неуступчивой определенности. Точность – это у Кушнера синоним честности, строгости к самому себе. Вот почему он (в гораздо более позднем стихотворении) воскликнет: "Поэзия, следи за пустяком, / сперва за пустяком, потом за смыслом".
Память культуры у Кушнера решительно противоположна утопии золотого века, и погружение в ее глубины ни в коем случае не сулит облегчения от вседневных забот. Наоборот, Кушнер последовательно обытовляет образ культуры. Он вступает в диалог с Державиным, глядя на его солонку. Он дорожит открытием, что "вся Троя – с этот дворик, вся Троя – с эту детскую площадку. . . " Он клянется: "я б отдал многое, чтоб разглядеть в упор, допустим, / римлянина письменный прибор". Он пишет стихи об очках Зощенко, о сахарнице Лидии Гинзбург, равно как о серванте минского производства как о фрагментах культуры своего поколения и о "чужих мерседесах" как о символах незнакомой культуры, оформляющих все те же, что и всегда, "проблемы с мирозданьем". "Говорю тебе: этот пиджак/ будет так через тысячу лет драгоценен, / как тога, как стяг крестоносца, утративший цвет. / Говорю тебе: это очки. Говорю тебе: этот сарай. . . / Синеокого смысла пучки, чудо, лезущее через край". Кушнер действительно умеет передать вкус и интонацию целой культуры через мелочь, пустяк, завитушку. Так, например, блестящее стихотворение "Воспоминание" (1979), лаконически-сдержанный портрет трагедии целого поколения русских интеллигентов построен на "детальке" мемуарного или документального стиля – кратком, почти канцелярском, предварении в скобках будущей судьбы эпизодического персонажа:
Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она эс-эр, погибла), вместе с ней
мы помню шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М. ,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью, и тем,
что беден был (повешен в Таганроге). . .
В итоге последовательного развертывания этого микроэлемента "чужого стиля" поверх прямого плана на ситуации из повседневной жизни умных и чистых молодых людей начала века накладывается картина, схожая с финалом шекспировской трагедии – с грудой трупов посреди сцены. К концу стихотворения конфликт между этими двумя планами нарастает почти до точки взрыва – но ни взрыва не происходит, ни облегчения не наступает: ". . . и до сих пор я помню тот закат, / жемчужный блеск уснувшего квартала, / потом за мной зашел мой старший брат/ (расстрелянный в тридцать седьмом), светало. . . "
Так у Кушнера всегда или почти всегда*165. Открывая культуру для прозы жизни, Кушнер лишает этот мир статуса убежища от бедствий истории и хаоса бытия. Он делает культуру уязвимой, но тем самым он добивается эффекта, который ему важнее преодоленных противоречий с временем: живой, конкретной, тактильной связи с другим (временем, поколением, человеком, опытом). В одном из самых знаменитых своих стихотворений "Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки. . . " (из сборника 1974 года "Письмо") Кушнер острее, чем где бы то ни было, выразил этот пафос связи, ни в коем случае не преодолевающий трагизм существования, а размыкающий его обоюдно – в бесконечность культурной памяти для настоящего и в бесконечность настоящего для культурных памятников прошлого. Из этой нервной и тревожной связи и складывается вечность, по Кушнеру:
Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю,
Где нет между ними черты,
Где памяти тянется свиток,
Развернутый в виде домов,
И столько блаженства и пыток,
Двузначных больших номеров
<...>
Твою ненаглядную руку
Так крепко сжимая в своей,
Я все отодвинуть разлуку
Пытаюсь, но помню о ней. . .
И, может быть, это сверканье
Листвы, и дворцов, и реки
Возможно лишь в силу страданья
И счастья, ему вопреки!
Формы этой связи – самодостаточной, не разрешающей а скорее, подчеркивающей извечный конфликт между частным человеком и холодом мира – у Кушнера многообразны и изменчивы. Начинает он (в стихах 1960-х годов, сборники "Первое впечатление", 1962; "Ночной дозор", 1966; "Приметы", 1969) с радостного узнавания цитаты в повседневности, в "мимолетностях": "Мой сад с каждым днем увядает". / И мой увядает! И мой!" Пестрая и не слишком гармоничная жизнь сознательно (стоически!) подгоняется под культурный канон: "И ты не дремлешь, друг прелестный, / а щеки варежками трешь. <...>/ И я усилием привычным/ вернуть стараюсь красоту/ домам и скверам безразличным, / и пешеходу на мосту. / И пропускаю свой автобус, / и замерзаю весь в снегу, / но жить, покуда этот фокус/ мне не удался, не могу".
Позднее возникают сомнения в правомерности этой стратегии: такой путь нацелен на облегчение сегодняшней драмы, такой подход высокомерно игнорирует самостоятельное значение "прозаики", подменяя ее уже преодоленной в искусстве болью прошлого: "Но совестно играть в печаль чужую". Новый вариант возникает у Кушнера в стихах 1970-х годов (сборники "Письмо", 1974; "Прямая речь", 1975; "Голос", 1978): точкой отсчета здесь становится опыт повседневности, именно он проецируется на культурную память. Так, Кушнер, конечно, знает о трагическом значении "советского периода" в жизни и смерти Блока, но его не может не радовать тот факт, что Блок "захватил/ другую эпоху, ходил/ за справками и на собранье. <...> / Дежурства. Жилплощадь. Зарплата. / Зато – у нас общий язык. Начну предложенье – он вмиг/ поймет. Продолжать мне не надо". Искомая связь возможна даже через убогий советский "новояз". Более того, связь тем ощутимей, когда она зияюще отсутствует. Так, в стихотворении "Посещение" предпринимается попытка разыграть на материале собственной судьбы пушкинское "Вновь я посетил. . . ": "Я тоже посетил/ ту местность, где светил/ мне в молодости луч. . . " Однако результат прямо противоположный ничто не воскресает, все умерло бесповоротно: "И никаких примет, и никаких следов. / И молодости след растаял и простыл. <...> Неузнаваем лик земли – / и грустно так, как будто сполз ледник, / и слой нарос на слой. . . " Однако тем значительнее финал стихотворения, вопреки разрушению перекликающийся с финалом пушкинского шедевра. У Кушнера "Здравствуй, племя, младое, незнакомое" добывается заново и оплачивается незаемной горькой ценой: осознанием уничтожения как парадоксальной формы связи между поколениями*166:
И знаешь: даже рад
Я этому: наш мир
Не заповедник; склад
Его изменчив; дыр
Не залатать; зато
Новехонек для тех,
Кто вытащил в лото
Свой номер позже нас,
Чей шепоток и смех
Ты слышишь в поздний час.
В стихах 1980-х и 1990-х годов (сборники "Таврический сад", 1984; "Дневные сны", 1986; "Живая изгородь", 1988; "Ночная музыка", 1991; "На сумрачной звезде", 1994; "Из новых стихов", 1996) происходит переосмысление самой культурной традиции: она все более последовательно осознается Кушнером не как идеальный мир чистых гармоний, а как опыт "прозаики", мелочей, страстишек, дрязг и мимолетных прозрений, отпечатавшийся навеки в архетипических образах, сюжетах, фразах. В сущности, опять-таки происходит узнавание повседневного в вечном, но уже окрашенное холодноватым скепсисом и иронической горечью: "Если правда, что Чехов с Толстым/ говорили впервые в пруду, / по колено в нем стоя, / то как же Господь ерунду/ обожает. <...> Это в чеховском было рассказе уже. / И, наверное, Бог, улыбаясь, прозаик в душе. <...> Мир мелочей, / перетянутых в талии платьев, / палящих лучей, золотых головастиков. . . Бог/ разговором задет, не Уверен, / есть общая мысль у него или нет?"
Элегичность Олега Чухонцева (р. 1938), напротив, лишена какой бы то ни было холодности, поскольку окрашена в эсхатологические и трагедийные тона. Он явно соединяет культурологическую конкретность неоакмеизма с традициями русских "скорбников" – Лермонтова, Баратынского, Случевского, Сологуба, Блока, Ходасевича. Из собственно акмеистического наследия наиболее близкими ему оказываются И. Анненский и отчасти Вл. Нарбут. Мотивы пустоты, заброшенности в бытие, хаоса истории и современности, смерти как "вещества существования" звучат в лирике Чухонцева с редким постоянством: "Я потрясен – какой разброд, / а толку нет – какие толки. . . а вдруг все сущее вокруг/ предмет нелепой опечатки?" (1965)*167; ". . . и такая вокруг пустота, / что хоть криком кричи в мирозданье" (1965); "Нету выбора. / О, как душа одинока" (1967); "Век отбился от рук" (1968); "какое б ни было житье, – / единый коридор, одна дорога:/ до врат Дахау до престола Бога, /до вернисажа. Каждому свое!" (1969); "– Уюта нет? Покоя нет? – А если – жизни нет" (1971); "но в глубине провалов, / в глазницах, где набрякли небеса, / я вижу только два белка кровавых/ и дыбом в них подъятые власа" (1975); ". . . запланированный хаос/ был то, чем все вокруг живут, / был жизнью всех, а уж она-то/ воистину как Страшный суд/ пытала, ибо и расплата/ неправедна. . . " (1980); "Все деятельней панорама ударных строек сатаны" (1985). Этот мрачный взгляд укоренен в исторической памяти, она у Чухонцева уравнивает прошлое и настоящее. Одни и те же мотивы вырожденья, остановленного времени или устремленного назад в доисторию, к ящерам, объединяют у Чухонцева его исторические баллады и монументальные фрески, запечатлевшие ужас современной ему истории, "неустрой коммунальной эпохи". Если Кушнер предлагал читателю пройтись вдоль Мойки, освященной именем Пушкина, то Чухонцев приглашает на прогулку по Бутырскому валу, и тюремные ассоциации, окружающие этот пейзаж, переносят акцент на архетипическую для русской культуры трагедию несвободы поэта:
Пойдем по Бутырскому валу и влево свернем
по улице главной дойдем до Тверского бульвара,
где зоркий молчит, размышляя о веке своем,
невольник чугунный под сенью свободного дара.
Для Чухонцева вполне органичны метафоры, соединяющие память об исторических трагедиях с самыми невинными деталями дня сегодняшнего: "Были сумерки длинны, как были длинны/ списки выбывших при Иоанне Четвертом" ("Superego", 1967) или: "И снег опричный/ заметает с головой/ тупик кирпичный, / переулок Угловой" ("Баллада о реставраторе", 1967) показательно, что эти цитаты взяты из стихов, сюжетно не соотнесенных с веком Ивана Грозного. "У, татарская Русь, самодурство и барство <...> Время темно и неисповедимо: рано ли – все равно, поздно ли – все едино", это из стихотворения 1967 года. А через год Чухонцев напишет стихотворение "Репетиция парада" ("за несколько месяцев до события предсказавшее ввод в Прагу 1968 года советских танков", как отмечает И. Роднянская*168), в котором танк "как ящер ступал", и над шествием витали призраки "азиатской нашей свободы", Страшного суда, Страха и Стыда (именно так – с заглавных букв!). Возникающий образ здесь протирается через всю русскую историю, окрашивая всю ее (а не только советский период) в дьявольские краски:
От сарматских времен на один полигон
громыхают колеса на марше.
Эка дьявольский труд – все идут и идут
и проходят все дальше и дальше.
Вот и рокот пропал в полуночный провал.
Тишина над Кремлевской стеной.
Именно на этом фоне, понимая советскую "катастройку" как апофеоз русской исторической традиции, Чухонцев строит свой образ культуры. В центре его внимания оказываются "отщепенцы", изгои, персонажи, сознательно или невольно выпавшие из своего времени: "диссиденты" Курбский и Чаадаев, "питух и байбак" Дельвиг, "охальник" Барков, "безумцы" Батюшков и Апухтин. И. Роднянская напомнила в процитированной статье, какую бурю возмущения, "репрессивную идеологическую кампанию, вылившуюся в негласный запрет на публикацию его [Чухонцева] стихотворений"*169, вызвало появление в печати "Повествования о Курбском" (1967, опубл. в 1968-м). Гнев охранителей (Г. Новицкий, А. Ланщиков, П. Выходцев, Вал. Сорокин, секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов) был понятен: Чухонцев откровенно занял "антипатриотическую" позицию, оправдав и прославив "измену" Курбского как крайнюю, вынужденную, форму выражения свободы:
Чем же, как не изменой, воздать за тиранство,
если тот, кто тебя на измену обрек,
государевым гневом казня государство,
сам отступник, добро возводящий в порок?
При этом лирический герой стихотворения декларирует свое родство с изменником: их сближает общая "чаша слез и стыда", безысходное знание исторической судьбы ("нет спасенья от пагуб и пыток, все острее тоска, и бесславье и тьма"), а главное – "Малый избыток оскорбленной души и больного ума".
В стихотворении "Чаадаев на Басманной" (1967) грань между лирическим "Я" и историческим персонажем еще более размыта. Внутренний монолог "государственного безумца" лишен какого бы то ни было обрамления и воспринимается как монолог лирического героя. Единой философской почвой оказывается "идея раздвоенности бытия", бремя внутренней свободы под гнетом внешней неволи: "когда бы знать, зачем свободой/ я так невольно дорожу, / тогда как сам я – ни йотой/ – себе же не принадлежу". Но финальный выбор делается в пользу свободы, оплаченной изоляцией, непринадлежностью к своему времени, полным и бес поворотным одиночеством:
Да, что я, не в своем рассудке?
Гляжу в упор и злость берет:
ползет, как фарш из мясорубки,
по тесной улице народ.
Влачит свое долготерпенье
к иным каким-то временам,
А в лицах столько озлобленья,
что лучше не встречаться нам.
Стихи же о "безумцах" – Апухтине (1975) и Батюшкове (1977) – ставят "верхний" предел этой свободе. С одной стороны, безумцы у Чухонцева предельно счастливы – они освобождены от горького знания, они полностью отделили себя от мучительной реальности, "от произвола родин и слепоты времен", их место обитания – небеса: "А еще говорят, что безумье чумно, / что темно ему в мире и тесно. / А оно не от мира сего – вот оно – / однодумно, блаженно, небесно"; "Где ты, Батюшков, был, где всю жизнь пропадал? – / В небесах, говорит, в небесах". С другой стороны, Чухонцев жестко уравнивает безумие, а точнее, полное преодоление реальности, полное замыкание внутреннего мира от всех "внешних раздражителей", со смертью, с небытием: "И какой бы дорогой к Последним Вратам/ ни брели мы, как космос ни труден, / все мы здесь – а они уже заживо там, / где мы только не будем".
Отсюда выбор его лирического героя: свобода "отщепенца" ("где видимость царит, и правят мнимости, / стоишь как неликвид, но в высшей милости"), но при условии непрерывного болевого контакта с хаотическими силами истории и повседневности. Последнее условие настолько существенно для Чухонцева, что оно оформилось в своеобразном анти-"Памятнике":
И уж, конечно, буду не ветлою,
не бабочкой, не свечкой на ветру.
– Землей?
– Не буду даже и землею,
но всем, чего здесь нет. Я весь умру.
– А дух?
– Не с букварем же к аналою!
Не бабочкой, не свечкой, не ветлою
я весь умру. Я повторяю: весь.
А божий дух?
– И Бог не там, а здесь.
Как устоять на этой грани? Какой ценой оплачивается этот выбор? И к каким результатам он приводит?
В одном из стихотворений Чухонцева есть загадочная строчка: "Развоплощенность – это путь свободы" ("Бывшим маршрутом", 1971). Выразительной иллюстрацией к этому тезису мжет послужить другое стихотворение того же года, состоящее из одной строчки текста: "Так много потеряно, что и не жаль ничего!" – и девяти строчек отточий. Здесь "потерян" сам текст стихотворения, но, задав "ноту" первой строкой, поэт тем самым смоделировал принципиальное для него сочетание свободы (дарованной в данном случае читателю) и утраты, развоплощенности. Связь с реальностью у Чухонцева осуществляется через утрату: болезненно переживая утраты, лирический герой Чухонцева одновременно наращивает свободу, неотделимую в его понимании от одиночества, и осознает ценность утраченного в масштабе большем, чем масштабы повседневности и даже истории. Сам поэт определяет эту свободу так: "Но есть и другая свобода невечному вечным воздать. . . " Более того, ценность к чему-то реальному у Чухонцева приходит только в момент, когда это "что-то" не только перестает существовать, но и воспринимается как утраченное навсегда. На этом эффекте утраты, дарующем свободу и возвращающем утраченному истинную ценность, построены многие сочинения Чухонцева: от поэмы "Однофамилец" (1976, 1980), в которой человек возвышается до трагикомического, но тем не менее экзистенциально значимого бунта, ошарашенный "чувством собственной пропажи", до пронзительного двустишия:
во сне я мимо школы проходил,
и выдержать не в силах – разрыдался.
(1976)
Возможно, наиболее пластически выразительно этот "эффект утраты", найденная Чухонцевым формула свободы/зависимости воплощена в стихотворении ". . . И дверь впотьмах привычную толкнул. . . " (1975). В странном сне лирический герой попадает на "скорбный сход", где видит своих умерших отца и мать. Однако страна смерти предстает поразительно живой. Стол, за которым сидят умершие, ломится от яств, описанных с акмеистической точностью: "и я окинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек. . . " На лице матери проступает страх вернуться назад, в жизнь: "как будто жить грозило ей – а ей так не хотелось уходить обратно. . . " Отец таинственно отвечает на слова сына о том, что они всего лишь призраки и не могут быть вместе с ним: "Не говори, чего не можешь знать – / услышал я, узнаешь – содрогнешься". А умершие выглядят подлинно счастливой семьей там, за порогом смерти: "Они сидели как одна семья, / в одних летах отцы и сыновья. . . " Насыщенность образа смерти знаками жизни, намеки отца на то, что настоящая смерть совершается при жизни, а подлинная жизнь начинается после смерти, – все это втягивает читателя в ситуацию утраты ценности жизни – эта ситуация не описывается, не анализируется, а передается суггестивно через атмосферу сюрреалистического видения. Сталкиваясь с ситуацией, когда смерть выглядит более ценностно значимой, чем противоположная ей жизнь, герой Чухонцева, в соответствии с его поэтической логикой, возможно, впервые чувствует ценность своего существования и ответственность за то, что он может противопоставить смерти, т. е. , иными словами, обретает свободу как ответственность через знание смерти как предельного развоплощения. Формула "развоплощенье – это путь свободы" здесь становится почвой для радикальной экзистенциальной переоценки:
Глаза поднял – а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделил на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.
Принцип свободы/зависимости через утрату у Чухонцева распространяется и на культурную историю. Так, в стихотворении 1996 года "А в соседнем селе родились молодые старухи. . . " воссоздается ситуация полной утраты исторической и культурной памяти народа: "память стесало, как руки. . . " Но именно в этой ситуации утраты и развоплощения приходит момент свободы творчества и парадоксального возрождения утраченных ценностей, причем именно как чистых ценностей, как чего-то иррационально значимого, хотя и непонятно почему и чем значимого: "Вот разжиться пойдешь творожком откидным и такого/ понаслушаешься – Гильфердинг бы заслушаться мог. / Ничего-то не умерло, я вам скажу, если "Слово/ о полку" из заплачки окликнет – какой там творог!/ А как песню завоют – и с вилами выйдут столетья, / и таким полыхнет, что земля под ногами горит, / дом забудешь и сон, и цветут на полях междометья, / а попробуй прочесть – то ли бред, то ли чистый санскрит".
Конечно, такой путь свободы убийствен для лирического героя, который за каждый гран свободы платит утратой чего-то дорогого и близкого, притом что боль от этой утраты возрастает с каждым новым шагом. Но это путь, который практически воплощает идею ответственной связи с утраченной культурной традицией и восстанавливает эту память ценой неподдельной боли. Сам же поэтический ход: иррациональное возрождение утраченного точки абсолютного и предельного развоплощения – станет одной из важнейших стратегий художественного сознания в искусстве 1980-1990-х годов.
2. "Мовизм" Валентина Катаева
Сюжет творческой судьбы Валентина Катаева (1897 – 1986) причудлив и таит в себе много секретов. Любимый ученик Бунина, впитавший в себя уроки бунинской наблюдательности и пластики слова. Увлеченный репортер первых советских пятилеток, автор романа "Время, вперед!" и повести "Белеет парус одинокий", которые стали классикой соцреализма. Человек, постоянно оказывавший поддержку изгою Мандельштаму, в конце 1930-х подписывавший письма в защиту арестованного Заболоцкого, а потом, в 1956-м, без раздумий подписавший печально знаменитое письмо редакции "Нового мира" с отказом печатать "Доктора Живаго". Автор сервильных речей на всякого рода официальных совписовских радениях и едкий критик советского масскульта, не щадивший и мэтров соцреализма*170.
Определенный сдвиг в творческом поведении Катаева стал намечаться уже с началом "оттепели". На Втором съезде писателей он произносит очередную угодливую речь. В 1955 году становится номенклатурной фигурой – назначается главным редактором нового журнала "Юность". В 1958 году шестидесятилетний Катаев вступает в КПСС.
И в то же время он создает атмосферу высокой творческой взыскательности в "Юности", отыскивает молодые таланты, жестко учит и выпускает в жизнь целую плеяду поэтов и прозаиков, чьи произведения значительно повышают планку художественной культуры. Время от времени у Катаева вырываются очень хлесткие высказывания об уровне современной литературы.
В эти же годы в творчестве самого Катаева ощущается какое-то смятение. Словно по инерции, он заполняет "лакуны" в задуманной эпопее "Волны Черного моря" – помещая между повестью "Белеет парус одинокий" (события 1905 года) и романом "За власть советов" (события Отечественной войны) повести "Хуторок в степи" (1956) и "Зимний ветер" (1960), посвященные событиям 1910-х годов и Октябрьской революции. В этих повестях все чаще и чаще начинает появляться образ Ленина. Сам Катаев почти в каждом своем интервью говорит о том, что собирает материал для книги о Ленине. (Напомним, что в годы "оттепели" обращение к ленинской теме несло в себе идею нравственного очищения – оно мнилось как возвращение к благородным истокам революции, восстановление ее высоких идеалов. )
Начало "мовизма" – под прикрытием ленинской темы
Творческим прорывом, с которого начался "новый" Катаев стала неожиданная, странная книжка – "Маленькая железная дверь в стене", увидевшая свет в 1964 году. Поскольку здесь центральным персонажем выступает Ленин, то книжка эта была проверена специалистами по истории КПСС на предмет верности "исторической правде", получила вполне респектабельный ярлык "художественно-публицистическая повесть" и вошла в обойму официальной "ленинианы". А в сущности, это было первое произведение, в котором Катаев опробовал свои новые художественные принципы, которые впоследствии эпатирующе назвал "мовизмом" (от французского – mauvais, то есть "плохой", "неприличный"). Ленинская тема стала прикрытием.
Именно здесь, в повести "Маленькая железная дверь в стене", Катаев впервые соединил в одном художественном поле документ и вымысел, смело перемешал времена и пространства, установил фамильярный контакт между своим лирическим героем и легендарной фигурой, окруженной поклонением.
В первом же эпизоде повести заявляется неожиданная позиция Автора по отношению к объекту своего интереса: "И подобно тому как Арагон сказал: "Робеспьер – мой сосед", – мне хочется сказать: "Ленин – мой современник"". Но то, что сказал Арагон, по тону совершенно нормально – "это было сказано совсем по-парижски", – замечает Автор. Но на людей с советским менталитетом, которых годами приучали видеть в Ленине едва ли не Бога, высказывание "Ленин – мой современник" могло произвести более чем ошеломляющее впечатление. Это звучало как вызов. И Катаев вовсе не старается сгладить такое впечатление. Вызов становится неотъемлемой "приправой" его нового стиля.








