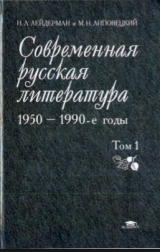
Текст книги "Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)"
Автор книги: Н Лейдерман
Соавторы: М Липовецкий
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 57 страниц)
Однако сами герои первых трех хроник Абрамова, погруженные в прозаические заботы своего времени, не видят его эпической ценности.
И вот появилась четвертая книга – "Дом" (1978). Пекашино семидесятых годов, прозаическая упорядоченность жизни, материальный достаток, новые конфликты, которые можно определить словами Виктора Розова – "испытание сытостью". Дистанция времени и новые драматические коллизии в деревне 70-х годов потребовались автору для выработки итогового взгляда на прошлое народа. Сейчас, возвращаясь памятью к суровым, изнурительным, голодным годам войны и восстановления, Михаил Пряслин да и другие пекашинцы открывают в них то состояние духовного подъема, самоотверженности, а главное – то единство всех и каждого, которое они сегодня, в наши дни, осознают как главную ценность, как идеальное, героическое состояние мира.
В свете современности, освещающей прошлое и оценивающей его, вся тетралогия Федора Абрамова обрела завершенный характер, стала монументальной народной эпопеей. Эта эпопея выросла из романов-хроник, сохранила их в себе, не утратив ни на миг интереса к личности, к внутренней жизни человека, сочувствия к его праву на свое, особенное "я" и сознания неизбежного драматизма отношений между личным и общим.
Примечательно, что эпопейный, оценочно-завершающий взгляд на прошлое принадлежит в тетралогии Абрамова не условному повествователю, не всезнающему сказителю, а самим героям, великим и грешным, мудрым и простодушным, земным сыновьям своего народа. Они сами, опираясь на свой жизненный опыт, превращают свое недавнее прошлое в "предание", они сами определяют "начала" и "вершины" национальной истории, то есть сами творят то, что М. М. Бахтин называл "миром эпопеи"*16.
Так через взаимодействие романного и эпопейного принципов в тетралогии Ф. Абрамова открывается сам народ как сложное, противоречивое со-бытие личностей. И высшей силой, преодолевающей все внутренние противоречия и обеспечивающей единство народа, становится то эпопейное самосознание, то твердое представление о героических "вершинах", которое вырабатывает современный человек из народа в качестве своих личных нравственных и философских ориентиров. В активно протекавшем в 1970-е годы взаимодействии между эпическим романом и традицией героического эпоса с особой отчетливостью отразился динамический и противоречивый процесс художественного постижения отношений между личностью и народом, человеком, обществом и историей. Эпический роман традиционно рассматривает личное в свете общего, судьбу человека в свете исторических обстоятельств. Но никогда прежде в эпическом романе не раскрывалась с такой силой исторически созидательная роль самосознания личности и самосознания народа.
Поиск эпопейного со-бытия, то есть гармонии между человеком и миром, определил динамику внутреннего развития и преемственности различных форм эпического романа в 1960 – 1970-е годы. Герой эпоса 1970-х – это человек, осознавший объективную ценность личностного начала. Он вступает в народ не как слуга, а как равнодостойная со всем народом величина. Он не приемлет никаких компромиссов, которые ущемляли бы его потребность в свободном развитии.
Этими препятствиями к свободному самоосуществлению личности в народных эпопеях 1970-х годов, как правило, оказываются идеологические табу и партийные догмы, диктат тоталитарной власти. Против них бунтует Захар Дерюгин из "Судьбы" П. Проскурина, отстаивая свое право на любовь к Маше Поливановой, с ними никак не хочет примириться абрамовский Михаил Пряслин. И в народных эпопеях Проскурина и Абрамова те персонажи, которые несут на своих плечах миссию народных заступников, становятся жертвами партийно-государственных догм: Захара Дерюгина райком снимает с должности председателя колхоза, и великолепный дар хозяина земли пропадает втуне, а Лукашина засаживают в тюрьму, где тот и гибнет. Однако как раз в сопоставлении с партийными и властными нормами обнаруживают свою справедливость все те же "простые законы нравственности", которые были выработаны народом за многие века. Если взглянуть с этой стороны на народные эпопеи 1970-х годов, то они консервативны по своему пафосу, ибо эстетически дискредитируют идеологические мифологемы, претендовавшие в советское время на роль эпических святынь, и восстанавливают авторитет все тех же народных этических представлений, которые еще со времен Гомера выступали в роли высшего эстетического критерия в героических эпопеях.
Но в системе этических координат народных эпопей 1970-х годов не умаляется значимость индивидуального, наоборот, открывается неповторимость каждого из эпических персонажей, высокая ценность личностного начала. И оттого традиционное для героического эпоса утверждение приоритета общенародного над индивидуальным приобретает в народных эпопеях 1970-х годов обостренно трагедийный характер – становится ясно, какие же колоссальные потери несет личность, подчиняясь общенародной необходимости, насколько же обедняет себя человек, отказываясь во имя блага народа от своего счастья, зажимая свою душу в кулак, и как много теряет мир оттого, что эпический герой не реализует свой могучий духовный потенциал.
Все это сильно колеблет мир народной эпопеи, не дает ему обрести завершенность, перейти в область величавого предания, хотя сами авторы всячески пытаются утвердить эпического героя на высоком героическом уровне и закрепить авторитет народного опыта в качестве высшего эталона мудрости земной. Для этого они вводят в текст вставные жанры из арсенала фольклора (героическая легенда о давнем подвиге защитников Смоленска в "Судьбе" П. Проскурина, подглавка "Из жития Евдокии-великомученицы" в абрамовском "Доме", лукавые "лебяжинские сказки" в "Комиссии" С. Залыгина). Эти вставные жанры должны, по замыслу авторов, "заразить" собою весь дискурс: придать ему эпосное звучание, возвысить прозаическую реальность до уровня героического предания, а главное – непосредственно ввести отстоявшийся народный опыт в живую современность в качестве высшей этической инстанции.
И все же такие мутации в той или иной мере позволяли классическому жанру соцреализма сохранять свою жизнестойкость. Когда же в колоссальных масштабах монументальной эпопеи главной мерой вещей остается идеологическая норма, а носителем высшей народной мудрости и одновременно народным заступником предстает партийный чиновник (секретарь рай-, гор– или обкома, а то даже секретарь ЦК), происходит разложение художественного феномена, идет деградация искусства – отсутствие свежей идеи, смелых и новых воззрений на личность и народ оборачивается описательностыо, композиционной рыхлостью, риторикой и натужной монументальностью. Именно этот процесс наблюдается в эпических полотнах, подобных тем, которые создавали Г. Марков ("Сибирь", "Грядущему веку"), А. Иванов ("Вечный зов"), А. Чаковский ("Блокада").
Но тогда же, в 1970-е годы, явилось произведение, которое можно назвать иронической народной эпопеей. Это роман Аркадия Львова "Двор" (1975). История небольшого одесского двора и его обитателей, начиная с семнадцатого года и вплоть до "оттепели", собрала в себе всю историю советского общества. Да и весь дворовый коллектив представляет собой микромодель советского общества – здесь есть свой маленький вождь (Иона Дегтярь, освобожденный парторг фабрики), который, правда, не выдвигает собственные идеологемы, зато старательно пропагандирует то, что написано в газетах и в "Блокноте агитатора"; есть свои малосознательные граждане, с которыми надо вести серьезную воспитательную работу, есть чуждые элементы, которые надо выводить на чистую воду.
Но в массе своей обитатели одесского двора – это самые рядовые, среднестатистические носители советского менталитета, и история страны преломляется в массовой психологии, послушно следующей за идеологическими директивами, заменившими для советских людей традиционные эпические константы ("волю богов", "законы природы", "заветы предков"). Уменьшенный до размеров городского двора, советский образ жизни со всеми своими ритуалами, формами общения, массовыми действами (праздничными шествиями, "проработками" на собраниях, разъяснительными беседами, всякого рода проверками) выглядит по-домашнему привычным и в то же время гротескно-комичным.
Сознание жителей двора с благоговением воспринимает очередные официальные идеологемы, творит на их основе свои микромифы, которые находятся в жестоком разладе с мрачной реальностью, но зато дают успокоительное объяснение происходящему (будь то массовые аресты в конце 1930-х годов или "дело врачей" в начале 1950-х) и позволяют сохранять душевный гомеостаз. Да и повествование в романе Львова представляет собой очень своеобразный сказ – оно стилизовано под речь "совка", старающегося говорить вполне респектабельно, тем слогом, который ему кажется литературным, идейно выдержанным, а на самом деле неискоренимо зараженным одесским жаргоном. Поэтому весь дискурс в романе "Двор" приобретает диалогический характер – за серьезным словом безличного повествователя слышится горько-ироническая интонация автора-творца.
Сам Аркадий Львов так объяснял суть того художественного мира, который он воссоздал в своем романе: "Для меня это тоже грандиозный миф. Самое страшное, что пережито нами, это не результат только чьей-то конкретной вины. Сталин Сталиным, как, впрочем, и иные исторические фигуры. Хрущев. Брежнев. Черненко. Тотальный контроль над людьми и обществом, в котором они живут, это не только "верхи", а и "низы", то есть мы сами. У меня в романе этот контроль существует и во дворе, и в самом доме, и в каждой семье. . . К слову, такие проблемы были и есть и за пределами нашего отечества"*17. Романист здесь выделил одну, наиболее мрачную грань советского массового сознания, но она-то в наибольшей степени дискредитирует претензии соцреалистической народной эпопеи на героику, на высокий пафос, на воплощение вечных общественных ценностей, носителем которых всегда выступал традиционный героический эпос. Кроме того, по мнению А. Львова, в этой "совковой" мерзости уродливо проявилось качество любого массового сознания, без тоталитарного духа, – считает автор романа "Двор", – не обходится никакая "соборность", никакое "роевое начало", никакая "общинность".
2. Исторический и идеологический романы
(С. ЗАЛЫГИН, В. ДУДИНЦЕВ и др. )
В 1970-е годы расшатывание соцреализма как историко-литературной системы приобретает лавинообразный характер. Особенно отчетливо эти изменения видны на примере "фирменных" жанров соцреализма, таких, как исторический и идеологический романы. Свидетельство тому – следующие явления, о которых скажем вкратце.
(1) Мутации "романа о коллективизации" – очень специфического феномена соцреализма, канон которого заложен был шолоховской "Поднятой целиной". Эти мутации проходили по двум вариантам. Вариант первый: сохранение шолоховской схемы с некоторой перекодировкой функций основных персонажей ("Кануны" В. Белова, "Мужики и бабы" Б. Можаева). Вариант второй: полемическое перевертывание шолоховской схемы ("Касьян Остудный" И. Акулова, "Драчуны" M. Алексеева)*18.
Оба новых варианта "романа о коллективизации" по своему пафосу противоположны шолоховскому канону. Если у Шолохова коллективизация изображалась как процесс эпосного значения – как возникновение на месте разрозненной, раздираемой классовыми антагонизмами русской деревни новой общности, новой, скрепленной узами социального равенства и коллективного труда цельности, то во всех новых "романах о коллективизации" насаждение колхозного строя предстает как насильственное разрушение крестьянского "мира", противное самим законам жизни людей на земле, как явление антиэпосное.
Однако между двумя этими версиями "романа о коллективизации" есть и немаловажные различия. Различия – в объяснении источников разлада и механизмов его осуществления. Так, В. Белов в "Канунах" (ч. 1 – 3. 1972-1984; ч. 4. – 1989– 1991) и Б. Можаев в "Мужиках и бабах" (кн. 1. 1972 – 1973; Кн. 2. – 1978 – 1980) источник трагедии русского крестьянства ищут прежде всего вне самого деревенского мира, оставаясь в плену соцреалистического мифа о "вредителях" – только в романах 1930 – 1940-х годов это были бывшие белые офицеры и чуждые простому народу кулаки-мироеды, а теперь "вредителями" стали коммунисты-леваки и аппаратчики-карьеристы (по преимуществу с нерусскими фамилиями). Но при этом в стороне остается вопрос: почему левацкие идеи внедрились в российскую деревню, почему деревня не отторгла их как нечто чужеродное, не совместимое с ее нравственными нормами и устоями?
А вот в "Касьяне Остудном" (1979) И. Акулова и "Драчунах" (1981) М. Алексеева главное внимание сосредоточено на анализе сложных отношений внутри крестьянства, которые в первую очередь обусловлены психологией людей, нравственной атмосферой в послеоктябрьской деревне.
Характерно построение романа "Драчуны": он состоит из двух равновеликих частей, причем трагические события, непосредственно связанные с коллективизацией, начинаются лишь со второй части. А первая часть – это скорее нравоописание, сюжет подчинен характеристике нравственной атмосферы, которая сложилась в российской деревне за многие годы. И начинается романное событие с изображения мелкой стычки между двумя ребятишками на школьном дворе, которая повлекла за собой вражду целых семей, кланов, улиц, надолго разорвала все село на два непримиримых лагеря. Это детская-то драка такое наделала! Значит, сельский мир изначально был немирен, значит, в силу многих причин, уходящих корнями в даль времен, он был перенасыщен парами неприязни, зависти, злобы. Где тот мифический лад, о котором пишут иные литераторы?
В отличие от Михаила Алексеева, Иван Акулов в своем романе расширяет панораму путем введения историко-хроникальной линии, которая как бы окружает события в небольшом зауральском селе. Строго говоря, его произведение есть роман-хроника, охватывающий события одного года. Но год-то особый – 1928-й, который вошел в официальную советскую историю как сталинский "год великого перелома". Акулов же назвал этот год согласно народной традиции "Касьян Остудный" – именем этого строгого и недоброго святого на Руси называют високосный год, по поверьям, несущий беды и несчастья. Название, с одной стороны, по-хроникальному точное, а с другой экспрессивное, с богатым мифопоэтическим фоном. Следуя установке на хроникальность, Акулов вводит в роман исторические события большого масштаба, обнажает запутанность политической ситуации в стране мышиную возню карьеристов и демагогов на всех этажах власти. И соотнося обе "хроники" – деревенскую и государственную, – романист показывает, как жестокая свара политиканов, безнравственная по своей сути борьба за власть преломлялась в повседневном существовании самой деревни, в социальном, нравственном, психологическом облике очень немирного крестьянского "мiра".
Акулов и Алексеев мало расходятся в изображении психологической атмосферы в послереволюционной деревне. Оба романиста показывают, что семена левацких идей пали на благодатную почву: теперь можно было сводить накопившиеся за многие годы счеты безнаказанно – под прикрытием официальных лозунгов. И не откуда-то сверху или сбоку, а из самой деревенской массы выщелкнулись алексеевские активисты, вроде сочинителя опасных политических ярлыков Воронина или братьев Зубановых, что изобрели хитромудрый щуп для выявления припрятанного зерна. Это они собственноручно насаждали на местах умозрительные доктрины, претворяя бумажные инструкции в реальное зло. Да, в рядах "неистовых ревнителей" оказывались разные люди: и бессребреники-максималисты, вроде Якова Умнова из "Касьяна Остудного", чья классовая бдительность разрослась до гиперболических размеров; и злобные завистники, вроде Игнахи Сопронова из беловских "Канунов", который хочет использовать время крутой социальной ломки для сведения старых счетов с соперником, и всякая "неработь", наподобие Егорки Бедулева из того же "Касьяна Остудного", что ни в какие времена трудиться не хочет и не умеет, зато всегда готова воспользоваться льготами и привилегиями, которые советская власть дала беднякам. Это не отдельные личности, а целые социальные группы, пласты, из которых и образуется народная масса. Субъективные мотивы "перегибов", творимых руками этих людей, разные, а вот объективные результаты одинаковые. В "Драчунах" Алексеева эти результаты представлены в апокалиптическом образе страшного голода 1933 года, который писатель связывает с ретивым исполнением так называемых "встречных планов" по хлебозаготовкам. Значит, все "неистовые ревнители": честные и лукавые, добрые и злые – несут свою долю вины за разоренье родной земли, за геноцид над своим собственным народом.
Две версии нового "романа о коллективизации" запечатлели Расхождение во взглядах на роль самого народа в процессе созидания или разрушения эпического со-бытия, эпосного "мира". Позиция, наиболее явственно выраженная в романе В. Белова "Кануны", мало чем отличается от соцреалистической догмы, согласно которой народ всегда прав, а если и творит зло, то лишь по наущению внешних врагов. Вольно или невольно эти "народопоклонники" создают весьма скептическое представление о своем народе как о некоем дитяти неразумном и слабом, которое послушно следует дурным советам или покорно подчиняется лихой силе.
Другая позиция, с большей или меньшей степенью полноты воплощенная в романах "Касьян Остудный" и "Драчуны", состоит в выдвижении на первое место проблемы ответственности самого народа за то, что делается при нем и чаще всего его же руками – не только за добро, но и за зло. Народ, который выносил и выстрадал фундаментальные законы нравственности, но не сохранил им неукоснительную верность в пору исторических катаклизмов, сам становится носителем и орудием зла, которое оборачивается прежде всего против него самого. Такая взыскательная позиция носит полемический характер по отношению к освященной авторитетом классики и доведенной до абсолюта в эстетике соцреализма давней демократической традиции идеализации народной жизни и народного менталитета, но в ней куда больше любви к народу, уважения к его опыту и самосознанию, чем в изображении его в духе парадных лубков или заупокойных плачей. Эта тенденция только набирает силу, но она вносит весьма существенные поправки в художественное сознание*19.
(2) Трансформации исторического и идеологического романов соцреализма. В многочисленных романах В. Пикуля (1928 – 1990) ("На задворках великой империи", "Пером и шпагой", "Слово и дело", "Фаворит" и др. ) история России превратилась в объект развязного обращения, сложное переплетение исторических сил сведено к противостоянию между "истинными патриотами" и скрытыми врагами, изнутри подтачивающими Россию. В романах Пикуля на смену соцреалистическому утверждению "преимуществ советского образа жизни" пришли национальное чванство и ксенофобия – и эта замена семантики пафоса произошла вполне органично (видно, природа обоих вариантов пафоса типологически одинакова). В произведениях Ю. Семенова (1931 – 1993) ("Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Бомба для председателя", "ТАСС уполномочен заявить", "Противостояние" и др. ) произошла трансформация идеологического романа соцреализма в шпионский детектив. Показательно при этом, что "бондиада" Семенова – с героическими чекистами в роли "суперагентов" – пронизана пафосом цинизма, основанном на негласном признании аморализма некой неизбежной нормой политической жизни, а значит, и характеров участников, в том числе и тех, кого автор пытается представить в виде положительных героев, носителей идеала.
Будучи почти диаметрально противоположными по своим политическим ориентациям, произведения В. Пикуля и Ю. Семенова эстетически ущербны в равной степени. Не случайно они стали классическими образцами для литературного масскульта, распространившегося в 1980 – 1990-е годы: романы А. Марининой, В. Успенского, В. Доценко эффективно эксплуатируют модели, созданные их плодовитыми предшественниками. (Да и сами классики соцреалистического масскульта вполне органично вписались в постперестроечную рыночную экономику. )
Но 1970-е годы знают и иной вариант трансформации жанровых канонов идеологического и исторического романов соцреализма.
Для эволюции идеологического романа показателен написанный тогда, но опубликованный только в 1987 году роман Владимира Дудинцева "Белые одежды", материал которого основан на известной дискуссии в биологической науке в конце 1940-х годов. В романе по мере углубления идеологического противоборства между персонажами, с одной стороны – подлинными учеными, а с другой – политиканами от науки, конфликт приобретает философский характер, и в структуре романа возрастает роль второго плана, образуемого цепью философских диалогов и диспутов, а также пластом библейских и "авторских" притч. В своей жанровой трансформации роман "Белые одежды" тяготеет к интеллектуальной тенденции, набравшей большую силу в литературе 1970-х годов (см. об этом гл. V части второй).
"Сюжет жизни" выверяется "сюжетом мысли" – не только силой логики, но и светом "истин вековых". Преодоление магии идеологических критериев и догм приводит к разрушению канона идеологического романа, к смещению его структуры в сторону романа философского*20. Аналогичным образом построены такие романы – по своей идеологии далеко отстоящие друг от друга – как, например, "Семь дней творения" В. Максимова, "Покушение на миражи" В. Тендрякова, "Берег" и "Выбор" Ю. Бондарева.
Что же касается романа исторического, то здесь в высшей степени показательны искания Сергея Залыгина (1913 – 2000). Еще в 1964 году он опубликовал повесть "На Иртыше", с которой и началось критическое переосмысление событий коллективизации. В 1967 – 1968 годах им был написан роман о крестьянской партизанской республике времен гражданской войны "Соленая падь".
Сходная историческая ситуация легла в основу романа "Комиссия" (1975). Идеологические и политические перипетии времен нэпа образуют сюжет романного цикла "После бури" (1982 – 1986). Во всех этих произведениях Залыгин в общем-то не выходит за пределы предзаданных идеологических норм. Но он их проблематизирует – сюжетом, стилем, жаркими спорами. По сути дела им осуществлен интересный синтез между традициями исторического и идеологического романов; только идеологическую тенденцию Залыгин возводит к Достоевскому, к его романам-диспутам, а главными участниками этих историософских диспутов, немедленно проверяемых практикой гражданской войны, становятся обычные мужики, оказавшиеся благодаря революции в ролях делателей истории.
Впервые эта художественная структура была найдена Залыгиным в романе "Соленая падь" (1968). Сам объект художественного исследования парадоксален: перед нами крестьянская утопия – крестьянская республика, в которой сами мужики, впервые в истории России, получили полную власть над собственными жизнями. Эта утопия лишена какой бы то ни было умозрительности – это реально существовавшая во время гражданской войны Соленопадская партизанская республика.
Традиционный исторический роман о крестьянском восстании перерастает в драматическое испытание народных идеалов свободы и счастья. Главная проблема романа связана не с борьбой с колчаковцами, хотя эта ситуация играет важную роль в фабуле романа, придавая смертельную остроту идеологическим спорам. Конфликтная ситуация здесь внутренняя: "может ли народ быть сам над собой властью?", а если может, то что такое народная власть? Естественно, этот вопрос решается через изображение народных вождей, вызывающих у читателей не прямые, но достаточно отчетливые ассоциации с реальными политическими фигурами.
Важным художественным открытием Залыгина стал тип Ивана Брусенкова, начальника революционного штаба освобожденной территории. Даже его портрет напоминает о Сталине: "сам он – с короткими ножками, но высокий, поджарый в туловище, с лицом, сильно изрытым оспой, – какой-то неожиданный. Что сейчас этот человек скажет, нельзя угадать". Брусенков фанатически предан революции. Его преданность вызывает восхищение других персонажей романа: "Брусенков – это же великой силы человек. . . " Но сила его зиждется на ненависти, на страсти разрушения всего старого мира: "Ненавистью и презрением к богатству я был пронизан. Понял: весь обман людской, вся его животная накипь – все от богатства, и, покуда оно владеет, нельзя ждать справедливости". Брусенков заряжен на зло. Злость его распространяется и на народ, который он винит в недостатке решительности и революционной сознательности. Он приходит к противоестественному и жестокому выводу: пусть сильнее зверствует Колчак – тогда быстрее проснется недовольство народа, быстрее победит революция. Неверие в сознание и силы народа рождает недоверие к нему. Брусенков подозрителен, ему всюду чудятся враги и измены, отсюда – методы его: слежка, доносы, заговоры. И логика его проста до чрезвычайности. Скрыл мужик своего сына от мобилизации в крестьянскую армию, значит, пошел против революции – казнить. Появилось подозрение, что Мещеряков слишком мягок, жертв боится, – убрать. Во всяких проявлениях гуманности, уважения к человеку, жалости он видит только одно: утрату революционности. Важно подчеркнуть, что этот маленький сталин рожден народной массой, он – плоть от ее плоти. В этом смысле Залыгин вступил в противоречие с теми авторами, в основном из круга "деревенщиков", которые в своих романах о коллективизации разрабатывали и внедряли в общественное сознание представление о чужеродности тоталитарных новаций крестьянскому миру. По Залыгину, Брусенков воплощает тоталитарную версию народовластия как одну из мощных тенденций народного же сознания.
Но тоталитарностью не исчерпывается потенциал народного сознания. Альтернативную тенденцию Залыгин воплотил в характере Ефрема Мещерякова командира партизанской армии. На фоне фанатического аскетизма Брусенкова в Мещерякове необыкновенно сильно бьющее через край жизнелюбие. Он из "тех людей, которые любят жизнь вопреки всем ее невзгодам, умеют ценить выпавшее им счастье существовать на земле"*21. Мещеряков из тех самородков, чью природную одаренность высветила революция, пробудив к творчеству. Его любят за то, что он "радостный", но и сам он буквально расцветает среди "густого народа", переживая настоящее чувство радости от задушевного разговора с людьми. Уважение Ефрема к людям сказывается даже в простодушном желании выглядеть в глазах мужиков попривлекательней (вот и решай – снять или не снять шапку, когда речь говоришь, чтоб "лысинку" не заметили), а тут еще голос подводит: "тоненький, ребячий". Мещеряков и воюет ради этих людей. Ему в принципе чужда теория жертвенности, проповедуемая Брусенковым. Для него смысл революции – в жизни, а не погибели человеческой. Когда максималистка Тася Черненко спрашивает его: "Понадобится тебе ради верной победы бросить всех людей на верную смерть – бросишь?" – Мещеряков твердо отвечает: "Какая же это будет верная победа? Я отступлю. Буду ждать победы для живых. Не для мертвых. И пусть народ губит враг народа, а не друг ему".
Тем тяжелее ему решиться на "арару", на "слезную стенку" из баб, стариков, детишек, которую в критической ситуации пришлось пустить в бой. Впервые заплакал тогда Ефрем, "дико взвыл", в бессилии срывал шапку с головы, швырял оземь. Ведь "за что и за кого война? За ребятишек она, за ихнюю жизнь и свободу. . . " А теперь надо этих ребятишек смертельному риску подвергать. И все-таки "надоть", как говорил маленький старикашка, поведший "арару" на колчаковские пулеметы. Это была уже не только его, главнокомандующего, воля, но и воля народа, частицей которого всегда ощущал себя Ефрем. И в этом его нравственное оправдание и его счастье.
Через характер Мещерякова, полемизируя с тоталитарным радикализмом Брусенкова, Залыгин создает "осветленный" образ революции – такой, какой она могла бы быть. Этот образ во многом утопичен и строится по контрасту с общеизвестной историей революции, в которой жертвенность была возведена в норму, а Мещеряковы были вытеснены Брусенковыми. Вместе с тем такой идеализированный образ революции был создан по всем правилам реалистической убедительности – желаемое представало как действительное, должное как сущее. И такая гуманистическая "подчистка" истории в известной степени служила укреплению авторитета официальной идеологии.
3. Трансформации "положительного героя"
(Д. ГРАНИН, А. ГЕЛЬМАН, Б. МОЖАЕВ, Ч. АЙТМАТОВ и др. )
В соцреалистической модели крайне важная роль отводится положительному герою. Будучи персонифицированным воплощением эстетического идеала, он должен демонстрировать осуществимость этого идеала в жизни и служить назидательным примером для читателя. Едва ли не самым главным доказательством близости героя к идеалу была цельность его характера, т. е. непротиворечивость сознания, мысли и дела, целей и средств. В течение 1930 – 1960-х годов в литературе соцреалистического толка рождались разные версии положительного героя – и пламенные вожаки, ведущие массы "на труд, на подвиг и на смерть", и командиры производства, самоотверженно сжигающие свои жизни в котлованах пятилеток, и простые парни из глубинок, что обретали себя в "буднях великих строек", и бесстрашные солдаты-молодцы, и "простые советские люди", и – уже в 1970-е годы – "деловой человек". Но именно в 1970-е годы практически все эти типы положительного героя стали либо подвергаться эстетической ревизии, либо претерпевать существенную трансформацию.
Изъяны нравственного максимализма
Начиная с 1930-х годов, с Павки Корчагина из книги Н. Островского "Как закалялась сталь", в галерее положительных героев соцреализма самое почетное место занимали персонажи, чья цельность формируется на благородных постулатах нравственного максимализма. Они, альтруисты и аскеты, совершающие акт самопожертвования и зовущие других следовать за собой, были окружены ореолом героики. Но в 1970-е годы этот тип героя стал терять былую привлекательность.
Вот Зинат Булатов, один из главных персонажей романа Рустама Валеева "Земля городов" (1979)*22. В его скульптурно выразительном облике узнается яркий, кремневый тип личности, воспетой искусством 1920 – 1930-х годов. Автор неслучайно наградил своего героя "говорящей фамилией" – Булатов, ибо он "один из самых деятельных участников" истории. Он привлекает своей упоенностью делом, своим суровым аскетизмом, собранностью, волей – словом, всем тем, что называют нравственным максимализмом. Но в максималистском кодексе своего героя Валеев обнаруживает теперь существенные изъяны. Тот, занятый массой неотложных дел, обделяет теплом своих самых близких людей. И когда за своими тракторами, скреперами, грейдерами и бульдозерами Булатов упускает жизнь своего будущего ребенка, становится ясно, что его цельность ущербна, ибо ей не хватает простого человеческого чувства.








