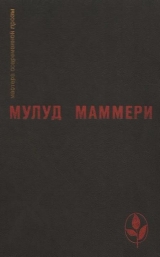
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
– Вы очень добрые, друзья мои. Вы думаете, что мне грозит смерть, и хотите меня уберечь, потому что любите меня. Но вы ошибаетесь, поверьте. Конечно, мне придется туго, знаю; но я все-таки приду туда, куда должен прийти.
И тихо добавил, как бы для самого себя:
– Иначе нет в мире справедливости.
Кругом раздавался глухой грохот обвалов и скрежет каменных глыб, которые срывались, увлекая за собою смерзшуюся землю.
Тут Арезки неожиданно бросился на Мокрана и прижал его руки к телу. Мокран взвизгнул, заревел, забился как одержимый, на губах у него появилась пена. Но с железной хваткой Арезки он не мог справиться. Арезки уперся подбородком в спину Мокрана, между лопатками, и тот захрипел от боли. Менаш вытащил из грузовика канат, и они общими силами связали его.
Теперь Мокран уже не произносил ни слова. Без малейшего сопротивления дал взвалить себя на грузовик. Когда к нему обращались, он ничего не отвечал. Он как-то совсем одурел. Дорога была узкая. Пришлось почти полкилометра пятиться задом. Наконец Арезки удалось развернуться, но ехать пришлось недолго – вскоре они наткнулись на лавину, которая обрушилась после того, как они здесь проехали. Теперь невозможно было продвинуться ни вперед, ни назад.
Они, как могли, устроились на ночлег. Мокрана развязали, потому что он совсем успокоился и образумился, и даже опять начал шутить.
Им пришлось лечь в одежде, прикрыться пледами, а сверху еще толстым брезентом Арезки. Так, прижавшись друг к другу, они согрелись и вскоре уснули.
Однако на другое утро, очень рано, их разбудили порывы бешеного ветра – холщовый верх грузовичка неистово хлопал и чуть не разрывался в клочья. Ветер дул с такой силой, что срывал с утесов камни, и они с шумом ударялись в машину. Стало значительно холоднее. Когда путники выбрались из-под брезента, они с удивлением увидели вокруг себя ровную снежную пелену, до того белую, что в сумерках от нее исходило какое-то бледное сияние.
Не оставалось ничего другого, как бросить грузовичок и поскорее пешком вернуться в Мейо, пока снежный покров не стал еще толще. Машину можно спасти позже, взяв кого-нибудь на подмогу. Каждый стал взваливать на себя поклажу, один только Мокран, видимо, еще спал – голоса его не было слышно. Менаш влез в кузов, чтобы его разбудить. Мокрана там не оказалось. Его звали, искали повсюду – на снегу не было никаких следов. Если он ушел, так, значит, уже давно. Обыскали все окрестности, но Мокрана так и не нашли. Сомнений не оставалось: он направился к перевалу, за которым расстилаются земли зуауа, его предков.
* * *
Подавшись вперед, чтобы легче было идти по склону с сумкой на боку, в тяжелых солдатских башмаках, Мокран с трудом шагает в направлении Куилальского перевала. Перед уходом он осторожно снял с Арезки свой бурнус. Арезки мог проснуться, но все они так устали, что никто не слышал, как Мокран встал, соскочил с машины и тихонько ушел. Самое трудное было миновать перевал, и не потому, что место было небезопасное. Правда, иной раз там поджидают путников разбойники с больших дорог, но трудно было допустить, что кто-то отважится отправиться туда в такое ненастье, да еще ограбить военного. Нет, опасность заключалась в другом: ветер в ущелье достигает такой силы, что перехватывает дух. Пробуешь передохнуть, позвать кого-то, чтобы услышать хоть звук собственного голоса, а ветер затыкает тебе глотку. Кроме того, перевал расположен несколько ниже, поэтому здесь скапливается особенно много снега, он образует ровный настил, и тогда даже самые опытные путники не в силах найти дорогу – они без конца кружат вокруг одного места, а ветер ревет и неистовствует вокруг них. Устав от тщетных усилий, они решают направиться обратно, а тем временем буран уже замел их следы, и вот они идут и идут – идут до тех пор, пока снег не поглотит их.
Благоразумие требует продвигаться как можно скорее, пока не разразился новый буран. Мокран это сознает и все-таки не торопится. Он идет словно во сне, ровным, неспешным шагом – как человек, который знает, что шествует навстречу своей судьбе.
Под его грубыми башмаками на шипах ритмично скрежещут камушки. Он рассеянно прислушивается к этому однообразному, сухому, бесконечно повторяющемуся звуку, который убаюкивает его и позволяет ни о чем не думать. Скрип сменяется скрипом, и все внимание Мокрана занято повторением этих звуков. Он даже не смотрит на пейзажи, открывающиеся перед ним, не слышит вокруг себя ни ветра, ни грохота.
Но вот где-то позади, в ритм его шагам, начинает звучать слабый мелодичный женский голос:
– Раз: ведь я… Два: твоя жена.
Он оборачивается, ничего не видит вокруг, блаженно улыбается и шагает дальше. Крт… крт… – поскрипывают тяжелые башмаки. Завывает ветер.
Вдруг в ушах его раздается громкий гневный голос:
– Ведь я твоя жена.
Он опять резко оборачивается – и снова ничего; это порыв ветра треплет деревья, призрачные очертания которых слабо проступают сквозь темноту. Глаза его смыкаются от усталости. Несколько раз он собирался бросить сумку и бурнус, чтобы легче стало идти, но как же обойтись без теплой одежды, в такой холод и как остаться без еды?
Вскоре он добрался до лавины, которая ночью преградила им дорогу; он сел отдохнуть, прислонясь к откосу.
По всему телу его разлилось какое-то умиротворяющее ощущение. Голос умолк, лишь изредка еще слышался ласковый, нежный, еле уловимый шепот:
– Ведь я твоя жена.
Он так устал, что вскоре веки его сомкнулись. К впечатлениям минувшей ночи примешивались какие-то причудливые образы. Он уже совсем было уснул, как вдруг вскочил весь в испарине.
Перед ним в свете зари белел хаос острых утесов, тесных лощин, отвесных обрывов; несколько деревьев вздымали к небесам истрепанные бураном, обезумевшие ветви; прямо напротив огромный зазубренный утес, высившийся над остальными, отбивал бешеные порывы ветра. Мокран зажмурился, чтобы не видеть всего этого, потом опять открыл глаза; на выступе скалы он ясно увидел женщину в длинном платье с обтрепанным подолом. Руки ее были широко раскинуты, рот открыт, губы растянуты, черные глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Крючковатые пальцы она сжимала, как клешни.
Ее облику вполне соответствовал голос – такого Мокрану еще никогда не доводилось слышать. Ни стенания старух над покойником, ни отрывистые жалобы плакальщиц не могли бы сравниться с ледяным, жутким, безликим звуком, который заполнял всю окрестность, то был долгий, однообразный вопль, внушавший ужас. И голос говорил:
– Мокран, сын Шаалалов, на кого ты меня оставил?
Он вскочил; что-то сдавливало ему грудь, в глазах стоял образ этой надменной гарпии с всклокоченными волосами, а в ушах слышались последние, бесконечно протяжные звуки последнего слова «оставил»: а… а… ви… и… и… л… Очнувшись, он облегченно вздохнул и с удовлетворением взглянул на пик Тамгут, временами выступавший из-под облаков. Мокран был как будто благодарен этому пику за то, что тот стоит на месте, одинокий и нагой, за то, что на нем ничего нет, за то, что он незыблем, неприступен и по-прежнему хранит облик, к которому Мокран привык с детских лет.
Он нащупал сумку, взял ее обеими руками, чтобы убедиться, что все еще находится в мире, где вещи не лишены плотности и веса. Потом вытер рукою лоб, по самую шею завернулся в бурнус и стал перебираться через завал. Идти было нелегко. Он то по колено проваливался в снег, то катился на несколько метров вниз вместе с камнем, на который думал было опереться. Оказавшись наконец по ту сторону завала, он стал яснее различать все кругом, но почувствовал невероятную усталость.
Мокран решил еще немного передохнуть, прежде чем снова пуститься в дорогу; он старался широко раскрывать глаза, чтобы не видеть ничего, кроме действительно существующего. Однако его вскоре опять стало клонить ко сну, и в ушах раздалась та же жалоба, но теперь голос звучал еще более сердито:
– Ведь я твоя жена.
Он поспешил открыть глаза. И опять только ветер ревел у него под ухом, врываясь в опустевшую сумку. Но Мокран уже выбился из сил. Взор его затуманился. Мысли путались. Теперь он уже не отличал Аази от той женщины, которая представлялась ему в забытьи. Он подобрал валявшуюся на дороге суковатую кедровую палку и стал торопливо карабкаться вверх. Пошел дождь, мелкий, частый; однако чуть погодя он прекратился.
Холод стал невыносимым. Мокран то и дело дышал на руки, чтобы отогреть их, но пальцы у него все-таки не сгибались. Порыв ветра закинул ему край бурнуса на голову. Он поскользнулся и ударился о скалу. Пытаясь ухватиться за нее, он ободрал себе руку; головой он сильно стукнулся обо что-то острое, на лбу появилась кровь, кожа над бровью была рассечена, рана болела и вспухла. Мокран на ходу беспрестанно прикладывал к ней окоченевшие руки. Острый кремень прорезал подошву его правого башмака, и теперь вода забиралась туда и хлюпала. А вокруг беспрерывно раздавался все тот же голос:
– Ведь я твоя жена…
Но Мокран уже не обращал на него внимания, он шел теперь быстрее, чтобы согреться, а главное оттого, что знал: резкое похолодание предвещает снег. Надо миновать перевал до того, как начнется метель, да и идти уже было недалеко. А о тех, с кем он расстался прошлой ночью близ Тала-Ганы, вовсе не думал.
Ветер стих, и немного погодя перед Мокраном зареяли редкие, пышные хлопья снега, похожие на медленно и плавно летающих бабочек. «Пройти перевал, пройти перевал», – скрипели под его башмаками мелкие камешки. Вскоре белые стрелки, бороздившие воздух в разных направлениях, заполнили все пространство. Крупные хлопья описывали в воздухе сложные, неожиданные кривые и осторожно опускались на землю, чтобы здесь умереть. Зато градины, наоборот, летели по прямой линии и с шумом ударялись в каменистую почву. Мокрану казалось, будто воздух стал плотнее и с каждым шагом ему приходится рассекать толстый слой ваты. Он тяжело передвигал ноги, словно на них висели гири.
Когда он достиг перевала, снег уже забелил все кругом. Небо было все в облаках, и только по светлому пятну в одном месте можно было догадаться, где солнце. У ног Мокрана раскинулся весь кабильский край. Вершины гор развернулись, как лепестки веера. Снег до них еще не добрался. Счастливцы, живущие внизу, не ведают тех бурь, что свирепствуют на высотах.
Ветер неистово врывался в расщелину. Мокрана со всех сторон охватывал вихрь, необузданные, бешеные порывы которого несли в себе бесчисленное множество снежинок. Мокран долго не мог прийти в себя, тщетно стараясь отдышаться. На выступах хребта, уходившего в сторону его племени, виднелись селения, коричневато-серые, как земля. Тут и там из труб валил дым: снег внизу еще не выпал, но холод уже предвещал метель. Люди жались к печам; как приятно в предвидении бурана чувствовать себя не одиноким. Тут собрались все. Скот они благоразумно загнали в овчарни. Припасли ячменя, пшеницы, сена, соломы, масла, дров. Теперь легко переждать ненастье, а когда в воздухе появятся первые снежинки, дети будут водить хороводы и петь:
Снегу ниспошли аллах!
Чтоб лежало на полях
Одеяло белое,
Чтоб сидели мы в углах,
Ничего не делая.
Только ели, только пили
Да еще волов кормили.
Долина! Он представил себе славный огонь, разведенный в очаге, и друзей, занятых беспечной болтовней. Ему захотелось поскорее избавиться от всех этих мук, самому устроиться где-нибудь в уголке, среди близких, не ощущать больше собственного тела, истерзанного болью и страданием, а главное – не слышать голоса, который звучал в порывах ветра, плакал в расщелинах скал, гремел в раскатах грома или замирал в снегу под его шагами:
– Ведь я твоя жена.
Его охватило такое острое желание окунуться вместе со всеми в легкодоступное счастье, что он снова, с трудом подняв голову, стал смотреть в ту сторону, где жили счастливцы, и вдруг в самой дали, на последнем холме, замаячила Тазга, еле различимая на таком большом расстоянии. Мокран простер руки, снова хотел дотянуться до родной деревни, потом крикнул, как ему казалось, очень громко:
– Аази!
Но, к великому его удивлению, эхо не повторило призыва, хотя в горах оно всегда раздается очень четко и раскатисто. На самом же деле ни единого звука не сорвалось с его окоченевших губ. Да и все равно призыв его потонул бы в белом безмолвии или в реве бурана, который не давал ему дышать, чтобы передохнуть, приходилось закрывать рот полою бурнуса.
И все же Аази услыхала его, ибо он ясно увидел, как она несется к нему, подхваченная порывом ветра. Она спокойно улыбалась, как и прежде, и словно летела над снегом, не оставляя за собою следов.
На ней было платье в горошек, доходившее до колен, – то самое, в каком он видел ее последний раз. Вид у нее был и приветливый, и недоступный, и она улыбалась Мокрану.
Он побежал ей навстречу и спросил, стараясь перекричать ветер, почему на ней нет круглой брошки племени ат-Йани?
– Но ты же знаешь, у меня нет детей, – ласково ответила она и опять улыбнулась.
Почему она, однако, не хочет подойти? Она остановилась, замерла и, не моргая, смотрела ему прямо в лицо. Сам он не мог добраться до нее. Он продвигался с великим трудом, ибо снег стал глубоким; когда же Мокран пытался ускорить шаг, башмаки его скользили назад.
Самым странным казалось то, что теперь он ничего не чувствовал. Он шел как автомат, устремив взор на Аази, которая стояла перед ним все так же неподвижно и все так же улыбалась ему. Он погрузился в какое-то упоительное блаженство. Все окружающее как бы перестало для него существовать – и снег, и холод; в пустом, оголенном пространстве, где не было ни бурана, ни голосов, они остались вдвоем – Аази и Мокран. Он даже не мог бы сказать, где находится – далеко или близко от Тазги. Он был счастлив, только и всего. Однако почему Аази не хочет подойти к нему?
Но вот он бросается к ней. Она широко распахнула ему навстречу руки. Он порывисто обнял ее, крепко прижал к себе. Под легкой тканью ее платья чувствовалось упругое тело. Он обнял ее еще сильнее. Поблизости раздался голос Менаша – он пел похоронную песнь. И тут сознание Мокрана затмилось.
* * *
Мокрана похоронили три дня спустя на кладбище Шаалалов. После кончины Муха это была первая смерть в роду, и могилу ему вырыли рядом с могилой пастуха.
Отыскать тело было очень трудно, потому что его совсем занесло снегом. Только длинная палка да ремень от солдатской сумки помогли обнаружить труп. Менаш и его товарищи разгребли снег и откопали Мокрана; казалось, он крепко спал, завернувшись в бурнус. Буря утихла, и они решили, что лучше отнести умершего к зуауа, в родное селение, чем возвращаться обратно в Мейо.
Миновав перевал, все вздохнули с облегчением: спускаться было легче, да и снег уже стал не таким глубоким. Товарищи наскоро смастерили носилки из палок и сучьев и понесли Мокрана, сменяясь поочередно; хотя дорога шла под гору, продвигались они с трудом, скользя на каждом шагу; те, кто сменился, шли впереди, чтобы проложить путь остальным.
Они добрались до ближайшего селения Тагемунин, где им удалось раздобыть настоящие носилки. Менаш отправился вперед, чтобы сообщить печальную весть жителям Тазги и привести оттуда помощников. Последнее, впрочем, оказалось излишним, ибо крестьяне Тагемунина, во главе с амином[21]21
Амин – староста.
[Закрыть], сами вызвались нести покойника до границы своих земель, а там уже поджидала толпа юношей из соседней деревни, которых предупредили заранее. Так окрестные жители провожали Мокрана от селения к селению, передавая носилки друг другу, пока не встретились с его земляками из Тазги, приведенными Менашем. Они поблагодарили прежних провожатых и двинулись дальше, в Тазгу. С каждой деревней толпа все разрасталась, и необычная процессия торжественно продолжала свой путь; впереди шли старики и марабуты, распевая монотонную, заунывную молитву о тех, кто умер на чужбине, далеко от родного племени.
Вечером они прибыли в Тазгу. Всю ночь шейх вместе с марабутами и членами общины Абдеррахмана пели молитвы над телом усопшего. На другой день, при большом стечении народа, Мокрана похоронили. Когда шейх, прежде чем предать его земле, в последний раз приподнял край савана и открыл лицо покойного, отец Мокрана надвинул на глаза капюшон бурнуса, ибо не подобает мужчине показывать на людях свое горе.
Старая Мельха долго еще не могла утешиться. Часами сидя у окна, откуда было видно кладбище, она не отрывала глаз от могильной плиты, под которой Мокран покоился вечным сном. Она не утирала слез, даже когда в комнату входил Рамдан, и, не имея сил каждый день посещать могилу, поручала матери Муха делать приношения за упокой души обоих их сыновей.
После смерти Муха Тасадит нашла пристанище в доме Шаалалов. Она уже впала в старческое слабоумие, но по временам стряхивала с себя оцепенение и принималась помогать по хозяйству. У себя на родине она все распродала и жила у Рамдана как полноправный член семьи. Она медленно угасала в селении, где вырос и работал ее младший сын. Отец Мокрана никогда ни о чем ее не просил, зная, что она не в своем уме. Вначале у Тасадит бывали даже приступы дикого отчаяния, так что соседи опасались за ее жизнь. Через некоторое время приступы прекратились, но с тех пор каждое утро на рассвете, в тот час, когда они с Мухом обычно пили кофе, Тасадит отправлялась на кладбище и угощала кофе и лепешками бедняков, которые вскоре начали приходить туда, как на свидание. Теперь Тасадит казалась спокойной; только когда ей встречалась по дороге или на площади шумная ватага товарищей Муха, она останавливалась и долго глядела им вслед, словно надеясь отыскать среди них своего сына; потом, пожелав им доброй ночи, уходила, тихонько вздыхая и прижимая большой и указательный пальцы к сухим глазам.
Месяц спустя – в этот день как раз тоже шел снег – родился ребенок Мокрана и Аази. Это был мальчик. Некогда Рамдан сам выгнал сноху из дома, но теперь он пришел навестить ее вместе с Мельхой. Латмас из уважения предложила деду выбрать имя для новорожденного. В память о сыне старик назвал младенца Мокраном, взял его на руки и прочел молитвы, прося для него у аллаха долгой и счастливой жизни.
– Пусть проживет он всю жизнь верующим и умрет мусульманином! Да будет над ним благословение аллаха, да оградит его аллах от козней шайтана! Раз уж мы все здесь собрались, – продолжал Рамдан, – садитесь и слушайте.
Он начал с длинного предисловия о неотвратимом конце всего сущего, приводил стихотворные изречения мудрецов, такие волнующие, что Аази, стараясь заглушить рыдания, затыкала себе рот краем широкого рукава.
– Но что прошло, то прошло, – сказал старик. – Теперь надо подумать о будущем. Тамазузт! – обратился он к снохе. – Это твой ребенок, но он сын нашего сына. Я знаю, что ты молода и тебе уготована долгая жизнь, если такова будет воля аллаха. Ты свободна сделать выбор: или вернуться к нам и воспитывать сына, или выйти замуж во второй раз. Если ты выйдешь замуж, ребенок останется с тобой – да хранит его аллах, – пока не вырастет и не будет один выходить на площадь. Тогда я заберу его к нам, но даю тебе обещание: где бы ты ни жила, ты всегда сможешь навещать его когда захочешь.
Рамдан говорил еще долго, Аази продолжала плакать.
– Подумай обо всем хорошенько, – заключил он. – Я не требую ответа сейчас же. Но когда примешь решение, позови меня или дай мне знать.
С тех пор Мельха почти каждый день навещала Латмас. Сначала они называли младенца Мокраном, но это будило слишком горестные воспоминания; в конце концов, перепробовав много ласковых имен, женщины стали звать его Ауда, Воскресший, и это имя за ним осталось.
* * *
Менаш думал, не уехать ли ему куда-нибудь. Дни текли так медленно и уныло, и все в этом краю – улицы, площади, стены, даже людские голоса – напоминало ему о Мокране. Он предложил было Меддуру уехать вместе, но учитель и слышать об этом не хотел. С самого приезда он повадился каждый день ходить в дом к Латмас и сидел там часами. Что он у нее делал?
Менашу захотелось это выяснить, и однажды, услышав, как Меддур разглагольствует на площади, он решил подождать его и вместе отправиться к Аази.
Меддур давно уже отказался от своей апостольской миссии и за время военной службы начисто растерял весь запас знаний, почерпнутых из книг, растерял все идеи, которые никогда не мог как следует усвоить. А так как ему нечем было заменить утраченные идеалы, он без конца повторял свои прежние поучения, словно его отупевший ум уже неспособен был воспринять ничего нового.
– Наше общество плохо устроено, – вещал он на площади. – По законам природы мужчина и женщина должны жить вместе, эти существа взаимно дополняют друг друга. Между тем мужчины и женщины у нас живут обособленно; подобно солнцу и луне, может быть, видят друг друга каждый день, но не встречаются. Если бы наши кабилы знали, сколько различных бед, болезней и даже извращений порождает эта разобщенность, они были бы потрясены, вот именно потрясены.
Никто не слушал Меддура – кого могла занимать эта болтовня, когда люди не знали, хватит ли у них еды до конца недели, не знали, вернется ли с войны хоть один из юношей, забранных вместе с Меддуром? Раздосадованный всеобщим невниманием, Меддур вцепился в подошедшего Менаша.
– Вот Менаш понимает, что я хочу сказать, на какое зло указываю; отсюда и неясные порывы Идира, и странная любовь Мокрана, и двойная жизнь Муха. Кстати сказать, не в этом ли причина и твоей несчастной страсти, Менаш?
Менаш оглянулся кругом: Меддур произнес это по-французски, и никто, надо надеяться, не понял его слов. Менаш не удостоил его ответом. Нимало не заботясь о том, что его новая мысль противоречит прежней, Меддур продолжал:
– Впрочем, любовь – это выдумка цивилизованных народов, самообман личности, которую угнетает среда. В хорошо организованном обществе, живущем в согласии с природой, любовь есть соприкосновение двух эпидерм, брак только узаконивает взаимное влечение, а все прочее – пустая романтика.
Менаш уже слышал когда-то эти старые, знакомые изречения[22]22
Меддур вольно цитирует афоризм Н. Шанфора: «Любовь, в том виде, в каком она существует в обществе, есть не что иное, как обмен двух фантазий и соприкосновение двух эпидерм».
[Закрыть].
«Аллах обрек его на непроходимую глупость, – подумал он. – Бедняга весь начинен пошлостями».
Но приходилось терпеть общество Меддура до тех пор, пока они не отправятся к Латмас. В это время на площади появился шейх и избавил всех от нудной проповеди учителя, так как Меддур, желая показать свою учтивость, поспешил подняться; встали и другие юноши. Старик уселся как раз на место Меддура, и тот, воспользовавшись этим, тут же ушел. Менаш последовал за ним.
После смерти Мокрана он чувствовал себя совсем разбитым и опустошенным. Все его тяготило, все ему опостылело. В это утро ему особенно хотелось отвлечься, встретить какого-нибудь простоватого болтуна, который бы говорил о всяких пустяках, не мешая ему своим присутствием, шагал бы рядом, только и всего. Менаш мог бы слушать, не отвечая, или не слушать вовсе. Сама судьба послала ему в спутники Меддура – давно уже не проводили они столько времени вместе.
Меддур вел его под руку. Он уже перескочил на новую тему; как смутно понял Менаш, речь шла о необходимости канализации.
– Вопрос стоит перед нами так: быть или не быть. Тазга должна решительно вступить на путь преобразований – необходимо проложить канализацию… Что же ты молчишь, Менаш? Что с тобой? А-а, понимаю! Но я ведь тоже был другом Мокрану, однако я умею владеть собой, у меня рассудок всегда берет верх над чувствами.
– Это потому, Меддур, что у тебя сильный характер.
«Мокран умер, – подумал Менаш, – Аази сломлена горем, Идир исчез, Ку измучена нищетой, и вот этот болван – последнее, что еще напоминает о Таазасте».
Менаш почувствовал себя слишком уставшим, чтобы спорить. В глупости Меддура было что-то успокоительное; его нудные, тягучие рассуждения позволяли хоть немного забыться. Поэтому, когда Меддур пригласил его выпить чаю, он согласился.
Войдя в дом, Менаш свистнул от изумления. Хозяин принял это за выражение восторга и стал объяснять притворно скромным тоном:
– Я обставил свою комнату хоть и без роскоши, но с комфортом; на мой взгляд, проповедники новых идей должны быть застрельщиками прогресса.
– У тебя чудесно, но скажи, ради аллаха, как ты умудрился раздобыть такую великолепную металлическую кровать?
– Я купил ее на свои сбережения.
– Поздравляю, но зачем столько новшеств сразу? Вешалка для полотенец! Недостает только умывальника. Вешалка для пальто! Коврик перед кроватью! Восхитительный столик! Зачем столько вещей?
– Видишь ли… Дело в том…
– В чем же?
– Понимаешь ли, я готовлю уютную обстановку для Аази.
В ушах Менаша зазвучали тысячи невнятных голосов. Все поплыло у него перед глазами. Он был ошеломлен, будто его сильно ударили по голове. Меддур впился в него взглядом, пытаясь угадать, какое впечатление произвели его слова. В один миг Менаш понял, как серьезна надвигающаяся беда. До чего же он гнусен, этот тихоня, который, не успев похоронить товарища, уже задумал жениться на его вдове! Так вот в чем подоплека его недавней болтовни о любви и браке! Однако Менаш постарался скрыть свое изумление.
– Так, значит, правду говорят люди?
– Говорят люди?
– Ну да. Разве ты не знаешь? По всей Тазге судачат о твоей женитьбе на вдове Мокрана.
– Вот как? И что же об этом говорят?
– Что ты быстро обделываешь свои делишки.
– Быстро и хорошо.
Меддур с довольным видом оглядел комнату.
– Через месяц я опять возьму отпуск, и тогда мы отпразднуем свадьбу. Я уговорю Латмас. Знаю, что это против обычая, вдова должна ждать три месяца после смерти мужа, но война оправдывает все.
«Проповедник новых идей что-то часто говорит о Латмас и совсем не упоминает Аази», – подумал Менаш.
– Через месяц Аази, вероятно, еще не успеет позабыть Мокрана, – возразил Менаш. – А без ее согласия ты не можешь жениться, ведь, как мне известно, ты решительный противник варварских обычаев наших предков.
– Разве ты не знаешь, Менаш, что привычка – вторая натура? Надо вырвать Аази из обычной обстановки, тогда она сможет избавиться от долгих и мучительных воспоминаний.
– Я уверен все же, что ты по достоинству ценишь своего соперника, ведь ты великолепный психолог – недаром занимался столько времени.
Менаш знал: по убеждению Меддура, достаточно прочитать учебник психологии, чтобы сделаться психологом.
– Я не признаю его превосходства над собой.
– Вот как?
– Неужели ты не замечал, Менаш, что твоя двоюродная сестра была с ним очень несчастлива? Аази нужен именно такой муж, как я, потому-то я и женюсь на ней.
– На твоем месте я бы предоставил ей самой решить, кого она хочет; я бы подождал, пока она сама выберет.
Меддур уже не слушал его и, погрузившись в свои мысли, говорил сам с собой:
– Такая женщина – и мечтатель-звездочет Мокран! Что общего между ними?
Меддур облизнулся; казалось, будто у него слюнки текут от предвкушаемого удовольствия. Не обращая внимания на гостя, он упивался сладостными мечтами:
– Какой изящный носик! Какие губы! А какая стройная шея!
Тут он вдруг повернулся к Менашу.
– Эта женщина достойна жить во дворце, в роскошном дворце. Я перестрою наш дом, сломаю стену, отделяющую нас от Таазаста, от этой развалины, которую вы все чтите, как древнего идола.
– Полно, Меддур! К лицу ли подобные затеи таким деятельным защитникам цивилизации, как мы с тобой? На твоем месте я бы отложил все это до тех пор, пока наши славные войска не одержат окончательно верх над варварством, – совершить глупость никогда не поздно.
Меддур усмехнулся, выслушав эту не слишком для себя лестную шутку; он заявил, что его решение бесповоротно; он уже почти заручился согласием Латмас, а уговорить Аази – вопрос времени. Теперь Менаш узнал все, что ему нужно было: бывший учитель зачастил в дом Аази потому, что надумал жениться на ней.
И тогда Менаш принял твердое решение: во что бы то ни стало помешать кощунству. Пока он размышлял об этом, перед его глазами стояла последняя белая страница из дневника Мокрана; в уголке, наискосок, была написана одна-единственная фраза, как будто ни с чем не связанная:
«История говорит, что в 1454 году турецкие орды, полчища алчных варваров с горящими вожделением глазами, вторглись в священный город Константинополь, где более тысячи лет ученейшие мудрецы всю жизнь свою размышляли и спорили о неисповедимой сущности божества».
* * *
Менаш застал старую Латмас за ткацким станком. Она объяснила ему, почему согласилась на брак Аази с Меддуром. Латмас давно уже терпела нужду, а Меддур дал ей денег на дрова, масло, инжир, ячмень (пшеницы она давно уже не видела), и это помогло ей прожить зиму.
– У нас даже одеяла нет, видишь, я только начала его ткать. А денег на шерсть одолжил мне Меддур.
Она продолжала говорить, как вдруг раздался громкий стук в дверь.
– Наверное, Меддур, – сказала Латмас.
Она угадала. Увидев Менаша, Меддур не мог скрыть досады: ведь они только что расстались.
– Я смотрю, наши пути сходятся. Знал бы я, что ты собираешься сюда, мы бы пошли вместе.
Меддур решил, что Менаш явился сюда, чтобы отговорить Латмас (в этом он был прав) и чтобы самому посвататься к Аази (тут он ошибался).
Не успел начаться разговор, как вернулась Аази. Она запыхалась, подымаясь с тяжелым кувшином по крутой тропинке, и вся раскраснелась (от смущения – как полагал Меддур, от гнева – как думал Менаш); Менаш нашел, что она сильно исхудала. Аази поставила кувшин с водой, поздоровалась с гостями и ушла в соседнюю комнату.
Менаш заметил, как загорелись глаза Меддура при виде молодой женщины, которой он надеялся вскоре завладеть; он машинально облизывал пересохшие губы, как недавно у себя в комнате. Менаш задыхался от ярости, его так и подмывало съездить по этой поганой физиономии.
Когда они вместе вышли из дома, в глазах у каждого можно было прочесть холодную решимость устранить недруга. Они молча добрели до площади и там разошлись в разные стороны.
Ячмень, дрова, масло, шерсть… Менаш должен был признать, что ни разу об этом не подумал. К тому же, как ни досадно, у него не было денег. Сколько Менаш ни ломал себе голову, он не мог придумать никакого ловкого хода, чтобы окончательно устранить Меддура. Все его мысли сводились к одному: надо набить морду негодяю, а это было бы слишком примитивно для человека с воображением.
Расставшись с Меддуром, он повернул в сторону Аафира, и вдруг навстречу ему попался Равех.
– Куда спешишь? – спросил он. – И почему ты такой расстроенный?
– Я никуда не спешу и ничем не расстроен.
– Кто это был с тобой на площади? Уж не Меддур ли?
– Он самый.
– Надеюсь, ты поздравил его с помолвкой? Ведь он женится на Аази; виноват, на вдове Мокрана.
– Что за вздор, Равех!
– Вздор? А почему?
– Это невозможно.








