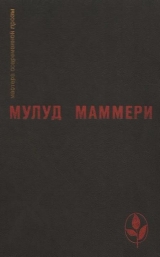
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
– Тот, кто хочет стать крупным, – сказал Рыжий.
– Браво, товарищ. Вот что значит здравый народный смысл. И в школу ходить не надо. Это, пожалуй, почище, чем лекция по политэкономии. Мелкий буржуа по самой своей сути гибрид. Он с равным успехом может оказаться и по одну, и по другую сторону баррикады, с народом или с его эксплуататорами. Спрашивается, што дьелат?
– Это еще что такое? – спросил Рыжий.
– Это Ленин, всем известно.
– А мне – нет, – сказал Рыжий, – я никогда не ходил в школу.
– Это значит: что делать.
– Вот именно…
– Все очень просто. На этой стадии тактического союза с мелким буржуа надо подтолкнуть его в нужную сторону.
– Каким же образом? – спросил Мурад.
– Наипростейшим. Власти произносят революционную речь. Надо поймать их на слове, заставить довести до логического конца те принципы, о которых было заявлено во всеуслышание. Что же произойдет? Одно из двух: мелкий буржуа, предержащий власть, может сыграть нам на руку или поломать игру. Но в обоих случаях мы в выигрыше.
– Если он будет проводить вашу политику – согласен, но, если, как ты говоришь, он поломает ее, я не очень хорошо представляю себе…
– Первая гипотеза: власть проводит предложенную нами политику и тем самым готовит нам работу, расчищает почву для великого дня.
– Ибо в любом случае великий день настанет?
– Нам хотелось бы избежать его, но опыт показывает, что ни один класс никогда не расстается с властью, если его к этому не принуждают. Насилие – это, можно сказать, повивальная бабка истории. Вторая гипотеза: власть устанавливает режим, противоречащий истинным интересам народа.
– Кто же определяет эти интересы? – спросил Мурад.
– Вопрос вполне уместный, но я отвечу на него потом. В случае осуществления второй гипотезы ловушка захлопывается.
– Что же это означает?
– А вот что. Мы призываем народ удостовериться в том, что договор нарушен, и встать на защиту своих законных прав.
– Иди, я тебя поцелую, – сказал Рыжий.
Шатаясь, он встал и, наткнувшись на пса, едва успел уцепиться за край стола. Безработица помог ему устоять, Балтазар принес еще виски.
– Вот это, я понимаю, ученье, – сказал Рыжий.
Он попытался присвистнуть, но у него ничего не получилось.
– Нет, товарищ, это диалектика, – возразил Мурад.
– А как же народ?.. Вы полагаете, достаточно нажать на кнопку? – спросил Камель.
– Об этом не беспокойся, способ есть. Он применялся в других местах, причем в условиях куда более трудных, и всегда с успехом. К тому же народ знает, в чем его интерес.
– Я сейчас вернусь, – сказал Мурад, поднимаясь.
– Мне представляется, что существует третья гипотеза, – заметил Камель.
– Какая?
– Когда власть продолжает проводить по-настоящему социалистическую политику.
– Это чисто умозрительный, немыслимый вариант, голая теория и школярство. В действительности же мелкий буржуа, как бы далеко он ни зашел, не в силах переступить определенной черты, так как в противном случае ему придется отречься от самого себя. Вот тут-то и наступает момент для нашего вмешательства.
Рыжий даже присвистнул от восхищения. Мортед склонился к нему:
– Понимаешь, товарищ? Это тебе не какой-нибудь там мутный популизм, это диалектика. Мы хотим сделать народ счастливым, но по-настоящему. Вот почему мы трудимся во имя того, чтобы создать бесклассовое общество.
– Если понадобится, то и с помощью пинка под зад, – сказал Рашид.
Вернувшийся Мурад увидел, как Рыжий скорчился от смеха на своем стуле:
– Ха-ха! Пинком под зад…
– Ну что? – спросил Камель.
– Звонил, никого не застал – ни Сержа, ни Амалии. У Буалема нет телефона.
– Буалем все равно ни за что не решится прийти в этот гибельный притон.
Не успел Камель сказать это, как в дверях появилась маленькая, угловатая фигура Буалема, разодетого как на праздник. Со смущенным и в то же время вызывающим видом он пересек зал, стараясь держаться поближе к стенке. Подойдя к ним, он не мог скрыть своего разочарования:
– А где остальные?
– Мы ждем их, – сказал Камель.
Мурад запихивал в пасть псу жареные сардинки.
– Теперь он от тебя не отстанет, – сказал Камель, – будет ждать тебя на аэродроме в Орли – доберется туда раньше тебя.
Балтазар набросился на пса, стегая его салфеткой: «Вон!»
– Оставь его, – сказал Мурад, – он ничего плохого не сделает.
– Это запрещено. По правилам…
– Плевать нам на правила, – прервал его Рыжий.
Пес спрятался под столом, пристроившись у ног смуглого молодого человека.
– Ты ему понравился, – заметил Рыжий, потом повернулся к Мортеду:
– У тебя не найдется случайно работы для моего друга? Его зовут Безработица… потому что у него нет работы.
– Не может найти?
– Он ищет, но это вовсе не значит, что он хочет найти.
Рыжий засмеялся:
– Вообще-то Безработица вроде меня… Не очень любит работать. Но если подвернется хорошая работенка…
Пес встал.
– Лежать, Пабло, – приказал Мурад.
– Его зовут Пабло?
– Да.
– Какое смешное имя. Почему ты его так зовешь?
– Не знаю, морда у него такая, подходящая. Правда, Пабло?
Пес уставился на него своими влажными глазами и втянул живот. Рыжий погладил его против шерсти:
– Что, Пабло, надоела собачья жизнь, а?
И снова засмеялся:
– Пинком под зад…
– Совсем пьяный, – молвила Суад.
– Тебя к телефону, – сказал Балтазар, наклоняясь к Мураду.
Звонила Амалия.
– Это ты, Мурад? Я боялась, что не найду тебя. Прошу извинить нас с Сержем за сегодняшний вечер. Нам надо было просмотреть массу всяких записей и кое-что уточнить. Завтра весь день мне придется бегать по присутственным местам, но вечером я свободна.
Она подождала немного. Мурад молчал.
– Надеюсь, ты не забыл про Зеральду? Заезжай за мной в отель. Я буду ждать тебя начиная с девяти часов, хорошо?
На другой день, проснувшись, Мурад чувствовал себя отдохнувшим. Лихорадка отпустила его, и он спал всю ночь.
То был его последний день в Алжире.
Свой последний день он проведет на улицах города. Это будет его последнее свидание.
– Вам звонила дама, – сказал консьерж, когда Мурад проходил мимо его каморки, – европейка. Я не хотел вас беспокоить. Она просила напомнить вам про Зеральду. Ах, чуть было не забыл вам сказать: похороны завтра.
– Завтра я улетаю рано утром, – сказал Мурад.
– Он был в моем возрасте.
– Ну ты-то старой закалки, – сказал Мурад, – ты всех нас переживешь.
– Вы хотите успокоить меня. Но я-то знаю, что смерть – это как билетная касса в кино. Люди стоят в очереди, и ты вместе с ними. Очередь двигается, глядишь, и твой черед подходит, а потом наступает момент, когда сам ты оказываешься у кассы. Готов к представлению.
На улице лил дождь. Повезло, подумал Мурад. У Алжира под дождем печальный вид, он для этого не создан. Мураду больше было по душе сохранить о нем такое безрадостное воспоминание, ибо, кто знает, не настанет ли спустя годы, которые ему предстоит провести под серыми небесами, еще более сумрачный день, чем другие, и не застанет ли его врасплох? А он не будет к этому готов. Его ждут тоска, страх, стыд, а в недалеком будущем и старость, а старики в тех краях никому не нужны, кроме смерти.
У подъезда нищий уже ел горячий суп, который он налил в солдатский котелок; мяса было много, и свободной рукой он бросал кости Пабло, который ловил их на лету. Увечье у него, конечно, поддельное: за то время, что не менялась повязка, рука уже должна была либо зажить, либо сгнить.
Нищий притягивал к себе Мурада. Он жил здесь уже много месяцев со своей перевязанной рукой и собакой. Если Мурад возвращался поздно вечером, он натыкался на неподвижное тело, лежащее прямо на мостовой; если выходил рано утром, его встречал холодный, чуть ли не ненавидящий взгляд нищего, его враждебное молчание. Смена времен года, войны, свадьбы, шумные процессии которых, утопающие в цветах, проплывали мимо него в конце каждой недели, сопровождаемые торжествующими криками женщин и автомобильными гудками, смерти – все это не вызывало у нищего ни малейшего интереса.
Дождь яростно хлестал по мостовой. Струйки воды, стекавшие по проезжей части, добирались и до нищего и, обогнув, бежали дальше, оставляя следы на его старом пальто, – нищий не шевелился и не думал вставать, не пытался укрыться под арками, в двух шагах от этого места. Он здесь не для того, чтобы укрываться: на то он и нищий, чтобы служить укором, выполняя священную миссию, то есть давая почувствовать другим истинную цену их счастья.
Однако и у него была своя отрада, эмблемой которой служила его повязка. Другим могла наскучить привычная радость их счастья, они порою уже не сознавали отпущенную им милость небес – пост министра, генерального директора, второго секретаря посольства, привратника или сезонного рабочего.
Но, по правде говоря, роль нищего была еще более тонкой, ибо, напоминая счастливцам об их счастье, он в то же время заставляет их осознать меру своего закабаления. Стоит счастливцам наткнуться на его тело, распростертое в пыли, как их начинают тяготить квартиры, жены, увешанные золотом, внушительные «мерседесы», дачи на берегу моря, являя им образ опутавших их цепей. Они цепляются за эти игрушки, подобно тому как утопающий хватается за соломинку. У нищего ничего этого нет, но живет он под тем же солнцем, что и они, располагается напротив их облицованных голубой мозаикой вилл на высотах Гидры. Полная нищета дает ему полную свободу.
Нищий даже не взглянул на Мурада. Капли дождя струились по его морщинистому лицу. Возле рта они делали поворот, стекая на бороду или следуя изгибу губ. Нищий пальцем не пошевелил, чтобы стряхнуть их.
Мурад раздумывал, как ему быть: положить динар в руку нищего или, как всегда, сделать вид, будто не замечает его. Он достал монету и бросил наугад в сторону пальто. Нищий поднял на Мурада свои холодные глаза, затем, не торопясь, поднял монету.
Мурад не уставал восхищаться нищим: представление и на этот раз прошло удачно. Прекрасный он актер и притом никогда ничего не говорит… Ведь молчание его красноречиво: «Счастливые люди, взгляните на меня и подайте милостыню. Вы не прогадаете в любом случае: если вы верующие, то даете в долг всевышнему, самому платежеспособному должнику, он вам воздаст сторицею. Если же нет, то сумейте оценить меня по достоинству, ведь я являю собой оборотную, мученическую сторону вашего счастья: без меня вы забыли бы о том, что счастливы!»
Мурад торопливо пошел прочь. Он знал, что жесткий взгляд старика провожает его. Обернулся он как раз в тот момент, когда нищий в ярости ударил пса по спине палкой, которую прятал под полой пальто.
Под дождем Алжир всегда выглядит необычно, однако не мог же ливень до такой степени изменить привычную декорацию. Мурад открывал для себя город, оказывается, прежде он его не знал. Узкие улицы, казалось, играли в прятки с морем, которое то появлялось, то исчезало вовсе неожиданно. На улицах было пустынно: прохожие, укрывшись в дверных проемах или под навесом, смотрели, как падает дождь.
Мурад бродил целый день. К вечеру он вернулся, совсем выбившись из сил.
– Вам просили передать это, – сказал консьерж.
Мурад узнал почерк Амалии.
«Вот уже два дня я бегаю за вашими чиновниками. Они неуловимы и перегружены. У них то совещание, то командировка, то вызов к министру. Такое долго не выдержать. Им грозит инфаркт или депрессия. Вам следовало бы поберечь их.
Но ты меня знаешь, я из тех, для кого главное не успех, а упорство. И я продолжаю упорствовать. Я готова примириться с тем, что они откажут мне в том или ином документе, связанном с нефтью, но не могу простить им, что сегодня вечером я лишилась из-за них Зеральды. Я чувствую себя обманутой. Это напоминает мне мои детские наказания: сегодня вечером ты не пойдешь на пляж! Остается надеяться, что дело поправимо, если, конечно, ты этого хочешь. Ave!»
Мурад сунул письмо в карман. Он постоял в раздумье, потом, вместо того чтобы подняться по лестнице, направился к выходу.
– Вы снова уходите? Что-нибудь забыли? – спросил консьерж.
– Я забыл напиться, – сказал Мурад.
Консьерж смотрел ему вслед, неодобрительно качая головой.
Мурад остановил такси и велел отвезти себя к Кристине. Она была дома одна.
– Я как раз набирала твой номер. Мне только что звонила Амалия. Она сейчас в редакции. Она оставила тебе записку, но боится, что ты не заедешь домой. Она просит извинить ее за сегодняшний вечер.
– Я знаю. У тебя есть виски?
– О! Так это, значит, серьезно. Из-за несостоявшегося свидания? Поздравляю тебя. Ты еще молод. Но ты ничего не рассказал мне про Тассили!
– Все сказано в путеводителе, только, разумеется, в лучшем изложении.
– Все, кроме главного… вероятно?
– О главном не расскажешь.
– Тем хуже. Стало быть, мне не узнать, почему у тебя такой вид.
– Это моя последняя ночь здесь.
– И ты собирался провести ее с иностранкой?
– А разве Зеральда не в Алжире?
– Возьми меня с собой, – сказала Кристина.
– Ты не захочешь.
– Тебе не нравятся эрзацы?
– Думаю, что тебе не понравится роль дублера.
Мурад встал, пошатываясь.
– Куда ты?
– В «Тамтам».
– Может быть, тебе лучше зайти в редакцию…
– Это идея.
Она помогла ему спуститься с лестницы.
В «Тамтаме» почти никого не было.
– Даже Рыжего нет? – спросил Мурад.
– Днем он делает вид, что ищет работу вместе с Безработицей, – сказал Балтазар.
Мурад пил в одиночестве. Балтазар издалека поддерживал с ним беседу, но Мурад улавливал только обрывки фраз. Наконец он встал. Балтазар едва успел поддержать его, чтобы он не упал.
– Что-то ты перебрал сегодня. Неприятности?
– Завтра я покидаю вас, – сказал Мурад.
– Сегодня вечером еще зайдешь?
– Ни за что! У тебя здесь скука, а это – мука… гадюка… злюка… и… и штука.
– Да ты на ногах не стоишь! Куда же ты теперь?
– В редакцию.
– Подожди, я позову такси.
В баре по соседству с «Альже-Революсьон» собралась почти вся команда редакции. Мураду оказали шумный прием.
– Уже набрался?
– Наверное, с горя, что покидает нас.
– Так оставайся с нами.
– Неплохо для начала, – сказала Суад. – Ну что ж, Буалем, не пропадать же тебе в одиночестве.
Мурад проследил за взглядом Суад. В глубине зала Буалем сидел один, склонив голову на мрамор столика.
– Браво, старик, – сказал Мурад.
Буалем пробормотал что-то невнятное, обращаясь, по-видимому, к стакану, который держал в руках.
– И так с самого утра, – заметила Суад. – Сахара не пошла ему на пользу.
– Это от солнца, – сказал бармен, – скоро пройдет.
– Всему виной джинны Сахары.
В первый же вечер после своего возвращения Буалем поспешил на урок к учителю. Он собирался рассказать его ученикам о своей поездке и, главное, предостеречь их, ибо не оставалось сомнений в том, что тлетворный дух завладел пустыней пророков. Братья не знали этого, они успокаивали себя тем, что в городах есть, конечно, маленькая горстка людей пропащих, научившихся думать и жить на западный манер, но верили, что в глубинных районах страны народ хранит первозданную чистоту, а это, оказывается, было заблуждением. Буалем знал, какое опустошение произведет это откровение в сердцах учеников, и мучился вопросом, как лучше сообщить им об этом. Но разве верующий выбирает форму джихада, который ему выпадает? Жестокость тоже может послужить во славу творца.
Едва переступив порог, он сразу почувствовал устремленные на него горящие взгляды учеников. Начал он с привычных формул:
– Хвала аллаху, господу миров!
– Хвала ему, – вторили ученики.
– Молю его о помощи против злокозненного дьявола…
Ученики несколько раз испросили прощения у творца.
– Слава ему, – продолжал Буалем, – есть еще края, где чтут его святое имя, где люди готовы жить для него и умереть за него, где властвует дух джихада.
Буалем и сам не знал, почему сказал такие слова, ведь готовился он совсем к иному. Может быть, просто по привычке, а может быть, потому, что другие слова были бы недоступны пониманию учеников? Он произносил фразы одну за другой, словно под диктовку. Его увлекала их властная и сладостная музыка. Величавость слов вызвала в памяти поэтические строки, которые, мнилось ему, были забыты. Чудесные видения породило его воображение, он описывал их так, словно все это происходило у него на глазах. Под конец, увлеченный красочными образами, возникшими из тьмы, он громовым голосом принялся скандировать стихи Корана, словно желая запечатлеть их золотыми буквами на челе ночи.
Внезапно он умолк. Слезы текли по его смуглому лицу, он и не пытался скрыть их от учеников. Когда, очнувшись от своего ослепления, ученики стали наконец задавать ему вопросы, Буалем воззрился на них потерянным взглядом, разглядывая каждого по очереди, будто не узнавая. Затем ответил тусклым голосом: какое отношение могут иметь низменные вопросы относительно числа верующих или изучения Корана к тем достославным видениям, что явились его потрясенному взору и глубоко взволновали его сердце? Сам он уже воспарил над этой бренной землей, где следует пересчитывать людей и заставлять их при помощи ударов линейкой внимать слову творца.
Ученики сочли его равнодушие следствием усталости и перестали докучать ему. Затем слово взял учитель.
Но больше всего Буалема ужасал неясный страх, от которого ему никак не удавалось избавиться, ибо на этот раз урок учителя не оказал на него должного воздействия. Прежде слова Гима увлекали его, точно морская волна, которая, захлестывая, баюкала, очищала от всех сомнений и тревог. А теперь – никакого утешения.
Буалем вышел на улицы города с таким чувством, словно его прибило одного к берегу пустынного острова. Он делал ставку на обещанную надежду, уверовав с закрытыми глазами в платежеспособность поручителя. Его не следовало держать в постоянной боевой готовности, он – неусыпный страж – сам поддался теперь сомнениям.
Сомнение зародилось в его душе после первых же слов учителя. Ведь он, Буалем, знал, что торжествующий глагол был гласом вопиющего в пустыне. И, по мере того как учеников охватывал восторг, он изо всех сил пытался подавить теснившиеся у него в мозгу вопросы, но безуспешно: снова и снова одолевало ненасытное сомнение. И теперь оно, словно приноравливаясь к ритму его шагов по улице Дидуша, поставило последний вопрос: а что, если творец просто-напросто надул его?
Эта кощунственная мысль преследовала его как наваждение, и он очнулся только тогда, когда заметил, что очутился перед отелем Амалии. Он понятия не имел, каким образом ноги сами привели его туда, и быстро стал искать благовидный предлог, убедив себя в конце концов, что пришел за документами, которые когда-нибудь могут понадобиться ученикам. Но Амалия ушла куда-то с Сержем, и никто не знал, когда она вернется. Буалема мучили угрызения совести, и в то же время он был зол, только не знал в точности, на кого. По счастью, у него оставалась надежная гавань.
Быть может, то, чего не могло свершить утратившее свою непререкаемость слово учителя, смогут осуществить толстые, надежные стены его родного дома… Буалем бросился туда.
Он оторвал жену от стирки, над которой та усердствовала, и, сам не зная почему, начал ей долго и нудно рассказывать о благодати, снизошедшей на женщин с той минуты, как пророк освободил их от рабства и невежества. Хайра растерянно смотрела на него: ведь обычно Буалем адресовал ей всего несколько коротких слов – молитвы, книги, собрания с братьями или в редакции заполняли все его время. А ночью он избавлялся от своей неистовой ярости, как от плевка.
Когда он умолк, оба они старались не глядеть друг на друга. Хайра торопилась вернуться к стирке, но в то же время чувствовала, что следовало что-то сказать, но что именно – она не знала. Она мучительно искала, но, так ничего и не придумав, пустилась в разговоры с таким чувством, как будто бросилась в воду. Главное – говорить, говорить без умолку, не дать опуститься пелене молчания, в которой они рискуют увязнуть вновь, снова обреченные каждый на безысходное одиночество.
Она принялась перечислять день за днем, которые впервые после свадьбы ей довелось провести одной. Рассказывала о болезни младшего сына, о бесконечных очередях в диспансере, о том, как она ходила за овощами, о переполненных троллейбусах. Хайра не осмелилась ему сказать, что в первые дни ей было страшно, но что потом она быстро освоилась и ей понравились эти необычные дни, когда она вдруг почувствовала, что существует… без него, сама по себе.
Глядя на нее, Буалем, к величайшему своему удивлению, понял, что видит ее впервые. До сих пор он делал ей детей: для этого он на ней и женился. Для этого и еще ради сердечного покоя, но он никогда не видел по-настоящему ни ее пучка, скрученного наспех на затылке, ни ее потрескавшихся от частых стирок рук, ни широкого платья, делавшего бесформенной ее фигуру, никогда не слышал ее пронзительного, воинственного голоса. Откуда у нее это и почему?
Вся горечь мира скопилась в этих коротких, режущих слух фразах, она ложилась тяжелыми, плотными слоями, не оставляя места для отдохновения, любви или забвения: мир гадок, несчастье неотвязно, и никакого просвета, чтобы просочился хоть краешек голубого неба.
Впервые Буалем почувствовал, как давят на него толстые стены дома, пахнувшие зимой сыростью, тягостный сумрак комнат без окон, где солнце останавливается у порога, маленькие двери, выходящие во внутренний дворик (все, кроме одной, но и она служила заслоном от внешнего мира: ведший к ней коридор с изгибом не давал проникать в помещение солнцу, ветру и брызгам дождя).
Буалем испугался. Он не стал прерывать монотонного звучания скрипучего голоса и, не дожидаясь, пока он смолкнет, бросился к двери.
Буалем шел к морю, словно отправляясь в неведомые края: он ни разу не был на пляже, никогда не удил рыбу, не садился на пароход, не плавал на лодке, но тешил себя надеждой, что уж там-то, на море, взгляд его не встретит преград, а на морском ветру легкие его смогут вздохнуть свободно.
Шум города стихал. От ветра покалывало кожу.
Встав лицом к морю, Буалем начал читать стихи Корана – самое верное средство против тревоги, страха и всякой порчи; затем, увлеченный их ритмом, неуловимо сочетавшимся с мерными ударами волн о скалы, продекламировал целую суру.
– Спасибо, брат!
Буалем увидел рыбака, появившегося из-за скалы с удочкой в руках.
– Извини, – сказал он, – я тебя не заметил. Должно быть, я распугал всю рыбу.
– Я здесь не из-за рыбы. Просто не люблю кафе, а дома, сам знаешь, жена, детишки. У меня их семеро. И живем мы вдевятером в однокомнатной квартирке.
Буалем провел с рыбаком большую часть ночи. Когда они возвращались, первые грузовики, направлявшиеся на рынок, уже неслись по шоссе со страшным грохотом и скрежетом.
Буалем снова зашел в отель, но Амалия так и не вернулась. Он наугад стал бродить по улицам, почти пустым в этот час. Шагая, он твердил про себя: «В „Тамтам“ я сегодня вечером не пойду». Потом вдруг передумал: не следует позволять безбожникам строить козни вокруг нефти мусульман – и решил все же пойти туда.
Было уже поздно, когда Мурад вышел из бара.
– Я возьму тебе такси, – сказала Суад.
– Не надо мне такси. Мне нужен шофер старой англичанки.
Послышались смешки.
– Позвони ему. Вот его номер.
Когда Суад набрала номер, ей, к величайшему ее удивлению, ответили.
– Это вы шофер старой англичанки?
– С ней что-нибудь случилось?
– Нет, я просто хотела попросить вас отвезти одного приятеля. Он выпил лишнего.
– Так ты думаешь, что шофер старой англичанки готов служить всяким пьянчужкам, вроде вас?
– Передай ему, что это для меня, – попросил Мурад.
– Так бы и говорили, – сказал шофер. – Ждите, сейчас приеду.
Вскоре у входа остановился голубой «опель». Бежавший следом за ним пес тоже встал и следил за ними издалека.
– В Зеральду, – заявил Мурад.
Суад попробовала урезонить его:
– Что тебе делать в Зеральде в такой поздний час? Если хочешь попасть завтра на самолет, ступай домой и ложись спать.
Она повернулась к шоферу:
– Отвезите его, пожалуйста, в Баб эль-Уэд. Он скажет вам адрес.
– Так Баб эль-Уэд или Зеральда? – спросил шофер.
– Зеральда, – сказал Мурад.
Шофер открыл дверцу, но тут же захлопнул ее.
– Ты садись, а его не возьму.
– Он симпатяга, – сказал Мурад.
– Я не беру в машину собак.
– Это не собака, это Пабло.
Мурад открыл дверцу, и пес влез в машину.
– Если он напачкает здесь, с тебя пять тысяч франков.
На улицах города было пусто.
– Ты прав, – заметил шофер, – после пустыни самое лучшее для тебя – искупаться в море. Только надо бы дождаться дня.
– Завтра я улетаю.
– И ты едешь в Зеральду? Это уж слишком. В таком случае поедем берегом, морской воздух тебя освежит.
После Баб эль-Уэда дорога, окаймленная кое-где пальмами, вьется вдоль побережья между двумя рядами дачек. Купаясь в лунном свете, «опель» пробирался сквозь шелест пальм, раскачивающихся на ветру, словно огромные веера.
– Многовато ты выпил перед отъездом. Что-нибудь не так?
Мурад поглаживал Пабло, лежавшего на заднем сиденье.
– Хочешь послушать музыку?
Шофер нажал кнопки на щитке. Раздалось шипение, потом треск, но радио безмолвствовало.
– Одна мерзость, эти консервные банки.
– Ты едешь без фар? – спросил Мурад.
– Сгорели. К счастью, при такой луне все видно, как ясным днем. Лунный свет – вещь хорошая для шоферов.
Он едва успел нажать на тормозную педаль, чуть не наскочив на медленно ехавшую впереди машину, которую он не заметил. Женщина с испуганным криком оторвалась от губ водителя.
– Для шоферов… и для влюбленных, – сказал шофер.
– Ты влюблен? – спросил Мурад.
– У меня девять ребятишек… и это не считая матери.
– Ну и что?
– Ты женат?
– Нет.
– Оно и видно.
На подъезде к Зеральде они свернули с шоссе на узкую грунтовую дорогу, идущую к пляжу меж сосен.
– Полночное купание? – спросил шофер. – Ну и артист же ты, ничего не скажешь.
– Я не буду купаться.
– Нет?
– Остановись возле «Сан-Суси».
– А-а, так, значит, танцевать? Да ты на ногах не стоишь. Ступай лучше на пляж.
Мурад вышел из машины.
– Поторопитесь, – сказал посыльный, – через час мы закрываемся.
Он помог Мураду подняться по ступенькам к красной двери.
– Подожди меня, – сказал Мурад шоферу, – я вернусь через час.
Волна красной музыки подхватила его от самого порога. Средь густого дыма, наполнявшего зал, пары, казалось, плавали. Они изображали фигуры некоего фантастического балета. Когда танцующие попадали в полосу красного света, лившегося из-за оркестра, их лица становились мертвенно-бледными.
Мурад сел за столик, где никого не было.
Гарсон, тоже красный, что-то шептал ему на ухо.
– Виски, двойную порцию, – сказал Мурад.
Светловолосая женщина пела по-английски.
– Все они шлюхи!
– Что вы сказали? – спросил гарсон.
– Принесите мне целую бутылку.
Музыка обволакивала Мурада. Она лезла ему в уши и мешала думать о другом. Временами ритм ее замедлялся, и она становилась томной. Мураду не терпелось, чтобы она поскорее кончилась, чтобы снова звенела медь и били барабаны, оглушавшие его. Он останется здесь до скончания веков. Будет играть музыка, и мертвенно-бледные призраки все так же будут скользить в полумраке, изображая причудливые фигуры. А если вдруг на него нахлынут ненужные воспоминания – взвоют медные трубы или же красный гарсон наполнит его опустевший стакан. В голове Мурада все перемешалось, кружась: музыка, танцоры, Буалем и Амайас, Ахитагель с матерью и Ба Салем.
– Месье, вызвать такси?
Мурад с трудом очнулся, узнав голос красного гарсона. Он открыл глаза. Зал был наполовину пуст. Гарсон помог ему встать. Волна танцоров понесла его к выходу. У него было такое ощущение, будто он плывет. На улице ветер с моря, словно влажная салфетка, облепил ему лицо. Он остался стоять на самом верху лестницы, отыскивая глазами голубой «опель». На стоянке поблескивали хромированные части автомашин. Мурад хотел окликнуть шофера, но сообразил, что не знает его имени. Тогда он стал кричать: «Такси!»
– Он уехал, месье, – сказал посыльный, – хотя я кричал ему, чтобы он подождал вас.
– Пускай идет к чертовой матери, – сказал Мурад. – Такси!
– Я найду вам другое, – сказал шофер.
– К чертовой матери. Скажи ему, что я на пляже.
Сняв ботинки, он пошел к морю. Вдалеке огромным черным шаром маячила на фоне неба роща мастиковых деревьев, где они останавливались с Амалией. Мурад подошел поближе к воде: по мокрому песку идти было намного легче. Гуляки разъехались, сопровождаемые вакханалией ревущих моторов, на дороге и на пляже не осталось ни души. Посыльный издалека кричал что-то, но слов Мурад разобрать не мог. На песок к его ногам хлопьями ложилась белая пена.
– Такси!
– Там, где вы находитесь, – крикнул посыльный, – вам скорее нужна лодка.
До Мурада долетел смех посыльного, потом сразу же послышались смешки, доносившиеся с пляжа. Мурад пошел в ту сторону. Временами морская волна накатывала, шурша, словно шелк, наполняла следы, оставленные босыми ногами Мурада, затем отступала, а песок пил воду.
– Такси!
На этот раз смех раздался совсем рядом. Он чуть было не наткнулся на два лежащих тела, не заметив их. Попробовал обойти, но споткнулся и растянулся во всю длину, упав на женщину, не перестававшую смеяться.
– Вы меня задушите.
Мурад попытался подняться.
– Жизнь прекрасна, – сказала со смехом женщина.
Волосы, которые ветер разметал по ее плечам, походили на водоросли. При сильных порывах они попадали Мураду в рот, и ему приходилось дуть, чтобы отбросить их в сторону. В то же время он чувствовал, как ноги его все глубже погружаются в мягкий песок, вода потихоньку обходила их, иногда касаясь, потом прохладный поцелуй стирался, и Мурад ждал следующего.
– Решил тут заночевать? – раздался хриплый голос мужчины.
– Иди ты к черту, – сказал Мурад.
Женщина засмеялась.
– И тебя, Амалия, тоже к черту.
Оба они разом вскочили, затем Амалия наклонилась:
– Мурад! Да ты насквозь промок! Ты простудишься. Пошли!
– Машина рядом, – сказал Серж.
– Это редакционная, – добавила Амалия.
Посыльный пришел сказать, что нашел такси.
– Это как раз ваше. Водитель вернулся.
– Я ездил на заправку. В такое время это не так просто. Не слишком долго пришлось ждать?
Солнце еще не встало. Народу на аэродроме было немного. Камель издали заметил голубую косынку Амалии. Ее провожали Серж, Суад и Буалем.
– А Мурад? – спросила она.
– Думаю, сейчас придет, – сказала Суад, – вчера он был хорош.
– Мы только что расстались с ним.
– Где, у него дома?
– В Зеральде, на пляже.
– И вы не взяли его с собой?
– Он еще не протрезвел и хотел во что бы то ни стало ехать на такси.
– Он опоздает на самолет.
– Явится, как всегда, в последнюю минуту, – заметил Камель.
– Внимание…
Это был самолет Амалии.
– Вот ваши бумаги, – сказал Серж.
Они вместе направились к выходу на посадку.
– А теперь куда? – спросил шофер.
– В Баб эль-Уэд. Возьму чемодан и сразу – в Мэзон-Бланш, и никому ничего.








