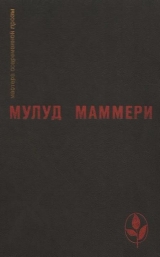
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Через пустыню
(Роман)

Они хотели настоящей, большой жизни – большой, настоящей жизни для всех, ну а уж если это невозможно, то хотя бы для самих себя: ведь с чего-то надо начинать. Но какой она должна быть, эта большая, настоящая жизнь, поначалу никто толком не знал. Однако потом самые старые стали припоминать, какую жизнь вели в былые времена европейцы, а самые молодые предпочитали постигать ее в кино или по телевизору. Что же это означало? Пить, танцевать, приобретать большие игрушки, притворяться, будто не ревнуешь свою жену, ибо настоящая, большая жизнь – это, конечно, хорошо, но не могли же они вести ее в обществе замызганных, неграмотных крестьянок, служивших им до той поры супругами, на которых они вымещали свои невзгоды. Поэтому после войны все они, один за другим, развелись, чтобы взять себе в жены напомаженных буржуазок с вытравленными перекисью волосами, увешанных драгоценностями и умеющих говорить по-французски грассируя; а наиболее удачливые или же опрометчивые женились на европейках, так как им в свое время довелось много путешествовать по белу свету во имя общего дела.
Конечно, немало хлопот доставляли те, кто не попал в круг избранных, у кого не было ни виски, ни белокурых грассирующих супруг, ни светских развлечений. А они столько раз слышали о том, что рай уготован для всех, и сдуру поверили в это, решив ломиться в закрытые двери изо всех сил – так, чего доброго, в один прекрасный день двери могут не выдержать. Вот мерзавцы! Они это нарочно? Хотя, вполне возможно, они попросту не отдают себе отчета, не понимают, что если они и дальше будут так напирать, то двери в самом деле не выдержат и раю придет конец. Но что они выиграют, эти глупцы, если уничтожат рай? Ведь в любом случае все туда войти не могут, место ограничено, а они плодят детей, как мух.
Время от времени избранники, заранее все рассчитав, приоткрывают дверь и впускают горстку, но протискиваются-то всегда самые ушлые, они в конечном счете остаются в выигрыше, потому что вновь приобщившиеся становятся впоследствии самыми ревностными хранителями заветной двери. Случалось, правда, что по недосмотру туда проникал какой-нибудь карась-идеалист, вроде Мурада, и тогда чувствовалось приближение конца света, потому что вместе с таким гнусным типом обязательно ворвется немного вольного ветра, а уж от вольного ветра всего можно ждать. Торопись радоваться жизни, глупец! И жить-то тебе осталось всего каких-нибудь двадцать лет, так стоит ли портить их ребяческими бреднями? Романтика после того, как тебе минуло пятнадцать, – да это попахивает безумием. Если вино и женщины не могут избавить тебя от того недуга, есть психиатры, если же и они ничем не в силах тебе помочь, значит, ты неизлечим, у тебя проказа. А для прокаженных существуют лепрозории, ступай туда – таких, как ты, там тьма-тьмущая, вот и травите друг другу души всласть целыми днями и даже ночи напролет, пока не сгинете вдали от этого рая, который внушал вам такое отвращение.
Мурад все это знал (Камель, директор «Альже-Революсьон», был в этом уверен) и тем не менее бросил на стол свое заявление об уходе из газеты. Ну когда, когда, наконец, Мурад перестанет смешивать революционную повседневность с душевными переживаниями?
На столе Мурада лежал билет на самолет: Алжир – Париж, только туда, обратного не было. Мурад собирался лететь через месяц. Тридцать дней – срок недолгий, к тому же двадцать пять из них уйдет на путешествие с Амалией в Таманрассет. Собственно, пора уже вести обратный отсчет: двадцать девять, двадцать восемь… пятнадцать… три, потом два, а там, глядишь, один, и все – конец! Да взять любую жизнь – это всегда обратный отсчет: самый первый крик, который еще прежде, чем перерезана пуповина, вонзает вас, словно занозу, в окружающий мир, является в то же время первой отметиной, первым шагом на пути к окончательному исходу. И все-таки никогда прежде Мураду не доводилось ощущать это так остро и зримо, как теперь.
Когда он бросил на стол маленький голубой конверт, Камель сказал:
– Ты устал. Мы все немного взвинчены. Самое лучшее для тебя – провести месяц в Сахаре, отдохнуть хорошенько. А до тех пор будет время подумать.
Он и так уже все передумал.
Ребята начнут полоскать его: «Париж? Ну конечно! Нечего нам мозги пудрить, и так все ясно. Значит, Париж? Ну что ж, счастливого пути! Поезжай, развейся! Мы на тебя не в обиде: через несколько месяцев или через несколько лет ты все равно вернешься, отбросив всякий стыд и позабыв о гордыне, без лишних эмоций, но и без иллюзий, ведь там-то ты что собой будешь представлять? Ровным счетом ничего! Безработица, инфляция, темноглазые собратья, всеобщий страх, к которому примешивается твой собственный, будут преследовать тебя по пятам, загонят в самый дальний угол отведенной для таких, как ты, резервации, и напрасны будут твои мольбы о помощи – их никто не услышит, здесь к тому времени тебя забудут!»
Да, все это ребята станут говорить вслух, «на публику». Но в глубине души будут надеяться, а то, чего доброго, и потребуют, чтобы Мурад забрал свое заявление обратно, ибо в сокровенных тайниках их сердец затаился страх, они, должно быть, боятся, как бы его отъезд не пробудил в их душе все те голоса, которые они всеми силами пытаются заглушить. Если в понедельник или, еще лучше, в тот же вечер он вернется к ним с какой-нибудь чепуховой заметкой на пятнадцать строк, они готовы будут устроить праздник по этому поводу. Слава тебе господи! Голод, страх или малодушие заставили блудного сына вернуться к привычной кормушке. Это свидетельствует о том, что у него нет другого выхода. Несостоявшийся уход – это всего лишь мимолетное заблуждение, ошибка. А истина – в кормушке.
Но приятели ошибались. Если исходить из этого, то Мурад с таким же успехом мог бы жениться, наплодить, подобно другим, детей и, как все другие, бросить их на улицу, не обращая внимания на истошные крики матери, у которой бесконечные беременности, пеленки, ежедневный кускус и неизменное покрывало, сросшееся с ее кожей, потому что она не могла показаться с открытым лицом на улице, убили все мечты задолго до того, как истощилась ее жизнь. В тридцать лет она превратится в женщину без возраста… без лица… останется только бессильная ярость в голосе, срывающемся на пронзительных нотах, когда она исступленно будет звать своих сыновей: едва дождавшись рассвета, они спешат за порог, который сама она не смеет переступить и которому до самой смерти суждено стоять неодолимой преградой между нею и жизнью; подумать только, в четыре года они уже умеют презирать, быть жестокими, гнусными, как и полагается мужчинам.
Мурад мог бы поступить в какое-нибудь министерство, работать там на совесть или брать взятки, ловить рыбку в мутной воде или просто на удочку, слоняться без дела по улицам, вообще жить, любить… только бы убить время, заполнить пустоту, – но все это ему было не по вкусу.
У него оставалось немногим больше месяца, чтобы разделаться с последними долгами: принять в редакции двух шибко независимых представителей Квебека, направленных сюда партией, съездить – чистая слабость! – в деревню попрощаться с матерью и, главное, совершить путешествие в Сахару вместе с Амалией, которой газета, где она работает, поручила подготовить материалы о нефтедобыче. К моменту их возвращения Амалия завершит переход через пустыню, а в его жизни закончится переходный этап. Затем они отправятся в путь, быть может, даже на одном самолете: она – возвращаясь в родные края, он – покидая родину.
И причиной тому – ничтожное происшествие. На этой неделе нечего было ставить в номер на полосу, посвященную культурной жизни (за эту рубрику отвечал Мурад), но так бывало не раз.
Если в этой области на территории республики ничего не происходило, то Мурад-то тут ни при чем. Выход из положения обычно находили, обращаясь к зарубежным событиям: просто невероятно, сколько всего происходило за одну только неделю за границей. Однако в последнее время в газету все чаще стали приходить письма вроде этого: «Я ничего не имею против Маркизских островов, но почему вы не пишете о том, что происходит у нас?»
И на сей раз Камель был непреклонен:
– Мне нужен многотомный роман о какой-нибудь выставке марионеток, но только непременно наших, и никаких пятнадцати строк, пусть даже гениальных, о последнем фильме Феллини.
– Очень мило, – сказал Мурад, – только не могу же я сам выдумать какое-нибудь событие.
– Придется обратиться к запаснику, – заметил Серж.
Запасником, или, как его еще называли в газете, Гимом, был Джамель Стамбули; в редакционном портфеле всегда имелись на случай острой необходимости одна-две его статьи. С Джамелем можно было жить спокойно. Ну, прежде всего, каждому было ясно, что его статьи читались лишь небольшим числом рьяных поклонников да некоторыми иностранцами: по причине высоких материй, о которых там шла речь, средний читатель сразу терялся. Гим – это было сокращение от прозвища Гигант Мысли. Джамель это знал и нисколько не обижался; он сам говорил, что пишет для the happy few[86]86
Избранные (англ.).
[Закрыть], что же касается остальных… Широким жестом он решительно отметал их.
Гим пользовался методом шаманов: приобщал своих читателей к таинству транса. Его выводили из себя мелочные, как он презрительно именовал их, доказательства. Сам он шел к цели напрямик, не давая опомниться ни себе, ни читателям. Мир Гима был сродни колдовским заклинаниям и изобиловал смелыми определениями. Почта, которая приходила на каждую из его статей, делилась на две равные части, уподобляясь добру и злу в манихействе: часть писем выражала яростное возмущение, другая – столь же ярое почитание, все остальное исключалось.
В последнее время восторг его почитателей граничил с исступленным безумием, ибо Гим начал писать в новой манере. Мурад как-то сказал ему, что он ставит своих читателей перед чересчур суровым выбором: либо полное неприятие, либо безусловная капитуляция, поэтому Гим счел необходимым пойти на некоторые уступки, отдавая дань переменчивой моде. Он слыл властителем дум кучки интегристов. Ему было известно, что те, кого он с напускной снисходительностью и недвусмысленной завистью называл западниками, втайне посмеивались над ним, стоило ему оказаться среди них. Они упрекали его в небрежении к истине, весьма поверхностном уважении научных данных и даже в отсутствии элементарного здравого смысла.
Тогда Гим набросился на книги. В трудах, популяризующих новейшие теории, он с жадностью черпал то, что, как ему казалось, подтверждало Истину, ключ к которой, в любом случае, держал в своих руках он, Джамель. С этого момента он стал пересыпать свои статьи набором всевозможных формул, уравнений, диаграмм, которые его приверженцы в упоении заучивали наизусть, тайком передавая друг другу из рук в руки.
Для Камеля же главное достоинство статей Гима заключалось в том, что на них полностью можно было положиться. Творения Гима казались на первый взгляд неистовыми, но утверждавшиеся там положения не вызывали ни малейших сомнений, являя собой нагромождение бесспорных, привычных понятий: аутентичность, специфичность, революция, демократия (причем настоящая, а не какая-нибудь там формальная демократия так называемых либеральных систем правления), народные массы (чьи помыслы находили всякий раз свое выражение в текстах, написанных Гимом). К тому же Джамель умел обходить стороной такое затасканное понятие, как арабо-исламская сущность. Пески у него обычно лишь создавали видимость движения: в творениях Гима можно было плавать, испытывая иногда качку, но всегда в безопасности, под надежным присмотром.
По любому поводу Гим готов был цитировать Коран, Аверроэса, которого он именовал Ибн Рошд, Ибн Халдуна, величайшего социолога всех времен, Маркса, Мао, иногда Маркузе и почти всегда Ленина. В результате в редакции газеты пришли к выводу, что это и есть выражение исламского социализма, а так как никто толком не знал, что же на самом деле представляет собой исламский социализм, все были признательны Гиму за то, что он-то, по всей видимости, знал это – ну что ж, пускай хоть он.
Мурад и на этот раз принес на всякий случай текст Джамеля, который давно уже дожидался своего часа.
Как обычно, читать статью было поручено Суад. Ей нравились заклинания Гима. Своим красивым голосом она принялась модулировать фразы. Суад знаком был не только их ритм, но и то, из чего они сотканы: душа, специфика собственного Я приравнивались там к половине mV2[87]87
В классической механике кинетическая энергия материальной точки массы m, движущейся со скоростью v, равна ½ mv.
[Закрыть]. Остальные покорно слушали привычную музыку, не препятствуя плавному течению прибывающей воды в уэде. «Должны ли мы следовать далее по предначертанному пути, внося свою лепту в поиски некоего грааля, предвещающего расцвет человеческой личности посредством полифонического звучания, или погрязнуть в хитросплетениях западной речи, довольствуясь убогими эрзацами, которые преподносит нам жалкий слепок Запада? That is the question[88]88
Вот в чем вопрос (англ.).
[Закрыть]».
Последние слова Суад произнесла, млея от восторга.
– И это все? – спросил Камель.
– Тут еще четыре или пять строк… «Суровый климат Запада, способствуя затуманиванию умов, порождал обскурантизм, словно отражаясь в диалектическом зерцале, и тогда над мусульманской Испанией запылали тысячи огней Weltkultur[89]89
Мировая культура (нем.).
[Закрыть], гораздо более специфической в своей универсальности, чем универсальной в своей специфике». Теперь все.
– Наконец-то, – с облегчением вздохнул Камель.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Буалем.
Буалем принадлежал к числу посвященных, которые два раза в неделю собирались на квартире у Гима слушать его лекции относительно развития исламской мысли.
– Fog[90]90
Туман (англ.).
[Закрыть] и сироп с миндальным молоком, вот это что. Как, спрашивается, читатели могут переварить такое?
– Ничего другого у меня нет, – сказал в ответ Мурад.
– Тогда напиши сам.
– Да ничего не происходит, новостей никаких нет.
– И не надо! Напиши основополагающую статью, нечто такое, что заставило бы читателей встряхнуться, вывело бы их из повседневной тягомотины, это им пойдет на пользу.
– Вы не успеете прочитать.
– Примем на веру… если, конечно, тебе не вздумается выступить с призывом к убийству.
Вошла секретарша.
– Что мне делать с канадцами? Они уже целый час ждут у тебя в кабинете, – сказала она, глядя на Мурада.
– Сейчас иду.
Он встал. Общественные связи тоже входили в круг его обязанностей.
– А со статьей я что-нибудь придумаю, – сказал он на прощанье, – в любом случае принесу ее завтра в типографию.
Дверь в его кабинет была открыта.
– Извините меня, ребята, я вас сейчас не ждал.
– Ничего, – сказал в ответ тот, что был поменьше ростом, интеллигентного вида (другой тем временем сосредоточенно разглядывал паркет). – Если вы заняты, мы можем зайти в другой раз.
– Ни в коем случае, – запротестовал Мурад. – Здесь ведь редакция газеты «Альже-Революсьон»… Итак, чем мы можем вам помочь?
– Так вот. Его зовут Лонгваль. Меня – Принц. Мы оба сторонники независимости Квебека, вы, наверное, это знаете?
– Да, знаю, – сказал Мурад.
– Мы приехали в Алжир, потому что являемся представителями революционно-освободительного движения.
– Так же, как и мы.
– Вот именно… как вы.
– С жильем вам удалось устроиться?
Мурад подождал, но Принц как будто не слышал вопроса.
– Где вы живете? – продолжал настаивать Мурад.
– Дело не в этом.
– А в чем?
– Нам нужна работа.
В словах Принца ощущался запах земли, восемь месяцев утопающей в снегу. Только полярные льды способны были сохранить этот аромат древней земли, где некогда жили его предки.
– Ваша профессия? – спросил Мурад.
– У меня диплом химика.
– А у вас?
Лонгваль, бессильно опустив плечи, по-прежнему, не отрываясь, глядел в одну какую-то точку на полу.
– Он механик, – сказал Принц, – умеет мастерить разные механизмы… Понимаете?
– Понимаю, – сказал Мурад.
– И вот мы решили между собой: Алжир – это фён[91]91
Теплый и сухой ветер, дующий с гор.
[Закрыть]! Это страна социализма… А в социалистической стране существует право на труд. Но когда приехали, то увидели: у многих алжирцев у самих нет работы.
– В любой слаборазвитой стране рабочих рук всегда больше, чем работы. Видите ли, здесь не Канада.
– В Канаде есть работа, но мы не могли там оставаться, потому что… потому что не знали, что нас ждет.
Принц стал оглядываться по сторонам, словно ища что-то.
– Мы не знали…
– Мы знали, – послышался невыразительный голос Лонгваля.
Он помолчал немного.
– Нас ждала смерть.
Голос Лонгваля звучал печально:
– Смерть – от нее не убежишь, но до этого хотелось бы успеть что-то сделать.
Затрещал телефон. Словно автоматная очередь. Мурад снял трубку.
– Я уже знаю, спасибо. Амалия прилетит завтра в Мэзон-Бланш[92]92
Аэропорт в пригороде Алжира.
[Закрыть]… Да, я встречу ее… Извините, – сказал Мурад, опять повернувшись к канадцам. – Скажите, а партия субсидирует вас?
– Мы только месяц как приехали, – заметил Принц.
– Да и потом… – прервал его Лонгваль, но тут же умолк, словно ждал чьей-то подсказки.
Мурад готов был закричать, чтобы заставить Лонгваля оторвать взгляд от гвоздя, приковавшего его глаза к полу.
– Алжир, – продолжал Принц, – ведет в настоящее время переговоры о продаже газа Канаде. В партии нам советовали подождать.
– Да, вы попали в неудачный момент.
Мурад тотчас же пожалел о своих словах.
– Мы подумали, – снова раздался глухой голос Лонгваля…
– Да, – подхватил Принц, – мы подумали, что выход все-таки можно найти.
– Разумеется, – сказал Мурад.
– Если бы нам попросить, например, политическое убежище…
– То мы могли бы получить права, – закончил его мысль Лонгваль.
Мурад глянул на них и только теперь понял, что у них, как говорится, молоко еще на губах не обсохло.
– Сколько же вам лет?
Они посмотрели друг на друга.
– Ему двадцать три, а мне на год меньше.
Гнев Мурада сразу угас. Им вместе было почти столько же, сколько ему, да и потом, что ни говори, они шли на определенный риск.
– Я не юрист, но на вашем месте я поискал бы что-нибудь другое.
– Вы полагаете?..
– Я в этом уверен.
– Тогда, – сказал Лонгваль, глядя на Принца, – мы исчерпали алжирские возможности.
– Подождите, – молвил Мурад, – переговоры относительно газа подходят к концу. При партии существует комиссия по вопросам освободительных движений…
– Остается только один выход, – сказал, словно не слыша его, Лонгваль.
– Да? – оживился Мурад. – Какой же?
– Куба.
То был не вызов – скорее безропотная констатация факта.
– Вам предлагали что-нибудь конкретное, или это просто идея?
– Мы были в здешнем посольстве. Мы сказали: вы принимаете у себя Черных пантер[93]93
«Черные пантеры» – антирасистское негритянское движение, возникшее в США в 1966 г. в штате Алабама.
[Закрыть], вы набираете добровольцев на сбор сахарного тростника, вы…
– И что же вам ответили?
– Первый секретарь обещал связаться с Гаваной.
В сердце Мурада образовалась пустота.
Первый секретарь? Ну конечно! Затем – советник, начальник канцелярии, посол, запрос в Гавану, ответ через неделю: заходите, там видно будет. Но через неделю никакого ответа не будет. Придется зайти через две, через десять недель, через год или ко второму пришествию! А после второго пришествия все начнется сначала: заполните анкету – фамилия, имя, дата и место рождения, цель визита (уточните!), час… ну и прочая чертовщина.
О, рыцари призрачных иллюзий, чересчур легковесных для нашей бренной земли, ступайте прочь со своим зачарованным взором. Предоставьте взрослым играть в эти жестокие игры.
Неужели не ясно, что вы со своими потусторонними видениями и привкусом рая, застрявшим у вас в горле, словно кость, которую нельзя ни проглотить, ни выплюнуть, вы только мешаете игре. Чтобы постичь ее правила, вам понадобится вся жизнь, на это уйдет весь ваш земной путь до самой могилы. Другие игроки окажутся проворнее и понятливее. Так что живее! Прочь с арены! Коррида взрослых не знает пощады. Социализм? Право на труд? Сахарный тростник? Нет, вы только вообразите… А почему бы уж тогда не Дед Мороз или фея Мелузина?
– Как раз об этом мы и хотели с вами поговорить.
Мурад очнулся:
– А? Да… Чем я могу помочь?
На этот раз ответил Лонгваль:
– Вчера нас задержали жандармы.
– Жандармы? Почему?
– Они спросили у нас документы.
– А у вас их нет?
– Они на неделю просрочены.
Вот так-то, Принц. Ибо мир взрослых – это не воскресная прогулка, он четко разграничен, размечен, на всех перекрестках стоят ловушки с жандармами, которые все контролируют, а иначе до чего бы мы докатились? А вы, стало быть, вообразили, что можно беспрепятственно бродить по белу свету, куда вам вздумается, без всяких ограничений, без надлежащих документов, без ярлыка и желтой звезды? Как дикари! Но время симпатичных дикарей миновало. Оно недолговечно, ему отмерен срок – пока длится революция. Потом все приходит в норму, наступает время законов, заграждений на дорогах, время пропусков и жидкой похлебки. Ибо, если говорить о рае, то есть те, кто к нему стремится, и те, кто в него попадает, и никогда это не бывают одни и те же люди… туда попадают одни только карьеристы.
Мурад подумал: им надо все растолковывать, как детям. Он повернулся к Принцу:
– Вам грозила тюрьма.
– Мы там пробыли всего четыре дня.
– Как!
– На четвертый день мы пообещали, что продлим визы.
– Вы это сделали?
– Видите ли…
– Нужна марка, которая стоит пятьдесят динаров, – сказал Лонгваль.
– А у вас их нет?
– У нас нет работы.
Сказка про белого бычка. Чтобы иметь возможность передвигаться, нужна виза, чтобы получить визу, нужны деньги, чтобы получить деньги, нужна работа, а чтобы работать, нужно иметь возможность передвигаться… Голова идет кругом.
Это напомнило Мураду историю с кабаном в его родной деревне, когда сам он был еще совсем маленьким. Вместе с матерью Мурад собирал оливки. Оливковые посадки находились далеко от деревни, на другом берегу реки, возле леса. И там-то Мурад увидел, как из дубовой рощи выкатилась приземистая туша кабана, за ним по пятам с лаем мчались собаки. Забыв об оливках, Мурад стал следить за этой бешеной гонкой. Раздвигая острым рылом кусты, кабан то появлялся, то вновь исчезал. Казалось, будто он играет в прятки со сворой собак. Неистовый лай все теснее сжимал его в кольцо, перекрывая хриплое хрюканье выбившегося из сил зверя. Под конец Мурад увидел, как кабан с бешеной скоростью обежал вокруг источника Акбалу. Сухой треск выстрела… Кабан рухнул возле самого источника. Мурад, рыдая, упал на землю. Звонкая материнская затрещина подняла его на ноги: «Неужели ты, словно девчонка, испугался выстрела?» Конечно! Ведь это в него, Мурада, стрелял охотник.
– У нас нет больше сил кружить по кругу.
Мурад застыл в ожидании выстрела, который должен был положить конец исступленному бегу Принца сквозь заросли лиственниц.
– Вот уже неделя, как мы ночуем в мавританской бане.
– Это недорого, но хозяин требует денег.
Мурад окончательно пришел в себя.
– Вот двести динаров на визу и на гостиницу… а вот ключи от моей квартиры и адрес. Целый месяц вы можете жить у меня. Я отправляюсь в Сахару. Если вы уедете без меня, оставите ключи в почтовом ящике.
– Видите ли… – начал Принц.
– Это все, что я могу для вас сделать. Я не располагаю ни оружием, ни поддельными документами, ни достаточным количеством денег.
– Я об этих двухстах динарах. Если мы не найдем работу, мы не сможем вернуть их вам.
– Вернете, когда Квебек получит независимость.
– Вы к нам приедете?
– Если вы меня пригласите.
– Конечно, пригласим. Вы когда-нибудь пробовали кленовый сок?
– Никогда!
– Приезжайте на рождество. В это время Квебек – фён.
– Спасибо, – сказал Мурад.
– Мы ждем вас, – сказал Принц.
Когда канадцы ушли, было уже поздно. Вскоре после них вышел Мурад. То был момент, когда недолгая горячка овладевает на короткое время улицей Бен Мхиди, прежде чем она так же внезапно опустеет. Принц и Лонгваль бежали друг за другом. Две встречные волны людского потока вылились на проезжую часть улицы. Наверняка среди этих людей есть и такие, кто каждый четверг платит динар за удовольствие приобщиться к волшебным сказкам «Альже-Революсьон». Но среди них не найдется ни одного человека, который, хоть немного пожалев юношей, поднялся бы на ступени Главного почтамта и крикнул им: «Остановитесь! Куда вы… Да очнитесь же, наконец! Бросьте вы эти волшебные сказки в сточную канаву и уезжайте! Не дожидайтесь ответа из Гаваны – все равно не дождетесь!»
Мурад подумал: не следовало мне говорить с канадцами до того, как будет готова статья. Что бы я теперь ни написал, на всем будет отпечаток ледяного припая.
В Баб эль-Уэде он расположился за плетеным столиком. С балкона видны были низкие домики. Чуть подальше – взъерошенный шелк моря. Жидкая похлебка, страница, посвященная вопросам культуры, Гим – все это не столь важно. Главное – иметь возможность бродить в свои двадцать лет на просторе, где-нибудь в березовой роще, вставать на рассвете, занимающемся над миром, и говорить себе: нет, впереди у меня – не смерть.
Вот о чем хотелось бы написать Мураду для читателей своей газеты, но простор, осененный канадскими кленами, – на это читателям его газеты было решительно наплевать. Им хотелось узнать что-нибудь о своих собственных рассветах, занимающихся над зарослями кактусов или над полями альфы – алжирского ковыля. Поди объясни им, что это одно и то же, что между ними и полярными льдами… «Я так давно тебя люблю»… ну и что?
На самом верху чистого листа бумаги Мурад написал: «Ответ из Гаваны». Потом зачеркнул. Это скорее годилось для международного комментария или какого-нибудь сенсационного сообщения. И в том, и в другом случае читатель будет разочарован. Сироп с миндальным молоком? Легко сказать. Вот когда требуется что-нибудь взамен, тут-то и начинается самое смешное.
На фоне темного неба слабо мерцали огни гавани. Волны нашептывали о лете, о пляжах и морском просторе. Ледяным тюрьмам, медленному увязанию в горячих песках море служило контрапунктом, противовесом, олицетворяя собой непрерывное движение, сулящее избавление. Мурад прислушивался: сначала глухой удар, потом более звонкий плеск воды, когда она убегает по камням. Внезапно шум моря привел механизм в действие. Сделать что-то до того, как наступит смерть.
Мурад снова взялся за лист бумаги. Под зачеркнутой строчкой «Ответ из Гаваны» он написал: «Переход через пустыню». Звучит неопределенно и потому внушает доверие. Тем более что никто, кроме Мурада, не услышит за этими словами голос Принца: «Такая огромная ледяная пустыня, нам пришлось пересечь ее…» А у нас – пески, ну и что? Тридцать градусов ниже нуля или плюс сорок четыре в тени, какая разница? Когда Мурад кончил писать, солнце уже давно встало. Он едва успевал отнести статью в типографию: пора было ехать на аэродром встречать Амалию.
Уходя из редакции, Камель чувствовал себя усталым.
– Гидра или Баб эль-Уэд? – спросил шофер.
Камель провел рукой по лбу.
– А? Да… Гидра.
Гидра – это означало Кристина и дети. Баб эль-Уэд – Зинеб, которую Камель взял в жены недавно без ведома Кристины. С Кристиной они поженились во время войны, в Лионе. В Алжир они вернулись в первые дни независимости.
Кристина была в восторге. Бесконечный праздник. Такое солнце способно расплавить все путы протестантского воспитания Кристины. Празднество заполонило улицы Алжира и длилось несколько недель, потом потекли тусклые дни. Кристина знала, что они придут: праздник не может длиться вечно, надо начинать жить. Предстояло все привести в порядок или заново изобретать в этой стране, только что пережившей такую страшную бурю. За эти годы алжирцы разучились радоваться, их одолевали заботы. Все мускулы у них были напряжены, нервы взвинчены.
В течение нескольких недель Кристина держалась с честью. Но постепенно защитная стена, воздвигнутая ею при помощи тех или иных доводов, рушилась. Нападкам не было конца, и предугадать их было невозможно. Слова, жесты, недомолвки в этой стране – все для нее было неожиданностью, и сама она постоянно служила для всех мишенью. В конце концов Кристина стала ощущать, как в ней поднимается глухая ненависть, не оставлявшая места сомнениям и тем более непреодолимая, что она всеми силами безуспешно пыталась подавить ее. И порою прилив ее достигал, по словам Кристины, критической точки. Тогда она покупала билет на самолет в Лион, оставляя детей на Камеля. И каждый раз повторялась одна и та же сцена:
– Зачем ты летишь в Лион?
– Чтобы посмотреть на улицы без ребятишек и увидеть женщин с плоскими животами.
– Ясно!.. А как иначе мы могли бы выстоять в течение ста тридцати лет? Без вспухших животов наших женщин, непрерывно заполнявших образовывавшиеся пустоты, мы давно уже исчезли бы с лица земли.
Из всех доводов Камеля именно этот казался ей самым гнусным. Она думала про себя: «Вот вам, пожалуйста! Он вернулся-таки в лоно своего племени. Не исключено, что он вообще не расставался с ним, и Лион был всего лишь небольшим отступлением».
С нравами племени Кристине довелось познакомиться сразу. После того как они поселились в Алжире, в первый же месяц квартиру буквально затопляли волны то и дело появлявшихся родственников. Они располагались там, словно на отвоеванной территории: ребятишки от одного до двух лет, крикливые женщины, добрая половина которых была беременна, высохшие, как виноградные лозы, старухи. Они заполоняли все, вплоть до ванной комнаты. Кристина натыкалась на них в коридорах, на кухне, в туалете… С ума можно сойти! Вначале она пыталась навести хоть какой-то порядок. Родственники улыбались, соглашаясь с ней, но потом опять начиналась прежняя неразбериха. К тому же Кристина вскоре обнаружила, что неудобство и раздражение от беспорядка испытывала только она, тогда как родственники прекрасно ладили между собой. Они не мешали друг другу на лестнице, им было не тесно вдевятером в гостиной. И в конце концов Кристине пришлось признать очевидную истину: в квартире на высотах Гидры посторонней оказалась она.
Буалему не терпелось поскорее уйти с заседания редколлегии. Он не все понял из того, что там говорилось, так как, выступая, многие говорили по-французски, но главное ему было ясно: впервые статью учителя отвергли. Надо было как можно скорее предупредить об этом его учеников. Занятия у них начинались довольно поздно и продолжались до глубокой ночи. Буалем успевал обычно, забежав домой, наскоро пообедать, затем мчался на другой конец города, где проходило собрание братьев. Жил он в нижней части Касбы в мавританском доме, который его хозяин, сотрудничавший с колониальными властями, бросил, оставив Буалему все, что не смог увезти с собой. Когда-то дом этот, отделанный цветной мозаикой по голубому фону, с массивной деревянной дверью, с витыми колоннами и резными балконами из кедра, принадлежал богатому раису[94]94
Раис – начальник (араб.).
[Закрыть]. Теперь он постепенно разрушался. Но воспоминания о былом величии, так же как и следы нынешнего упадка, не трогали Буалема. Дом для него был тихой гаванью, убежищем, где можно укрыться от напастей извне и нашего шалого века.








