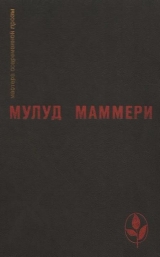
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
Но мать словно ничего не слышала, ничего не понимала; она упрямо твердила все тот же довод – нелепый, но для нее неоспоримый:
– У нее нет детей. Зачем нам бесплодная женщина, когда у нас один-единственный сын?
Голос отца подчас заглушался стенаниями Идира, в ночном мраке они казались еще более зловещими. Бенито лаял, царапаясь в дверь; рядом со мной плакала во сне Аази.
– Она сама хочет ребенка, мать, сама хочет, но я не аллах и не могу его даровать, я не аллах.
После бессонной ночи, проведенной в размышлениях, я поднялся совсем измученный. Я знал, что все доводы отца разобьются об упрямство моей матери, которая могла быть и холодной, и страстной в одно и то же время и во всей Тазге считалась лишь с одним человеком – с шейхом, ибо они оба принадлежали к религиозному братству великого святого Абдеррахмана.
Я долго разыскивал шейха, прежде чем нашел его в самом темном углу мечети; он был один. За время нашего отсутствия шейх сильно изменился. Он избегал всех нас, как зачумленных; с утра до вечера сидел в мечети или в тени большого вяза на площади Паломников, без устали перебирая четки.
Он еле ответил на мое приветствие, а зернышки амбры продолжали струиться между его пальцами. Пока я рассказывал обо всем, глаза его были опущены, а губы беспрерывно что-то шептали. Слушал ли он меня? Когда я кончил, он ничего не ответил. Я ждал, ждал долго, бесконечно долго; потом шейх, подняв на меня блестящие черные глаза, неторопливо спросил:
– Все?
– Все, – отвечал я.
– Мне жаль тебя, жаль Тамазузт, твою жену, но с твоей матерью говорить я не буду.
Он долго объяснял мне, почему именно не будет говорить, причем мало-помалу терял самообладание, чего я прежде никогда за ним не замечал. Наконец он совсем вышел из себя.
– Проклятые! Теперь все прокляты, а вы – всего лишь две овцы из большого стада. Вы прокляты потому, что сошли с пути праведного… Вот уже два года, как в Тазге не совершали тимешрета, а вы еще спрашиваете: почему война?.. Ты хотел защищать неверных от других неверных и не подумал взять с собою горсточку земли с могилы Абдеррахмана… В такое время, когда даже мужчины заблуждаются, когда на всех вас повеяло ветром безумия, как же, по-твоему, женщине идти праведной стезей? Я ничего не скажу твоей матери… А ты, выученик руми, сделай вот что: ступай с Тамазузт в деревню Ат-Смаил на могилу Абдеррахмана; ты принеси свою гордыню, а жена твоя пусть принесет свое горе на алтарь всевышнего. Его милосердие бесконечно, и он всегда внимает молящимся.
Я вышел из мечети опечаленный и в то же время подбодренный. Почему сердце мудреца исполнено такой горечью? Правда, мы ни в этом, ни в том году не совершали тимешрета, но ведь это дело поправимое. Да и у нас есть оправдание – война, в которой мы едва не приняли участия, так ничего и не поняв.
Поражение и немецкая оккупация вернули в Тазгу почти всех молодых людей. Никогда еще улицы и площади у нас не были так шумны и многолюдны. Здесь можно было встретить самые разнообразные наряды: возвратившиеся из Франции еще ходили в беретах и брюках, это разрешалось потому, что теперь уже стало трудно, даже за большие деньги, доставать материю, чтобы сшить одежду, какую носили наши предки; приехавшие из арабских стран ходили в тюрбанах и широких шароварах; кое-где мелькали даже марокканские джеллабы[14]14
Джеллаба – грубошерстная накидка.
[Закрыть]. Разнообразию одежд соответствовала пестрота мыслей. В мире, где изменчивый военный успех ставил все под сомнение, в мире глубоко потрясенном каждый искал путей к возрождению: одни вспоминали былое величие ислама и мечтали воскресить его с помощью новых средств; другие, работавшие бок о бок с французами, помышляли о всемирном союзе пролетариев; были и такие, которые ни о чем не думали; такие, кто копили деньги.
К числу последних принадлежал Акли. Он с самого начала занялся торговлей хлебом. Хлеб выдавался по карточкам, достать его было почти невозможно, и Акли торговал им втридорога. Целый отряд погонщиков доставлял зерно на мулах из Сиди-Аиссы в горы. Передвигались они по ночам. Взбираясь вверх, они старались обойти Куилальский перевал, ибо там их поджидали жандармы, которые неизменно отбирали у погонщиков несколько килограммов сахара; обоз продвигался обходными тропами, где нагруженным мулам каждую минуту грозила опасность низвергнуться в пропасть.
Тем временем целые толпы нищих бродили по деревне и жалобно просили милостыню. Каждый день к дому Давды подходила целая процессия, и она никогда никому не отказывала. Нищие всей округи сообщали об этом друг другу, и некоторые приходили к ней издалека. Перед тем как войти в Тазгу, они прятали где-нибудь в канаве свои бурнусы и гандуры, чтобы явиться к ней в еще более убогом виде; у ее дверей они взывали особо жалобным голосом, и Давда всем подавала.
Но нищета распространялась, и бороться с ней было все труднее. По дорогам бродило столько нищих с ввалившимися глазами, с растертыми в кровь или мозолистыми подошвами, что невольно думалось: под силу ли даже самому аллаху одеть их всех и насытить? Арабская земля обильна, так куда же подевался весь хлеб? У французов много больших фабрик, но куда же запропало столько материи? Редкие разносчики, еще заглядывавшие к арабам, рассказывали, что там на несколько женщин имеется порою всего лишь одно платье. Если одна уходит, другие вынуждены ждать ее возвращения; гандуру они надевают по очереди. Однажды доктор Никозиа вскрыл труп юноши, найденный на обочине дороги, и обнаружил у него в желудке пучок непереваренных трав. То тут, то там на дорогах встречались люди с ружьем в руках, они вежливо просили поделиться с ними ячменем, который вы несли своим ребятишкам, потому что их малышам совсем нечего есть. Так вот какова война! Никто ничего не понимал; и после долгих, но тщетных стараний выяснить, в чем корень зла, все неизменно валили вину на бездарное, бесчестное правительство, которое допускает, чтобы типы вроде Акли набивали себе карманы, в то время как люди подыхают от голода. Торговец пшеницей купил себе «плимут» и тщательно его запрятал, чтобы избежать реквизиции. И каждый вечер, выходя на площадь, изливался в бесконечных жалобах на трудные времена.
Меддур вновь уехал в школу и разглагольствовал теперь редко и без прежнего запала. Он перестал носить галстук и ходил летом в соломенной шляпе, а зимой в белой шерстяной феске – как и все.
После двух лет замужества у Секуры было двое детей; это, казалось, не отняло у нее много сил: она все так же простодушно смеялась и вид у нее был все такой же цветущий. Зато Ибрагиму, ее мужу, пришлось закрыть лавочку, которую он держал в Недроме, и переселиться в Тазгу, где он и стал жить на накопленные деньги.
Все пребывали в полной растерянности. Война не принесла коренных перемен, каких от нее ждали. Сельский сход собирался редко и проходил теперь в обстановке, полной уныния и неуверенности. Дело в том, что не все молодые вернулись домой. Азуау и Ахсен погибли, вероятно, у канала Элет, где сражался их батальон, там же их и похоронили, если только кости их не гниют где-нибудь в лесу, под кустом; другие были в плену в Германии, или в Польше, или где-либо еще – как знать? Вернутся ли они когда-нибудь? Тени их, казалось, реяли в воздухе, которым дышали старцы, собиравшиеся решать дома дела селения. Воспоминание о них отдавалось болью в сердцах: они были молодые, сильные, отчего же их здесь нет, и почему нет именно их, а не кого-то другого? Перед тем как закрыть собрание, шейх громким голосом произносил особую молитву за отсутствующих – «Ильгхоиав»; в самом конце он делал паузу и обращал указательный палец к небу. Его фигура гордо высилась над склоненными головами. Он возглашал:
– Говорите все: «Аминь».
По собравшимся пробегал трепет, и слышалось глухое, печальное:
– Аминь.
Хотя все из ватаги Уали возвратились невредимыми, сехджи они больше не устраивали. Мух находился среди буадду. Со слов пастухов из той местности мы знали, что он живет со старушкой матерью и женой, которая вернулась от своих родственников; теперь он был всецело занят своими землями, а дудочка, пляски и прежние друзья стали для него лишь воспоминаниями – мертвыми и безразличными.
* * *
Все в мире перепуталось, везде царила неуверенность, все же надо было жить, и, когда наступила пора готовить оливковое масло, жители Тазги снова взялись за работу, которой с незапамятных времен занимались их предки. Ветви гнулись под тяжестью желтых, темно-лиловых и черных маслин.
Мы все с облегчением принялись за дело. За работой не остается времени на бесконечные думы о нищете и невзгодах, забываешь о бессмысленной гибели Азуау и Ахсена, не замечаешь в глазах окружающих того уныния, которое, конечно, можно прочесть и в твоих собственных, стараешься не думать о том, что война кончилась лишь для нас, но не для всех и что на других холмах другие люди еще умирают, как умерли Азуау и Ахсен… и почем знать, быть может, так же бессмысленно.
Четыре месяца мы будем вечерами возвращаться домой, чувствуя здоровую усталость во всем теле. Почти все оливковые рощи расположены вдали от селения, по ту сторону долины. Придется ежедневно по два раза перебираться через речку: утром – идя на работу, вечером – возвращаясь домой. Течение очень быстрое, особенно к концу зимы, и каждый год река, как у нас выражаются, «пожирает» то юного пастушка, то слабенького старца. Но все мы более или менее твердо знаем, как переправляться всего безопаснее: нужно идти наискось по течению, иной раз поддаваться ему, волочить ноги по дну, а ни в коем случае не поднимать их, не наступать на камни, потому что течение может внезапно выбить их из-под ног. К тому же во время паводка реку никогда не переходят в одиночку, даже в Аусафе, где самый мелкий брод.
Проще всего было бы построить мост, и Акли, всегда стоявший за прогресс, внес такое предложение на последней сходке. Пока торговец зерном говорил, вся ватага во главе с самим Уали улыбалась. Правда, сами-то они легко переправлялись в любую погоду. Шейх тоже воспротивился предложению Акли.
– Если аллах начертал на твоем челе, что погибнешь в реке, то никакой мост тебя не спасет… Вознесем же молитвы во имя твое, о пророк…
Это – ритуальное обращение, которым начинается всякая речь, произносимая возвышенным слогом. Собрание ответило ему обычным:
– Во имя твое, о пророк… Да пребудет с тобою благодать.
Во времена предков за рекой жила девушка, просватанная за юношу из нашего селения. Когда настала зима, юноша захотел жениться. Сколько ему ни толковали, что нельзя праздновать свадьбу зимой, он стоял на своем. Наконец поехали за невестой. На обратном пути посланцы увидели, что река покраснела и вздулась. Самым разумным было бы вернуться домой, но судьба влекла их вперед. Первые прошли благополучно. Когда же невеста, путаясь в нарядах и покрывалах, вся в драгоценностях, спустилась в реку, течение свалило ее разукрашенного мула. Все бросились ей на помощь, но течение было очень сильное. Пониже, около скалы, есть глубокая заводь. Там невеста попала в водоворот и пошла ко дну. С тех пор это место называется Невестиной заводью.
Я бросил взгляд на Менаша: его карие глаза рассеянно смотрели на шейха, но он, видимо, не слушал продолжения речи; воображение рисовало ему яркие, тонкие покрывала той, кого «пожрала речка».
Ни Менаш, ни я даже и не помышляли о том, чтобы вернуться в оккупированную Францию и продолжать учение. Неуверенность в завтрашнем дне и невозможность заняться чем-либо другим, ибо ничего другого мы не умели делать, понудили нас оставаться в Тазге, и за неимением лучшего занятия мы приняли участие в сборе урожая.
Каждое утро, еще до рассвета, прежде чем шейх призовет с минарета к утренней молитве, люди и животные начинали пестрыми, шумливыми группами спускаться по извилистой, крутой и каменистой дороге, направляясь к речке. Женщины наряжались словно в праздник, и всюду слышалось позвякивание их серебряных украшений. Мужчины шли в рабочей одежде, большинство – с ружьями. Стершиеся копыта ослов и мулов глухо постукивали по каменистой тропе. В тающих сумерках свежего зимнего утра вооруженные мужчины, принарядившиеся женщины и навьюченные животные длинной вереницей спускались к реке, словно для совершения обряда. В воздухе веял смешанный запах пудры, навоза и левкоев, которыми женщины обвили свои ожерелья.
На берегу реки первые прибывшие ждали остальных, ибо реку надо переходить всем вместе, вместе надо погружаться в очистительную, а иногда и коварную воду. В речке было два брода, поэтому все разделились на две группы, чтобы воспользоваться бродом, который выводит ближе к их участку, затем юноши и взрослые мужчины стали помогать переправляться женщинам, детям и скоту. Кое-кто проявлял тут особую ловкость; верзила Уали, а прежде и Мух считались в этом деле мастерами. Некоторые не решались в половодье входить в реку и возвращались обратно; к таким относились с явным презрением. Немало новичков, не желавших опозориться, было унесено стремниной, речка то и дело «жрет» маленьких пастушков. В таких случаях все село спускается вниз по течению, чтобы видеть, в каком месте речка «изрыгнет» принесенную ей искупительную жертву. Иной раз лишь много дней спустя кто-нибудь из племени, живущего ниже по течению, придет и сообщит, что река выбросила на берег чей-то труп. Тогда юноши отправляются туда и приносят тело на тростниковых носилках, а старики поют песню о тех, кто умер вдали от родного селения. В следующую зиму те же люди выполняют тот же обряд – и так до бесконечности.
Сбор урожая завершился большим ритуальным празднеством; приготовлениями на этот раз руководил Акли.
Надо отдать ему справедливость – все было на высоте; он зарезал двух баранов и наготовил так много кускуса[15]15
Кускус – мучное блюдо с мясной или овощной приправой.
[Закрыть], что весь обширный двор, где стояла его маслобойня, был усеян зернышками. Поэтому все бедняки, каким-то образом пронюхав об этом, собрались у его дома.
Давда превзошла самое себя. Голову она накрыла черной марокканской шалью, длинная красная бахрома бежала по ее щекам, словно лаская их своим прикосновением, и волнами спадала на плечи. Из-под шали в нарочитом беспорядке выбивались пряди волос – столь тонких, что только по темно-русому цвету можно было отличить их от бахромы. Прозрачная материя ее простого платья с белыми цветами, без рукавов придавала переливчатые, бархатистые оттенки пестрому, яркому чехлу. Пояс она нарочно повязала очень высоко, чтобы подчеркнуть изящество талии. Из-под тяжелого ожерелья виднелись чистые линии шеи.
Наша разношерстная группа далеко растянулась вдоль реки. Понадобилось немало народу, чтобы погрузить на мулов кастрюли, котелки, миски, блюда, кувшины, жерди, большие шерстяные одеяла и тамбурины для женского праздника.
Ку была с нами. Детей она усадила на осла, которого вел наш самый молодой пастух. Ибрагим прикрыл свое бескурковое ружье широким белым бурнусом. Аази была в будничном платье. Идир, не дожидаясь нас, отправился вперед, когда на темно-синем небе еще мерцало несколько запоздалых звезд.
Выкрики мужчин, и безудержный смех Ку, и детский плач, и звонкий голос Акли, отдававшего распоряжения, и посвист Менаша, который подзывал к себе Бенито, не перестававшего лаять, – все это сливалось в невообразимый шум. Я оглянулся. В конце нашего шествия нищие образовали нечто вроде длинного шлейфа из черных заплатанных лохмотьев, безобразных, изувеченных тел и толстых, сучковатых посохов – спутников босых ног. Иной раз изумленные девушки робко ощупывали шелковый наряд Давды. Опьянев от духов и ярких красок этой сказочно прекрасной женщины, одна из девушек в конце концов жадно приникла к ее руке. Вместе с нами шла старуха, дрожащим, надтреснутым голосом она осыпала Давду добрыми пожеланиями, в которых, как припев, слышалось: «Да пошлет тебе аллах младенца». Старуха эта приходила к Давде за водой как свой человек и знала, что за тайная скорбь снедает жену Акли: Давда, как и Аази, была бездетна.
У реки мы остановились и стали ждать, пока не соберутся все.
– Почему бы не переправиться сразу? С нами мужчины не хуже других, – предложила Давда, обращаясь к Ку.
– А почему бы не подождать? Они-то ведь нас ждали.
Ку боялась за своих детей.
– А, понимаю! Дрожишь за мужа. Ну а я переправлюсь сейчас же, с Менашем: он ничего не боится.
Менаш пристально взглянул на нее, побелел и ни слова не ответил.
– Лучше бы подождать, – сказал Акли, – у нас много скота, да и работа кончена, спешить некуда.
Давда метнула на него странный взгляд; трудно сказать, чего больше было в этом взгляде: презрения или жалости. Тогда Акли обратился ко мне:
– А ты как думаешь?
Но прежде, чем я успел ответить, Давда сказала:
– Правда ведь, Менаш, ты поможешь мне переправиться?
– Помогу, – ответил тот как бы сквозь сон, крепко сжав побледневшие губы.
Менаш шагнул вперед, как будто не понимая, что делает. Давда уже зажала в ногах подол платья и протянула ему руку. Он машинально принял ее и вошел в воду. Он заслонял собою течение, чтобы оно не сбило Давду, но уровень воды был невысок: даже на самой середине было не глубже чем по пояс. К тому же Давда крепко стояла на ногах. Они шли наискось, чтобы легче было выдержать напор воды. Давда, ухватившись за его руку, без умолку тараторила, а он продвигался молча, широко расставляя ноги и не отрывая глаз от другого берега.
Вдруг Давда навалилась на него всей своей тяжестью; ясно было, что она делает это умышленно, потому что она даже не пробовала сопротивляться потоку воды. Он попытался нести ее, но тут же поскользнулся на круглом камне и упал навзничь. Давда не вскрикнула, не взмахнула рукой. Она оттолкнула его и одна добралась до берега.
Менаш силился встать на ноги. Вид у него, вероятно, был презабавный, ибо, барахтаясь в воде, он услышал насмешливый хохот Давды. Между тем течение бросало его из стороны в сторону. Он исчезал под водой, вновь появлялся, стукался головой о камни, хватался за воду, цеплялся за плывшие ветки, но их вместе с ним подхватывала стремнина. Он захлебнулся. Сознание его меркло, в голове проносились странные видения. Опомнившись, он высунул из воды голову и стал искать берег. Но налетевший ствол дерева опрокинул его. Менаш исчез под водой и опять захлебнулся. По жилам его разлилось какое-то странное умиротворение, он уже не ощущал усталости, и вдруг из тьмы выплыла такая картина: через реку перебирается свадебное шествие; Давда – невеста, она сидит на муле с богатой сбруей; окружающие ее женщины поют протяжные свадебные песни; ночь, но на невесте можно, словно днем, разглядеть мельчайшие детали украшений.
Все мужчины побежали вниз по реке, бросились в воду, взялись за руки и образовали цепь поперек течения. Один из нищих, упершись ногами в большой камень, схватил Менаша за волосы. Его вынесли на берег и стали мять ему живот до тех пор, пока из него не вылилась вся вода. Веки его посинели и опухли, на лице и руках багровели кровоподтеки. Идти он был не в состоянии, его посадили на мула вместе с детьми Ку.
Вскоре взошло жгучее солнце, но Менаш, несмотря на совет Аази, не захотел снять с себя мокрую рубашку. К полудню подоспел кускус, его наготовили так много, что нищие и наелись, и котелки свои наполнили, и даже еще осталось. Мужчины в сотый раз толковали об урожае нынешнего года, о реке, о Невестиной заводи, а тем временем Менаш, куда-то на время исчезнувший, появился снова, тихонько похлопал меня по спине и сделал знак, чтобы я следовал за ним.
По чуть заметной тропке он провел меня сквозь густые заросли терновника к какой-то пещере, и там мы с ним улеглись на живот. Чуть пониже, на лужайке, окруженные со всех сторон кустарником и вязами, женщины готовили урар.
– Смотри, – сказал Менаш, – сейчас она будет плясать.
И в самом деле, Давда уже поднялась с места. Менаш пожирал ее жадным взглядом и, конечно, не мог знать, как далек был я в ту минуту и от урара, и от него. Все мешалось в моих глазах. Теперь я не в силах объяснить, что тогда со мной происходило, но и по прошествии многих месяцев я все еще как сейчас вижу каждый жест Давды. Слышу ее ясный смех, вижу, как пальцы ее бьют по тамбурину, а золотые браслеты бряцают в ритм танца, вижу, как она кружится и как раздувается ее белое платье; я могу повторить все ее слова, все ее распоряжения. Вместо пения я слышал какой-то беспорядочный шум, зато все, что касалось Давды, я воспринимал с небывалой остротой. Вокруг меня все кружилось, все звенело. Чтобы побороть это наваждение, я вскочил на ноги. Менаш сказал только:
– Не ждите меня, Мокран. Я останусь здесь до вечера.
Я не обратил внимания на его слова и побежал, а он перевернулся на спину и стал смотреть в небо, по которому стремительно неслись к югу черные тучи.
Акли уже распорядился навьючить животных; послали за женщинами: надо было немедленно отправляться в путь, потому что надвигалась гроза. О нашем возвращении у меня не осталось никаких воспоминаний.
Ночью я не мог уснуть. Над долинами плыли темные облака. В воздухе чувствовалась тяжесть. Я трижды вставал и выходил на балкон, чтобы прогуляться – девять метров в одну сторону, девять – в другую. Трижды Аази спрашивала, что со мною, и трижды я цедил сквозь зубы: «Ничего». Около двух часов ночи из конца в конец горы стали проноситься то глухие, продолжительные раскаты, то сухой грохот, словно кто-то колотил по листам железа. Молнии на мгновение освещали комнату, а вслед за тем она погружалась в еще более густую тьму. Бешеный ветер набрасывался на окна, свистел в щелях дверей. То тут, то там слышался треск черепиц на крыше. Я вышел, чтобы затворить ставни. У-у-у, гудел ветер, рассекаемый острыми створками. Потом он затих. По крыше дробно застучали крупные градины, оттуда они соскакивали на землю или на балкон. Хляби небесные разверзлись, и в сточных желобах загромыхали потоки проливного дождя. Ливень длился по меньшей мере полчаса, затем, словно по мановению волшебной палочки, и дождь и ветер прекратились, тучи как бы застыли в небесной высоте.
Я не мог ни уснуть, ни выйти наружу, а потому взял с туалетного столика письмо Идира, хотя и прочел его уже два раза. Но глаза мои скользили по строкам, ни на чем не задерживаясь. Ровное дыхание Аази вносило определенный ритм в тяжелую тишину, которая пришла на смену буйству стихии. Аази неподвижно лежала рядом со мной. Веки ее с длинными черными ресницами были сомкнуты, но черты лица странно исказились, словно и во сне она не находила покоя.
Вскоре возвратился домой Менаш, и это весьма кстати развлекло меня. Он только что пришел с реки и изо всех сил стучал тростью в ворота, потому что снова начали падать крупные капли дождя. Я впустил его. Он промок до нитки, так как большую часть пути прошел под ливнем. «Здравствуй», – буркнул он и, понурив голову, отправился спать. На другой день он не встал, а к вечеру температура у него подскочила до сорока. Он кашлял и поминутно вытирал слезящиеся глаза. Аази навестила его в тот же вечер, а когда увидела, в каком он состоянии, больше уже не отходила от него. Наши женщины привыкли к тому, что она со всем управляется одна, и не мешали ей, но теперь я угадывал самые ее сокровенные мысли и хорошо видел, что она хлопочет о больном с каким-то неестественным рвением и чем-то очень взбудоражена.
Менаш уснул лишь на четвертый день. Спал он очень крепко, и мы решили, что ему немного лучше. За все время его болезни Аази уходила лишь раза два, чтобы на часок забыться тревожным сном; теперь она отправилась отдохнуть.
Около двух часов ночи мать Менаша постучала в нашу дверь. Больному стало гораздо хуже. Он не просыпался и все время бредил.
Мы застали возле него Секуру, моего отца, На-Гне, Акли. Как только я вошел, На-Гне сказала мне:
– Опасность миновала, теперь он выздоровеет.
Послали за Давдой, но она долго не приходила. Появилась она уже на заре; глаза у нее опухли от сна, в лице было нечто животное, придававшее ее красоте какую-то особую терпкость. Вскоре она ушла, сказав, что ей надо подоить коров и коз и что-то сказать пастухам.
Один за другим разошлись и остальные, и в комнате остались только Ку, Аази и я; Менаш перестал бредить. Один раз он все же сел на постели, полуоткрыл глаза, обвел комнату, мутным взглядом и проронил довольно внятно:
– Да, старик, здесь – Таазаст, Таазаст, в Тазге, где живет племя потомков Якуба. Добро пожаловать. Входи. – Потом снова опустил голову на подушку.
Два-три года тому назад голос Менаша, некогда такой нежный и переливчатый, возмужал, стал густым и низким; но, увидав во сне старца, Менаш снова заговорил прежним голосом.
Ку, притаившаяся в уголке, не шелохнулась. Между тем я не сомневался, что она все слышала. Покинули мы Менаша очень поздно; он спокойно спал. По дороге мы не проронили ни слова, но, когда мы подошли к большим воротам и остановились, прежде чем разойтись, Ку сказала, как бы обращаясь к самой себе:
– Странные вещи говорил Менаш. Наверно, ему приснилось что-то прекрасное. Попросим его рассказать, когда он поправится. Только бы он не забыл!
Мы вошли к себе. Аази повторила, как эхо:
– Да, только бы не забыл.
* * *
Аази хорошо знала: мать сердита на нее лишь потому, что у нее нет детей. Если у кого-нибудь не только в Тазге, но и во всей округе рождался ребенок, женщины спешили сообщить об этом Аази, чтобы уколоть ее. При каждом удобном случае они перечисляли в ее присутствии многодетных матерей. Моя мать постоянно подчеркивала, что аллах благословляет только добродетельных; хотя она и не говорила этого открыто, из слов ее можно было заключить, что бесплодие Аази – возмездие за ее грехи. Сознание того, что она проклята аллахом и никому не нужна, терзало мою жену. Казалось, какой-то острый шип вонзился в ее душу и с каждым днем проникал все глубже и глубже, отравляя всякую радость. Когда же Аази на миг забывала о своем горе и успокаивалась, мать вновь заводила разговор на эту волновавшую ее тему. Аази завидовала Ку, которая ждала третьего ребенка: зачем аллах так щедро благословляет брак Ку и вовсе не хочет благословить ее брак? Ку плодовита; она, как сама земля, щедра на плоды; полные и уже обвисшие груди ничуть не портили ее в глазах Аази.
Впрочем, Ку относилась к этому очень добродушно.
– С меня уже хватит, – говорила она Аази, – а у тебя ни одного нет. Бери, отдам тебе одного из своих.
И она сдержала слово. С тех пор маленький Идир стал приходить к нам и оглашать наши комнаты своим тоненьким голоском.
Жена прибегала ко всем известным средствам от бесплодия. Поздней осенью На-Гне навьючила себе на спину большую плетеную корзину и отправилась по соседним селениям выпрашивать у матерей семейств подарки для женщины, которой бог отказывает в своей благодати. Один из этих даров должен был передать Аази плодовитость его бывшей владелицы. Но миновала зима, а волшебной перемены так и не произошло.
Тогда нам пришлось прибегнуть к средству, которое некогда посоветовал мне шейх. Аази решила вместе с Давдой совершить паломничество на могилу святого Абдеррахмана в Ат-Смаиле. Акли предложил отвезти нас в «плимуте», но он только еще учился править, и никому не хотелось рисковать своей жизнью. Поэтому мы взгромоздились на мулов и отправились в путь вдоль реки.
Шейх и На-Гне, оба ревностные почитатели святого, воспользовались оказией и поехали вместе с нами. Менаш тоже присоединился к нам: шейх сказал ему, что болезнь на него наслал злой дух реки и что единственное средство вылечиться – молить великого святого о заступничестве. Менаш сначала было отказался ехать, но Давда так настаивала, что он в конце концов согласился.
По дороге мы нагнали группу женщин и мужчин из племени иратенов и вместе добрались до усыпальницы святого – ее круглый купол мы увидели еще около полудня.
Как только мы приехали, Аази окружило множество старух. Они дергали ее за платье, за шаль, целовали руки, наперебой выпрашивали милостыню, осыпали ее добрыми пожеланиями. Аази быстро раздала все свои деньги и принялась за мои. В конце концов На-Гне удалось разогнать скопище нищенок, и они разбрелись: одни – продолжая громко выкрикивать благие пожелания, другие – бранясь и ворча. Кончилось тем, что две старухи вцепились друг дружке в волосы, и только Давда смогла их разнять.
Мы одарили многочисленных паломников лепешками, инжиром, жидким квашеным молоком, медовыми пряниками; потом каждый из нас вошел в усыпальницу, чтобы опустить свою лепту в кружку для подаяний. Когда настала очередь Аази, она разулась, подошла к усыпальнице, приложилась к разноцветному знамени, склоненному над ней, и прошептала:
– Абдеррахман, ты оставил меня одну, совсем нагую перед лицом воли аллаха. Помоги мне. Даруй мне сына, и я нареку его твоим именем, Абдеррахман.
Сидевшие вокруг усыпальницы старухи, почитательницы святого, добавили от себя:
– Да будет так, Абдеррахман.
– Моя мать – твоя почитательница. Она взывает к тебе денно и нощно и каждый вечер воздает тебе хвалу. Но ты забывчив, Абдеррахман.
– Не богохульствуй, дочь моя, – сказала одна из старух, дернув Аази за подол. – Моли святого в смирении сердца, преклонись перед ним.
Аази низко поклонилась, замерла на минуту, потом опустилась на надгробие и прильнула к нему.
– Избавь мой дом от горя, а чрево мое – от бесплодия, и я заколю в честь тебя быка, о милостивый Абдеррахман!
– Да будет так молитвами сорока святых, чтимых племенами мангелетов, – сказала старуха, видимо происходившая из той же местности, что и моя жена.
Аази уже довольно долго пробыла в часовне, и я вошел туда вслед за ней.
– Мать, – говорила она старухе, – вот мой муж; уже три года прошло, как он женился на мне, чтобы я принесла ему сыновей, а аллах не хочет этого.
– Протяни руки, дочь моя. Ладонями к небесам.
Аази протянула руки, и все старухи сделали то же.
– Прошу тебя, протяни и ты руки, – сказала мне Аази.
Тут старуха обратилась к святому с пространной молитвой о помощи молодой женщине. При каждой паузе ее товарки как бы машинально восклицали: «Аминь». В глазах их можно было прочесть восторг перед красотой этой женщины и недоумение: неужели в этом прекрасном теле гнездится недуг?
Аази встала.
– Преклони голову свою, дочь моя, перед волей аллаха и моли, чтобы он и Абдеррахман не оставили твое чрево иссякшим, как источник в летний зной.
Аази снова склонилась перед гробницей. Старуха положила руку ей на голову.
– Абдеррахман, оплодотвори их брачный союз, чтобы не стали они друг другу в тягость, – трижды повторила старуха.
Эти слова глубоко врезались мне в память. Только большой житейский опыт и долгое общение со святыми могли даровать тебе такую способность читать в сердцах, добрая старушка, случайно встреченная мною у усыпальницы Абдеррахмана!








