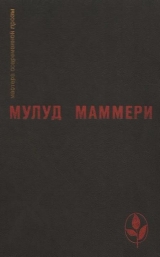
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
Как только солнце скрылось, воздух сразу стал холодным. Всего за несколько минут пляж опустел, словно сдуло разноцветные венчики палаток и зонтиков. Устало тащились по песку последние купальщики, направлявшиеся в «Сан-Суси». И вскоре у воды не осталось никого, только черный пес бродил по берегу в поисках остатков пищи.
– Пора и нам возвращаться, – сказала Амалия, – первая встреча у меня назначена на восемь утра.
Кусок покрытой ржавчиной луны вынырнул из воды, стал быстро расти, раскачиваясь какое-то время над самой поверхностью моря. Набегавшие волны разбивали полоску излучавшегося ею бледного света, и лунная дорожка шла зигзагами.
Душераздирающий вопль, донесшийся из «Сан-Суси», послужил прелюдией к оркестровым вариациям, растворявшимся в ночи.
– Революция не освободила вас от этих тлетворных радостей?
– Иностранные туристы заранее оплатили причитающуюся им долю веселья. Мы обязаны обеспечить контракт. Пойдем дальше?
Трубы и ударники еще некоторое время не отставали от них, пока они шли по песку, потом в глубине бухточки, со всех сторон закрытой соснами, музыка смолкла. Они легли. Песок был еще теплым. Кровь стучала в висках Амалии. Время остановилось…
Возвращаясь на рассвете, они шли по песку, плотно сбитому за ночь водой.
На обратном пути в машине, разрезавшей прохладный воздух, насыщенный влагой первых рассветных часов, Амалия молчала. Чтобы стряхнуть с себя усталость, тяжестью ложившуюся на веки, достаточно будет принять душ. Но то, что она с такой легкостью уступила капризу Мурада (ей самой было непонятно, как все это случилось), не предвещало ничего хорошего в конце путешествия.
Потому что Мурад, это было ясно, ничуть не переменился – разве что к худшему. Изменчивый Протей и так и не ставший взрослым подросток, он, пожалуй, будет в тягость в Сахаре: месяц – это не шутка. Сможет ли он вынести медлительность каравана, духоту, наконец, строгий распорядок – главное, распорядок? Задует песчаный ветер, и он, чего доброго, возьмет да исчезнет в один прекрасный вечер за какой-нибудь дюной, подобно своим беспечным героям из «Перехода через пустыню». Что стоит Югурте (это один из любимых его героев) снова обмануть всех? Пустыня тут же поглотит неоседланных лошадей с седоками, которых город надеялся удержать в своих стенах… ибо для Югурты стена – не преграда.
Если, как он любил повторять, свобода – это скорее род влечения, чем состояние, то это его влечение попросту убьет его когда-нибудь. Уже во время войны его врожденная страсть к кочевой жизни выводила из себя Амалию, предки которой – не в одном колене – были не только оседлыми, но так крепко срослись с землей, что получили от нее все, вплоть до имени. Эта изменчивая подвижность нередко вызывала у нее желание подуть, чтобы разбился хрупкий сосуд. А та легкость, с какой ему удавалось от всего ускользать, смахивала на предательство. Никогда он не привязывался по-настоящему ни к вещам, ни к людям, едва задерживая на них свое внимание.
Амалия не сомневалась: когда сердце Мурада перестанет биться, душа его к тому времени, заранее почуяв неладное благодаря своему чудовищному подсознательному стремлению к скитаниям, давно уже покинет презренную оболочку тела: он и в смерти сумеет обмануть!
– Устала? – спросил Мурад.
Ну вот, не угодно ли… только сейчас об этом вспомнил! Она взглянула на часы:
– Я едва успею переодеться. Что ты собираешься делать до нашего отъезда?
– Поеду в деревню.
– Это далеко от… деревни моей тети?
– Азиф-Меллул? Рукой подать. Только не рассчитывай на меня в качестве провожатого. Героические паломничества – не моя стихия!
– Ты прав, ведь караван прибыл на место. Герои могут спать спокойно. Хотя именно благодаря тете…
И в самом деле, Мурад с Амалией встретились только благодаря тете Анне-Марии. Когда Анна-Мария Делонэй вступила в орден Белых Сестер, ее направили в Азиф-Меллул – Белую Речку, маленькую горную деревушку, где она работала в диспансере. И вот однажды туда явился молодой человек и попросил помочь ему: он якобы поранился, «упав с мула». Как только они остались одни, человек этот сказал Анне-Марии, что у него к ней поручение: в горах есть раненые, которые не могут передвигаться. Не согласится ли она оказать им помощь там, на месте? Анна-Мария сказала: «Я дам вам ответ завтра».
Она доложила об этом настоятельнице.
– Одно из двух, – сказала настоятельница, – либо вы действительно будете лечить раненых – а служа господу, сестра моя, мы должны служить всем людям, – либо это ловушка.
– Если это ловушка, – сказала Анна-Мария, – то я думаю… – она немного помолчала, – что это тоже во славу господа: на все божья воля.
Настоятельница в конце концов дала свое согласие, но не хотела, чтобы Анна-Мария шла одна. Пойти с ней вызвалась сестра Вероника, совсем юная бельгийка, недавно приехавшая в Азиф-Меллул.
Когда они свернули в сторону с шоссе, партизан, который сопровождал их, извинившись, попросил разрешения завязать им глаза. Сестра Вероника едва не потеряла сознание. Примерно через час повязки с них сняли. Они очутились в пещере, кое-как оборудованной для нужд госпиталя. Почти тут же они принялись врачевать раненых.
Сначала было нелегко, и не столько из-за языка (Анна-Мария довольно свободно говорила по-берберски), сколько из-за условий, в которые они попали: спать им приходилось прямо на полу, на циновках из альфы, не было обезболивающих средств, не хватало инструментов. Сестры не страшились скудости пищи: чуть ли не каждый день ели ячменную лепешку, макая ее в оливковое масло. Мужчины приходили и уходили. Разговаривали они мало, скажут только, где болит, потом – спасибо, и все.
Через несколько дней тот, кто, по всей видимости, был у них командиром, позвал Анну-Марию и Веронику. Он поблагодарил их и сказал, что их проводят до места, которое им хорошо известно; оттуда они наверняка найдут способ добраться до своего монастыря. Где они находились, им было неведомо, но куда их должны были отвести, они и в самом деле знали. За это время им удалось поставить на ноги почти всех раненых.
Они отправились в путь вместе с двумя партизанами, которым командир дал указания по-французски, чтобы женщины поняли, о чем идет разговор. Их посадили на мулов. Командир извинился и попросил разрешения завязать им глаза. На этот раз Вероника не испугалась. Когда добрались до места, о котором было условлено, партизаны снова поблагодарили их, дали немного денег – «на тот случай, если им придется сесть в автобус», и исчезли.
Почти тут же появились джипы и бронетранспортеры военного патруля, открывшего огонь по партизанам, но те были уже далеко. Лейтенант счел бесполезным преследовать двух феллага, которые, по всей видимости, прекрасно знали местность, а кроме того, наверняка были вооружены.
В свое время лейтенант был военнопленным в Индокитае. Долгий период политического перевоспитания, которому пытались подвергнуть его вьетнамцы, не дал ожидаемых результатов. Коттен вернулся оттуда взбешенный, с твердым намерением никогда впредь не допускать ничего подобного или хотя бы отдаленно напоминающего то, что ему довелось пережить. «Индокитай вот где у меня сидит, – говорил он, показывая на горло. – Если ты побывал во вьетнамском лагере, считай, что тебе сделали прививку, не желаю больше никаких Дьенбьенфу[98]98
Дьенбьенфу – город и уезд на северо-западе Вьетнама. В марте – мае 1954 года здесь произошло решающее сражение Войны сопротивления вьетнамского народа 1945–1954 годов, закончившееся победой Вьетнамской народной армии над французскими войсками.
[Закрыть], ни за что, никогда!» Его репатриировали, а когда восстали феллага, направили в Алжир. Коттен ехал туда с некоторой долей беспокойства, но, главное, с огромным желанием отомстить, во что бы то ни стало смыть с себя позор Дьенбьенфу. Ибо что такое феллага? Это тот же нья-ке, только смуглый, тут и сомневаться не приходится – такое же точно отродье голодранцев, идущих в бой с самострелами наперекор всем правилам, которым он, Коттен, обучался в Военном училище. Лейтенант проиграл войну в Индокитае, но эту войну он проиграть не мог.
Именно для того, чтобы он приспособился к условиям необычной войны, командование послало его на специальные курсы так называемого психологического воздействия, где его бесконечные ссылки на «вьетнамский опыт» имели несомненный успех. Стоило ему произнести: «Вот в Индокитае…» – и все взоры тут же устремлялись к нему. Во время обучения лейтенант Коттен главным образом пытался получить информацию относительно нравов, психологии и слабых мест населения, которое он плохо знал, а вернее, вовсе не знал. В остальном же метод был ему ясен: бить без промаха, атаковать противника изнутри, просочившись в повседневную жизнь местного населения, а для широкой публики и гуманистов из ООН стараться изобразить дело так, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой.
Увидев двух исхудавших святых сестер с глазами, покрасневшими от едкого дыма, которого они наглотались за время пребывания в пещере, Коттен почувствовал, что должен попридержать душивший его гнев.
– Гуляете, сестры мои?
– Мы идем в Азиф-Меллул. Вы случайно не в ту сторону?
– Азиф-Меллул? Ну конечно. Мы вас обязательно проводим. По нынешним временам в сельской местности небезопасно, это вам, верно, очень мешает, когда нужно куда-нибудь пойти или поехать?
Он впился в них глазами, пытаясь перехватить случайный взгляд или увидеть предательски покрасневшие щеки. Но Анна-Мария с Вероникой, казалось, не слышали его.
– В здешних местах шагу ступить нельзя – обязательно наткнешься на феллага. О прогулках теперь и думать нечего! Но вы, как я погляжу, ничего не боитесь.
Коттен повернулся к маленькому рыжему сержанту, державшему свой автомат за ствол, словно какое-нибудь полено.
– Что ты на это скажешь, Бернарди? Это ли не храбрость, а?
Лейтенант кружил вокруг Анны-Марии и Вероники. Те смотрели на него с невозмутимым спокойствием. И тут, не выдержав, Коттен завопил:
– Бернарди, а знаешь, зачем они ходили в горы, эти милосердные сестрички? Держу пари, что не угадаешь! Ну как, смекнул? Хотя гадать тут нечего, и так все ясно. Они ходили лечить феллага. Отпираться не советую, сестрицы. Я видел вас вместе с ними до того, как они дали деру.
– А мы и не отпираемся, – сказала Вероника.
Лейтенант позеленел.
– Слышишь, Бернарди? Святые сестры не отпираются, они во всем признаются. Нет, это не храбрость, это самое настоящее безрассудство. Представляешь, милосердные сестры отправляются в джебель ухаживать за молодчиками, которые, стоит им только встать на ноги, стреляют нам в спину, и не стесняясь говорят об этом нам, Бернарди.
– Они тоже люди, – сказала Анна-Мария.
Лейтенант счел необязательным и далее сдерживать себя. Было довольно холодно, но лейтенант обливался потом.
– Откуда вы их узнали? Кто вступал с вами в контакт? Почему вы не поставили в известность военные власти? Зачем согласились? Где они находятся? Кто они? Сколько их? Отвечайте, сведения, которые вы сообщите нам, помогут спасти человеческие жизни, ведь ваш господь бог, если не ошибаюсь, ратует за спасение жизней?
Обе сестры, крепко сжав губы, смотрели на него кротким взором.
– Плевал я на ваши нежные взгляды. Нежные глазки женщин нравятся мне только в постели.
Услышав, как захихикал Бернарди, Коттен понял, что дал осечку.
– Если говорить объективно, то ваш господь бог – это предатель, самый настоящий… Объективно – предатель.
Лейтенант чувствовал, что, дав волю гневу, он совсем потерял голову: и в самом деле, на курсах по психологическому воздействию этот аргумент рекомендовалось приводить пленным, напичканным марксизмом, а он бухнул его монашкам, влюбленным в своего боженьку. Он выхватил автомат из рук Бернарди.
– Ваш господь бог повелевает вам спасать убийц? Так вот, отправлю-ка я вас к нему, чтобы вы сами смогли во всем ему дать отчет. Сестра моя, ты встанешь навытяжку перед своим господом, руки – по швам твоей юбки, и скажешь ему: «Задание выполнено, мой боже!» Он спросит тебя: «Какое задание?» А ты в ответ: «Я спасла феллага». Он скажет тебе: «Вольно! Я вами доволен». Ты ему скажешь: «Это не все». Он тебя спросит: «Ну что там еще?» А ты ему скажешь: «Лейтенант Коттен послал меня к вам».
Лейтенант задыхался от смеха.
– Он тебя спросит: «Чего ему надо?» Ты ему скажешь: «Он просил передать вам, что вы предатель, мой боже, объективный предатель, и что, как все предатели, – ха-ха-ха! – вы заслуживаете та-та-та – одной очереди, только одной – и… мой боже, нет больше боженьки».
А так как он все время играл со спусковым крючком, раздался выстрел. Сестра Анна-Мария успела только сказать «Ах!» – и упала. Вероника наклонилась, приподняла ее голову: Анна-Мария так и умерла с кроткой улыбкой на губах. Лейтенант сначала тупо посмотрел, потом завопил истошным голосом:
– Вот и прекрасно, боже милостивый! Как говорится, одним меньше у феллага.
Затем, повернувшись к сержанту, сказал очень спокойно, словно на учении:
– Бернарди, мы нашли на дороге труп сестры, которую убили феллага, когда мы их обратили в бегство. Эти дикари способны на любое преступление, даже самое отвратительное. Сестра Тартампьон, повинуясь голосу милосердия, пошла выхаживать их раненых, потому что это люди, страждущие люди, в награду за это они оставили на дороге ее труп, когда мы подоспели, он был еще теплый. Но мы пришли слишком поздно, ты и я… Ты ни разу в своей жизни не плакал. На этот раз скупая мужская слеза скатилась по твоей щеке. Ты отвернулся, чтобы скрыть ее от меня.
Бернарди стоял ошеломленный.
– В чем дело, Бернарди? Разве я не на чистом французском языке с тобой говорю? Составишь мне в таком роде рапорт. Ясно?
Очнувшись вдруг, Бернарди вытянулся по стойке смирно:
– Ясно, все ясно, господин лейтенант, даже очень ясно.
Через два дня новость появилась во всех утренних газетах на первой полосе. Мураду было поручено опровергнуть ее. Он отправился в Пуатье, где жила семья сестры Анны-Марии. Там он и встретился с Амалией.
Звали ее не Амалией. Настоящее ее имя было Эме Делонэй. Но так как в ее парижской квартире, где позже имели обыкновение останавливаться «братья»[99]99
Члены ФНО – Фронта национального освобождения Алжира.
[Закрыть], стены оказались слишком тонкими, у нее вошло в привычку ставить пластинки Амалии Родригес, чтобы заглушить шум голосов. Поэтому ее и стали называть Амалией.
Ничто в прошлой жизни Эме Делонэй не предвещало того, что в один прекрасный день она станет членом организации, выступавшей в поддержку ФНО. В отчем доме придерживались правых взглядов, и то, что Алжир должен оставаться французским, не вызывало ни малейших сомнений. Только покинув Пуатье и очутившись в Сорбонне, она начала задаваться вопросами. Сомнения ее вот-вот готовы были смениться уверенностью, и тут как раз подоспел случай с Анной-Марией.
Для расследования дела ей пришлось провести неделю вместе с Мурадом на вилле в окрестностях Ренна, которую аббат Рамель предоставил в распоряжение ФНО. Аббат Рамель не стал допытываться, кто она такая. Он вообще ни о чем не спрашивал. И почти никогда не появлялся. С самого начала он сказал Мураду: «Если в дом будут приходить посетители и приносить какие-то пакеты, попрошу вас заняться этим. У меня нет времени».
Им очень скоро удалось установить истину относительно гибели Анны-Марии, и так как Амалия вызвалась помогать ФНО «в меру своих возможностей», Мурад тут же вручил ей чемодан с листовками, который надо было доставить в Париж. У Амалии не было никакого опыта. Она не сумела ускользнуть от слежки, и ее арестовали. Через два дня полиция явилась за Мурадом. Мурада осудили на год и один день тюремного заключения. Что же касается Амалии, то тут вмешались родственники, да и недавний скандал, связанный с гибелью Анны-Марии, сыграл свою роль: ее почти сразу же отпустили.
– Ясное дело, сгорю!
Зычный голос, над которым и возраст, казалось, не властен, раскатистый смех, узловатые пальцы, оливковая палка в руках – ну конечно, Мурад не мог ошибиться: то был Вервер, постаревший, но по-прежнему непреклонный и неуемный. Пассажиры старенького выцветшего автобуса из Тазги были очень молоды. Они обсуждали цены, футбол, вестерны или задавали Верверу вопросы, ставившие его в затруднительное положение:
– А я, Вервер, я тоже сгорю?
– И ты тоже, как все другие.
– И верующие тоже?
– Они в первую очередь.
– А кто в рай-то попадет?
– Пчелы, собаки, улитки… стрекозы.
– Ну, а христиане, евреи?
– Все пойдут в огонь!
Вервер корчился от смеха на своем сиденье.
– То-то будет полымя!
Вдруг он стих.
Он ткнул концом своей палки в Мурада:
– Это же сын Ифтена! Зачем ты пожаловал к нам в деревню, сын Ифтена?
– Чтобы посмотреть на вас, – сказал Мурад.
– Ты что, мало на нас насмотрелся? А? Опять вернулся? А зачем, спрашивается? Здесь все обречены гореть. Все… и ты тоже.
На протяжении двадцати трех километров – сплошные виражи. Автобус петлял по извилистой дороге, идущей вдоль речки, набухшей в эту пору от таяния снегов. Взобравшись наверх, он остановился. А чтобы добраться до деревни, надо было еще карабкаться по отвесной южной дороге. Мурад давно уже отвык от этого и под конец совсем выбился из сил.
На двух параллельных скамьях, стоявших друг против друга, сидели, глядя друг другу в глаза, старики Тазги.
– Мир вам!
Мурад подождал. Они молчали. Тридцать пар потускневших глаз обратились к нему. В своем иностранном костюме, с чемоданом в руке, он почувствовал себя здесь лишним. Сделав несколько шагов, он повторил погромче:
– Мир вам!
Глаза следили за ним, пока он пересекал площадь, Мурад спиной ощущал тяжесть их взглядов, чувствовал, как они давят ему на плечи, однако плотно сжатые губы старцев не проронили ни слова. Мурад поспешил поскорее покинуть площадь. Сначала он пойдет домой, повидается с матерью, потом наденет бурнус и тогда уже выйдет на улицу. Он сядет среди угрюмых старцев и крикнет им: «Взгляните на меня! Я Мурад, сын Ифтена. Вы не забыли меня? Мой отец был такой же, как вы, и дед тоже, да и сам я. Здесь я увидел свет, познал голод, крутые дороги, вкус ячменной лепешки, прозрачные родники. Чтобы вытащить меня из общей нашей нужды, вы послали меня в школу. Тем хуже для вас. Теперь уже слишком поздно. И пусть вся ненависть, какая есть в мире, сосредоточится в ваших глазах, мне все равно никогда не забыть вас. Я взял в руки оружие, чтобы вырвать вас из тисков нищеты и бесправия. В этом нет особой заслуги – ваше рабство угнетало меня. Да и потом, разве не вы научили меня говорить „нет“? Вот почему я готов защищать теперь загнанного кабана в лесу, читателей, поверивших в обман голубых сказок, ваших предков – скитальцев по чужим гумнам, у которых отняли пшеницу, старинную мозаику и величественные тоги римлян, канадцев, уставших сносить себялюбие англофильского большинства, и всех пылающих праведным гневом страдальцев земли».
В просторном доме в верхней части Тазги мать была одна.
– Ты хорошо сделал, что приехал. Мне долго не протянуть.
Мать начала перебирать минувшую жизнь день за днем. Ее голос казался Мураду неузнаваемым, и вдруг он понял: таким же точно, бесцветным, монотонным, надтреснутым, голосом заговорили бы старики на площади, если бы решились открыть рот. И из того, что говорила мать, явствовало одно: деревня, о которой она рассказывала, была вовсе не той, какую знал когда-то Мурад, она превратилась в Тазгу – призрак былого. Названия улиц, площадей, родников остались прежними, но какая сила околдовала эту пустую, навечно недвижно застывшую декорацию?
Мокран и Мух умерли, навеки умолкли Равех и его тамбурин, Уали убили в самом начале войны под тем предлогом, что он, видите ли, берберист. Менаш женился на Аази, только она ли это, Аази, та самая женщина, бесплотная тень которой с трудом передвигается по деревенским проулкам с тех пор, как она возвратилась в Тазгу? Меддур с Давдой уехали жить в Алжир. Только Секура, мать Тамазузт, так и осталась в деревне. Предполагалось, что она должна жить на пенсию, которая ей положена как бывшей партизанке. Но каждому было известно, что ей приходится еще торговать одеялами и бурнусами. А так как дома у нее не было своего угла, она поставила ткацкий станок в доме Мурада, и мать помогала им ткать, Тамазузт и ей, иногда до глубокой ночи.
Так что стоит ли надевать бурнус и возвращаться на площадь? Старики правы, не отвечая на приветствия торопливых вояжеров, приезжающих наведаться в деревню дня на два. И зачем только они приходят на площадь Тазги, превратившуюся в преддверие медленного умирания? Ее завсегдатаи приобрели – ценой каких испытаний! – несгибаемую твердость металла. На протяжении долгих месяцев и даже лет они приучали себя с каждым днем чуть глубже погружаться в прогорклое месиво, составлявшее отныне их жизнь, ничего не ждать, ничего не отвергать, отодвигая мир живых далеко за горизонт, перечеркивающий небо где-то в голубой дали, на немыслимом расстоянии от Тазги. Зачем же в их замкнутый круг вторгался этот непрошеный гость, мешая им спокойно умирать?
Они по горло сыты всякими словесами, после того как всю жизнь подыхали с голода. Они сознательно шли на голод, на тюрьмы, на пытки, а потом их забыли тут, на каменных плитах площади, продуваемой всеми ветрами… как небесными, так и словесными. Однажды вечером подует посильнее, и площадь Тазги опустеет, очистится от их допотопных фигур и от всего того, что составляло когда-то смысл их жизни; от их радостей, их горестей, от их мечтаний и радужных надежд не останется ничего – все унесет ветер, все, вплоть до привычных, милых сердцу слов, которые баюкали их всю жизнь, и все будет так – да уже было, – словно они и вовсе никогда не существовали.
– Если ты голоден, – сказала мать, – я позову Таму. Она испечет для тебя лепешку.
– Я не голоден, – ответил Мурад.
Тама… Мать по-прежнему называла Тамазузт именем, которое ей дали во время войны, когда она была связной капитана Зубира. Мать слишком стара, чтобы менять прежние привычки, слишком рассеянна, чтобы заметить, что имя это звучит надтреснуто, как ее собственный голос, и ничего уже не выражает, стало злой насмешкой, подобно старикам на площади.
В первый раз, когда она явилась в укрытие с корзиной за спиной, Тамазузт сразу не понравилась капитану Зубиру по прозвищу Ахтунг[100]100
Achtung – внимание (нем.).
[Закрыть]. (Во время второй мировой войны капитан, попав в вермахт, был ранен в руку, приобрел прусскую суровость в деле командования и выучил несколько слов, одно из которых – Achtung – он повторял на каждом шагу). Тама не успела еще поставить свою корзину, а капитан уже кричал:
– По какой дороге ты пришла?
– По той, что идет вдоль речки.
– Как? Ты шла мимо сторожевого поста?
– Это самое разумное.
Зубир чуть не задохнулся.
– Самое разумное? Так вот, предупреждаю тебя: если из-за того, что ты прошлась мимо военного поста, случится беда… Achtung.
Он сделал вид, будто нажимает на спусковой крючок своего автомата. Как только Тамазузт вышла, Зубир повернулся к Мураду:
– Придется ее заменить.
– Я ее знаю, – возразил Мурад, – это лучшая связная района. Ей вполне можно доверять.
– Доверять? Женщине? Волос долог, а ум короток…
Он постучал пальцем себе по лбу:
– И внутри – ничего. Вот что такое женщина, Мурад, запомни это хорошенько. А ты ее и в самом деле знаешь?
– Да.
– Ей сколько лет?
– Года двадцать три.
– Замужем?
– Да.
– А где муж?
– Во Франции.
– Дети есть?
– Мальчик.
– Не имеет значения. Надо заменить ее мужчиной.
– Они все на учете.
– А она? Она, думаешь, не на учете? Ты что, принимаешь французов за дураков? Не понимаешь разве, что они нарочно дают ей волю, чтобы потом вытянуть из нее побольше сведений. Да она и на шестьдесят килограммов не тянет, твоя лучшая связная – (сам капитан Зубир был очень тучным), – а еще бегает по дорогам и в лесу с багажом всего, что ей известно. Чересчур легковесна. Стоит потрясти ее немножко… Achtung! А они ее обязательно потрясут, помяни мое слово.
Но заменить Таму было некем, и, пока длилась война, она продолжала носить донесения и ухаживать за ранеными.
После прекращения огня дом Мурада превратился в КП капитана Зубира. Днем он улаживал текущие дела, а по вечерам нередко устраивал урары с молодыми женщинами из Тазги и ее окрестностей. Капитан часто просил Таму станцевать.
Так продолжалось до того дня, когда Секура получила из Парижа письмо, которое отнесла Мураду, чтобы тот прочитал ей его. Письмо было от Шабана, ее зятя, но денежного перевода там не оказалось.
«Я не стану писать тебе длинное письмо, поскольку то, что я собираюсь сказать, не нуждается в лишних словах. Я взял твою дочь к себе в дом затем, чтобы она была матерью моих детей и моей подругой в дни радостей и в дни печалей, а вовсе не для того, чтобы она бегала по лесам и танцевала перед незнакомыми мужчинами. Ты скажешь, что ничего не можешь с этим поделать, но ты могла бы написать мне, а не сделала этого. Поэтому сегодня же можешь забрать свою дочь обратно, я от нее отрекаюсь».
Секура побежала к капитану:
– Теперь, слава аллаху, правосудие в руках мусульман. Надо заставить этого человека взять жену обратно.
– Твой зять во Франции, – заметил Зубир, – пускай там и остается.
– А моя дочь?
– Она молодая, может снова выйти замуж.
– За кого? – спросила Секура. – Все кругом знают, что она всюду следовала за вами, что три месяца она провела в лагере у французов. Никто не захочет на ней жениться.
Ахтунг сказал уклончиво:
– Там видно будет.
– Да кто ее возьмет, си[101]101
Си – почтительное обращение к мужчине.
[Закрыть] Зубир, кто?
Си Зубир разразился:
– Найдет она себе мужа, говорю тебе, даже если мне самому придется на ней жениться.
– Я не шутки шутить сюда пришла.
– Давай поговорим об этом спокойно чуть позже.
После того как все ушли, капитан сказал Секуре, что письмо это ниспослано самим провидением, потому что он сам как раз собирался взять Тамазузт в жены.
– Но ты ведь женат, си Зубир?
– Ну и что? Разве мы не мусульмане? А если моей жене это не понравится, может уходить.
В это самое время Мурад готовил в соседней комнате донесение, которое Тама должна была отнести на КП их группы.
– Последнее, – сказал Мурад. – Когда понесешь его, тебе не придется больше прятаться.
– А как же привычка?
– Скоро забудется. Что ты собираешься теперь делать?
– Мой муж должен вернуться из Франции.
– Он тебе пишет?
– Он пишет матери.
– А что пишет-то?
– Не знаю. Хочешь, перед тем, как идти, я сварю тебе кофе?
– Да.
– Как всегда, крепкий?
– Да.
Из-под опущенных век Тамы медленно катились слезы. Послышались редкие звуки тамбурина. Девушки смеялись. «Тама! Ты не видела Таму?»
– Они зовут тебя танцевать, – сказал Мурад.
Она протянула ему чашку, дрожавшую в ее руках.
– Так на когда рассчитывать?
– Не знаю.
– Я говорил о донесении.
– Я тоже.
– Тама! Где Тама? Си Зубир зовет ее.
– Пойду скажу им, что тебе надо доставить донесение.
– Нет. Я выйду к ним. Пока еще можно делать и то, и другое: носить донесения и танцевать. Все равно уж в последний раз.
Она побрызгала на лицо водой.
– Не видно, что я плакала?
– А ты и не плакала, – сказал Мурад.
Ни разу еще Тамазузт не танцевала так, как в тот день.
Она едва успела присесть, как появился Мурад:
– Я пришел попрощаться с вами перед отъездом.
Раздалось несколько голосов: «Ты уезжаешь? Почему? Теперь-то мы свободны».
– Именно поэтому, – сказал Мурад. – Война кончилась. Я приношу вам благодарность за все, что вы сделали в тяжелые дни испытаний. Слава аллаху, страдания ваши были не напрасны. Теперь наша страна свободна.
– Брат Мурад был истинным патриотом, – сказал Зубир.
«Ну вот, уже и надгробное слово готово, – подумал Мурад, – торопится, мог бы и подождать немного». Он обошел всех присутствующих, по старинному обычаю они поцеловали по нескольку раз друг другу руки, затем разошлись. Вскоре во дворе мечети остались только Мурад с Тамазузт, которая не успела переодеться после танца.
– Ты устал от нас или боишься?
– Я не понимаю, – сказал Мурад.
– Поедешь к французам?
– Не знаю. Сначала поеду в Алжир.
– Вчера ты с ними сражался.
– То было вчера, тогда шла война, да и к тому же…
– Значит, ты от нас бежишь.
– Если я останусь…
– Если ты останешься?..
– У меня есть только три возможности.
– Ты их сосчитал? Ну и какая же первая?
– Убить его.
Она отвернулась.
– А вторая?
– Убить тебя.
Тама с испугом остановила его:
– Не говори мне о третьей, я не желаю этого слушать.
– Убить себя.
Она закрыла лицо руками.
– Первое я могу взять на себя.
Она отвела от лица руки – глаза ее горели холодным огнем.
– Второе – тоже.
Рывком отворив дверь, она бросилась на улицу. Мурад слушал, как в темноте стихали ее шаги.
Вскоре после этого Шабан вернулся из Франции. Старики на площади отметили, что в руках он нес только маленький чемодан – значит, явился ненадолго. Шабан отправился к полковнику, командовавшему здешней вилайей, и всюду раструбил о том, что, если его не рассудят по справедливости, он сам ее добьется, этой справедливости, как это делалось в былые времена. Капитан Зубир получил приказ отказаться от своей женитьбы, Тамазузт было предписано вернуться в дом мужа, но Шабан обязался разрешить жене продолжать работу в рядах освободительной армии; после этого он тотчас же уехал обратно во Францию.
Вечером после его отъезда Секура пристроилась рядом с Тамазузт за ткацким станком, чтобы, по обыкновению, работать до глубокой ночи.
– Шабан уехал довольный.
Тама не отвечала.
– Да и я тоже довольна. Так по крайней мере вы все трое останетесь в живых.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Тама.
– Тебе кажется, что я уже выжила из ума, только не забывай: ведь это я произвела тебя на свет.
– Не понимаю.
– Прекрасно понимаешь. В тот вечер, когда ты осталась с Мурадом одна во дворе мечети, я была в зале для омовений и слышала ваш разговор. Не могла же я оставить тебя с ним одну, зная то, что я знаю.
– Что же ты знаешь?
– В мужья ты хочешь не Зубира и не Шабана.
– С годами ты и в самом деле выжила из ума, совсем выжила.
– Возможно, только запомни: Шабан – твой муж, и он убьет тебя.
– Уйди, – закричала Тамазузт, – уйди!
Когда Мурад сказал матери, что приехал проститься с ней, потому что собирается во Францию, она молвила:
– Я так и знала.
– Я поживу там некоторое время.
– Ты останешься там навсегда.
– Но…
– То же самое говорили оба твои брата, когда в первый раз ехали туда… Нет, я тебя больше не увижу, даже в свой смертный час. Ты приедешь слишком поздно… если вообще приедешь. Но ты должен приехать. Я не хочу, чтобы меня похоронили, как нищенку.
Мурад бросился к двери и выбежал вон. Он спустился по дороге, идущей вдоль речки, той самой, которой некогда ходила Тама, пробираясь в укрытие.
Когда он вернулся обратно, стояла глубокая ночь. На улицах не было ни души, только жались по углам две-три бездомные собаки да скользили меж домов неясные тени, отбрасываемые лунным светом. Пустынная в этот час площадь казалась еще просторней. Мурад остановился. Легкий шум реки и раздававшееся время от времени сонное мычание делали тишину еще более непроницаемой.








