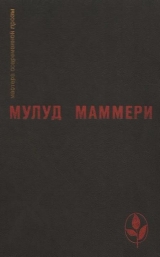
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Часы тонко отзвонили три четверти. Пора было приготовиться. Приготовиться – это значило прежде всего все разбросать. Он терпеть не мог беспорядка, но Клод считала, что это составляло неотъемлемую часть понятия «врач» – в такой же степени, как обширные познания, умение поставить правильный диагноз и костюмы из хорошего английского сукна. Итак, Башир забросил на радиатор отопления носок, который вместе с другим благоразумно покоился в ботинке, разбросал книги, положив на ночной столик одну из них – полицейский роман «Карты на стол», загнул страницу, как будто читал книгу (он ее не читал, он никогда не читал полицейских романов, но, по мнению Клод, врач должен читать полицейские романы, книги, предназначенные для путешествий, – немного легкомысленное чтиво, но в меру, ибо дальше уже начиналась порнография). Он тряхнул письменный стол, чтобы создать беспорядок, бросил в пепельницу позолоченную запонку… Это все было совсем не трудно.
Самым трудным был ответ… Ответ, которого она ждала вот уже двадцать четыре часа, ровно с шести часов вчерашнего дня, с тех пор как при помощи множества оборотов и выражений, осторожных, смущенных, ложно смущенных, она сказала ему, что она… ну… что… ты понимаешь? С ее-то железным здоровьем эти рвоты по утрам (точно ритуал, сказала она! Ну и выражения! Рвота, точно месса, каждое утро), короче говоря… у нее такое впечатление… пожалуй, больше, чем впечатление… ей кажется… она уверена, потому что, понимаешь? Ты врач, ты прекрасно знаешь, что в этой области, несмотря на все предосторожности… О! Да, он знал и очень хорошо все понял.
Первой его мыслью было обвить ее шею петлей, прекрасной петелькой из десяти пальцев сложенных вместе рук, похожих на девичьи, его маленьких, холеных, с длинными ногтями рук, таивших в себе силу, о которой никто и не подозревал; потом сжать, сначала немножко, потом сильно, потом очень сильно, чтобы петля становилась все меньше, все уже, нажать там, где под белой кожей слабо бьется сонная артерия, и сжимать до тех пор, пока… Ты бредишь, старина!.. Он уже видел «Эко д’Альже», «Об», которые выйдут на другой день утром: врач-северо-африканец совершил чудовищное злодеяние, убив свою подругу, мадемуазель Клод Эспиталье из Руайомона! Смакующие статейки: «Какой атавизм, всплывший из смутных вековых глубин, захлестнул сердце доктора Лазрака, окончившего медицинский факультет в Париже? Никуда не денешься… вкус крови…» Ну нет, хватит! Негодование читателей «Эко» и без того нетрудно было возбудить: страх, глупость и презрение населяли их воображение и их ночи достаточным количеством призраков; не стоило давать их фантазии дополнительную пищу, предоставлять им довод там, где они довольствовались лишь измышлениями…
К тому же все это болтовня. Он трус, вот и все. А Клод следовало бы сказать: «Послушай, крошка! Если ты так глупа – я еще мягко выражаюсь, – чтобы не предохраняться, за последствия придется отвечать тебе одной (услышав это, Рамдан сказал бы, конечно, что я подонок, что нас было двое в этой истории, но с Рамданом всегда ведь так: он считает себя самым умным, а на самом деле он просто идиот). Понимаешь? Выбирай: либо ты избавляешься от младенца, либо сохраняешь его для себя одной! Как ты думаешь, что нам двоим с ним делать? Сын алжирца и француженки – это идиотизм, это бессмысленно, он будет несчастен всю жизнь; нигде не будет он чувствовать себя своим – ни среди твоих, ни в Алжире. Он для всех будет незаконнорожденным… О! Я так и знал! Я предвидел, что ты будешь вопить! Потому что для тебя важны только слова, слова для тебя – святая святых: одни тебе нравятся, и ты смакуешь их, точно вермут, другие ты не любишь и спешишь прополоскать горло, если тебе случится произнести что-нибудь этакое; есть еще слова, которые внушают тебе страх, и ты затыкаешь уши. Ты убеждена, что, выбирая те или иные слова, ты тем самым прогоняешь злых духов и подчиняешь себе происходящее… Ты язычница… Ты как римляне до Цезаря, которые словами надеялись обмануть судьбу и при помощи словесных выкрутасов пытались играть в прятки с Юпитером. Только вот беда, боги теперь нечувствительны к поэзии. Они уподобились всем нам и стали гнусными материалистами, и, если у тебя будет ребенок, он для всех станет, хочешь ты этого или нет, выродком».
Я уже слышу ее голос. И знаю ее довод, я сам внушил ей его: на земле три миллиарда людей, и это три миллиарда выродков. «Итак, мой милый, где наши прекрасные принципы? Люди до сих пор живут, как в пещерном веке, и, как тогда, индивидуумы согнаны в касты и кланы, словно бараны в загон. Но я человек 1957 года, я не хочу стоять в загоне, я отрекаюсь от мифов моего племени. Они, мифы племени, требуют, чтобы люди женились в пределах своего клана, вопреки прекрасным принципам светлого разума, которые должны были бы править твоим освобожденным человечеством. Что же это? Трусость или обман?» Да, я знаю, ты найдешь другие слова, эти слишком грубы, ты подыщешь соответствующую формулу, что-нибудь утешительное, но смысл-то от этого не изменится. Так нет же! Человек не ангел и не зверь, несчастье в том… Что? Ты хочешь сохранить своего отпрыска? Прекрасно, но предупреждаю тебя: ты будешь и навсегда останешься матерью-одиночкой (да, так это называется, даже если это и неподобающее выражение), потому что я никогда не женюсь на тебе…
Этого только недоставало! Женушка, малыши, грязные пеленки, насморки, простуды, корь, детский сад, первые зубы, новогодняя елка, отметки за неделю… и презрение… презрение белых и не очень белых, черных, красных, пестрых, презрение всех на свете к тем, у кого не хватило порядочности родиться, как все, в своем клане. Каждый раз приходится думать, кем их считать…
Послушай! Хватит! Избавь меня от этого. Что? Ты настаиваешь? Тогда нечего ходить вокруг да около. Ты говоришь, что носишь ребенка (да, я знаю, так говорили, пожалуй, во времена Боссюэ), кто докажет мне, что он мой, я хочу сказать – от меня, потому что быть его владельцем не самое большое мое желание, я лишен чувства собственности. Если бы я не был отвратительным, сытым, притаившимся буржуа, пасующим перед нищетой и неспособным сделать усилие, я стал бы коммунистом. Нет, что меня ужасает – так это быть с самого начала автором, я хочу сказать, нести за это ответственность. Я не хочу совершать преступления, производя на свет еще одного несчастного. На земле есть три миллиарда бедняг, они пребывают в нищете и тем не менее развлекаются, пытаясь сделать свою нищету более опасной, усугубляя несчастье других, разумеется…
Видишь ли, кто мне докажет, что в течение пяти месяцев, которые ты провела в Париже одна, ты благоразумно сидела, ожидая меня, думая обо мне? Париж город большой, там полно молодых и белокурых, как ты. Ты должна была узнавать себя в голубизне их глаз. А у меня глаза карие, хотя ты говоришь, что они черные, потому что они не светлые, вот и все. Так что?..
– Здравствуй, мой цветочек!
Башир подскочил. На этот раз он даже не слышал, как она постучала.
– А…
Почему у него такой глухой голос?
– Посмотри-ка, тебе письмо. Я достала его из почтового ящика, когда проходила мимо. – И тут же засуетилась. – Вечно у тебя все надо приводить в порядок.
Это были те же слова, которые она произносила каждый день, но сегодня они звучали фальшиво.
– Что же ты не читаешь письмо?
– Это от Рамдана. Я заранее знаю, что в нем: урок марксизма.
– Здесь никого нет, с кем же ты говорил?
– Ни с кем.
– А мне показалось, что я слышала твой голос.
– Тебе слышатся голоса?
Солнце играло в оттенках ее белокурых волос, ниспадавших на оранжевый свитер, который когда-то ему нравился.
– Ты не очень разговорчив.
– Это из-за работы. Я врач, это довольно гнусно.
– Конечно! Разве кто-нибудь когда-нибудь доволен своей работой? А тебе, тебе следовало бы быть пашой: деньги, власть, подушки, на которых можно растянуться, благовония и хорошенькие женщины… Много хорошеньких женщин.
– На несколько дней, возможно, но потом это мне наскучило бы. Но что у меня за работа – всю жизнь наблюдать человеческий род, и всегда в самом худшем виде. Я вижу людей только тогда, когда у них что-нибудь не в порядке: больной за больным, и так весь день… а назавтра все начинается сначала.
– Люди более человечны, когда они больны.
Он подавил раздражение, которое каждый раз вызывало у него то, что он именовал розово-конфетными идеями Клод. Для Клод все пейзажи были чудесными, дети славными, друзья милыми, а платья восхитительными. Столь нарочитое пристрастие оставляло у него на губах пресно-сладкий привкус сиропа.
– Человечны? Они никогда не бывают человечными. У них нет времени.
Ну вот, он заговорил как Рамдан. Тем не менее это была правда – у его больных не было времени на человечность. От зари до темна, каждый день, весь год они дрались врукопашную со своей нищетой. Только для того, чтобы выжить, им нужно быть грубыми, неотесанными, жестокими, нечестными, бесстыдно лгать и воровать без зазрения совести. Самозащищаясь, они усугубили все уродства мира, все, что есть в нем позорного, бессильного, ущербного, бессмысленного, все, что в нем не ладится, все, что плохо или очень плохо. А что же им делать? Для них это вопрос жизни и смерти.
– Облегчать страдания – это прекрасно.
О да! Для нее все было ясно, она жила в согласии с миром, с такими, как она, с самой собой, без проблем, без дыр на чулках, без ненависти и даже без любви, наверное, и в ее глазах мир делился на больных и здоровых, а уж вовсе не на избранных и отверженных. Разумеется, обладая подобной уверенностью, терзаться нечего, можно иметь ребенка. Достаточно напичкать его нужным количеством витаминов и антибиотиков, сделать ему все прививки и уколы, окружить его заботами, чтобы впоследствии он оказался в числе здоровых. И никаких проблем! Мадемуазель не задумывалась над тем, как его назовут, каким будет его общество, с кем или против кого он пойдет, какие он узнает наслаждения, страдания, предрассудки и что это за жизнь, если ничего не знать, не иметь надежды узнать…
– О чем ты думаешь?
– О тебе.
– Я здесь…
– Поди сюда!
Он любил гладить ее длинные волосы. Надо сказать ей! Надо сказать ей сейчас же. Иначе будет поздно, я забуду все доводы… или передумаю.
– Знаешь, – сказала она, – я получила письмо… сегодня утром… от тетушки.
– Что она пишет?
– Что идет дождь и что она мечтает о солнечной стране.
– Пригласи ее к нам.
– Это кстати…
– Что кстати?
– Она приезжает пароходом «Сиди-Брахим» в понедельник, в семнадцать тридцать.
Башир сразу все понял. Тетушка всего лишь ответила на письмо Клод, письмо, в котором Клод объясняла: «Понимаешь, положение, в котором я нахожусь – (она, конечно, написала „интересное положение“. Он терпеть не мог подобных „выражений“, как сказала бы Клод. Выражений, которые отдавали самодовольством, пышной глупостью, ложной благовоспитанностью, бесстыдством), – вызывает необходимость принять решение, а он – ты ведь знаешь его – нерешительный, неопределенный, уклончивый, дилетант и эгоист, хоть сдохни. Главное, не нужно усложнять! Ребенок, конечно, будет орать, и уж это одно могло бы меня остановить. Да, он будет орать, но ведь это так мило, как ты думаешь, тетушка? И уж будь так любезна, тетя Нуну, не обрушивай на меня воскресную проповедь и увещевания. Не заводи старую песню. Не говори мне: „Клод, ты же большая девочка! Нужно было раньше думать, подобные союзы с людьми, которые так на нас не похожи, никогда еще ни к чему хорошему не приводили… и т. д. и т. д…“ Все это я знаю, но ни о чем не жалею, во всяком случае, жалеть уже поздно. Итак, милая тетя, приезжай, приезжай скорее, он тебя послушает, ты умеешь с ним говорить, а я недостаточно умна, или не так уж хитроумна, или недостаточно… просто не знаю… но мне не удается заставить его решиться. И потом, ты ведь ни разу не путешествовала по морю, и ты увидишь, как здесь красиво и светло, и солнышко, и смуглые ребятишки, чумазые и красивые, синее море, сиреневое небо, прекрасные виды, огни по вечерам, когда последний луч света падает на Айн-Тайю. Ты услышишь жемчужный лепет воды! Ну вот! Я попыталась соблазнить тебя, попробовала стать поэтом, чтобы привлечь тебя… как Орфей… Ну что, тетя? Ты приедешь?»
– А знаешь, что она пишет?
– Ты мне только что сказала.
– Да. Она еще добавила: «Я приеду на твою свадьбу».
Ну вот, пожалуйста! Ему следовало бы сказать ей все с самого начала, не дать ей заговорить первой, чтобы сразу же не оказаться в ее власти. Потому что в конечном счете он обещал ей эту свадьбу… или почти обещал… в общем, он уже не знал, но это было так глупо…
Это было в воскресенье. Накануне она ему сказала: «Хочешь, поедем завтра к моей тетушке? Это рядом с Туром. Она живет в деревне, среди коров, сена и лошадей. Она восхитительна, вот увидишь, она раскатисто произносит „р“ и сама печет хлеб». И они поехали туда. Это он-то, который терпеть не мог деревню! Деревья, цветы, зеленая трава, ручейки, птицы, сено, мычание коров – черт знает какой маскарад! Спокойно говорить об этом могут только горожане, потому что они не испытали всего этого.
Деревня – это изобретение горожан! Вся-то она расфуфырена, разнаряжена, разукрашена. В деревне, придуманной горожанами, вечно царит праздник, там зелено до бесчувствия или жарко так, что можно расплавиться. В деревне, прилизанной воображением горожан, нет ни возов грязи, ни роев мух, ни навозных куч, ни нечистот, равно как нет там воспаленных глаз, запаха дерьма, людей, настолько пригнутых к земле (горожанин именует землю «нивой»), что они едва отличаются от своего скота.
Он-то ее знал, деревню! Он там родился, провел там свое детство. В деревне Тала, маленьком глухом селении, затерянном где-то на голубой горе, которой Клод любовалась с балкона, вглядываясь в даль. «Это там твоя гора? Когда ты свезешь меня туда?»
Он приготовился проскучать весь день в зеленой деревне тетушки из Тура и постараться побыстрее скоротать томительное весеннее воскресенье.
Этот день не вернуть. Он не мог припомнить ничего в отдельности, ведь у счастья все так просто. Тетушка раскатисто произносила «р» и сама готовила вкусную свинину; приятно пахло сеном, ручейки были серебряными, как в книгах, в старом доме пахло горячим хлебом, забытой лавандой, ароматом прежних лет. Вернувшись вечером, он словно опьянел от весны, чувствовал себя благородным и добрым, нежным, в согласии с зеленью трав, соком деревьев и говором ручейков. Он вошел к мадам Котар и сказал, держа Клод за руку:
– Вот моя невеста.
У мадам Котар тут же появились слезы на глазах, а потом и у Клод. Они расцеловались, и с этого дня…
Да, он так сказал, его поймали на слове, но ведь это же мошенничество! Впрочем, весна сама по себе уже мошенничество. Именно весной, по воскресеньям, все будущие мужья с сердцем, преисполненным ликования, подписывают, несчастные, свой ордер на арест! В хорошо продуманном кодексе законов браки, заключаемые весной, должны были бы считаться недействительными.
– Потанцуем, милый?
Она хорошо его знала. Ему понадобилось время, чтобы понять и оценить Бетховена и Дебюсси. Да и теперь еще, слушая их, он наслаждался относительно, как бы ради стиля, почти официально. А вот эти противоречивые ритмы, в которых грубые удары, подобные кличам черного мятежа, сталкиваются с печальными и белыми кривыми линиями, длинными, как бесконечные хлопковые поля, эти развинченные и монотонные покачивания, все эти сдерживаемые слезы, которые прорываются сквозь ноты, тяжелые раскаты безропотных, безмерных страданий – все это он тотчас же страстно полюбил. А ведь он пытался сопротивляться. Этот способ убаюкивать свое горе; эти безумные порывы, что, беспричинно взметнувшись, раскалываются, словно разбитое стекло, – все это были африканские фокусы, и нужны они, чтобы вызвать спазмы или исступление, создать атмосферу колдовства, все это приемы чародеев, варварские обряды, предназначенные для варварских страстей. То были не Бетховен, не Моцарт, не Чайковский. Из каких глубин ночи являлись ему, разливаясь по венам, эти атавистические резонансы, это глухое эхо далеких неугасших голосов?
– Давай я поищу станцию. В это время бывает Монако.
Разумеется! Она в любое время дня и ночи совершенно точно знала станцию, которая передает танцевальную музыку. Она включила приемник, подождала. Голос прорвался, сразу стал громким, захрипел согласными, заостряя гласные, голос, пропахший мергезами[30]30
Мергезы – сосиски из баранины с перцем.
[Закрыть], как говорил Башир. То было Радио-Алжир.
«…Обезврежено сорок семь правонарушителей. К сожалению, среди сил порядка – один легкораненый. Чистка местности продолжается.
Вчера в Маженте состоялась волнующая демонстрация франко-мусульманского братства; мусульмане – ветераны войны во что бы то ни стало еще раз хотели заявить о своей лояльности, о своей непоколебимой преданности родине, ради которой они готовы – цитирую дословно – встать грудью против внутреннего врага, грудью, о которую когда-то разбился враг чужеземный.
Вчера в Алжире в двадцать один пятнадцать было совершено чудовищное покушение. Террорист бросил гранату в бар на улице Бюжо. Девять человек ранено, трое убиты: молодая европейская женщина, мать двоих детей, ожидавшая в скором времени третьего, старик и мальчик восьми лет. Убийцу удалось задержать. Следуя заранее разработанному сценарию, ставшему классическим, он решительно все отрицал и не имел при себе оружия. Но многие посетители-европейцы его опознали. Вмешательство патруля воспрепятствовало справедливому желанию толпы заставить убийцу поплатиться за свое ужасное злодеяние. Я вижу, мне делают знаки, наверное, хотят сообщить хорошую новость. В самом деле, только что стало известно, что отправленный на джипе первого РПК[31]31
РПК (Régiment de parachutistes coloniaux) – полк колониальных парашютистов.
[Закрыть] террорист был убит при попытке к бегству…»
– Ты не можешь сменить пластинку?
– Я думала, тебе это интересно.
– Убитые? Тоже придумала. Я не могильщик.
Она повернула ручку. Голос был утомительно знакомым:
«Что же касается внешнеполитической жизни, пальма первенства на этой неделе снова принадлежит Алжиру, где силы порядка…»
– Выключи!
– Но ведь это Монако.
– Давай я поищу. Попробуем Соттенс. На какой Соттенс?
– Сейчас там передают биржевой курс.
Он повернул наугад…
«Вчера состоялось тридцать девятое заседание сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Делегаты заслушали продолжение выступлений по алжирскому вопросу. Выступавший первым уважаемый делегат Южно-Африканского Союза убедительно доказал, сколь опасно для Ассамблеи вмешиваться во внутренние дела государств – членов Организации… Его речь произвела сильное впечатление…»
– Вот мерзость!
Он выключил.
Ему не терпелось выставить Клод – из-за ребенка, из-за тетушки, из-за ее способности помнить программы всех радиостанций мира, что приводило его в отчаяние, из-за войны, из-за вранья радио, из-за его умолчаний, из-за всего! Ему хотелось побыть одному.
– Когда приедет тетя, мы покажем ей страну.
– Самое время!
– Я ведь ничего не сделала этим феллага[32]32
Феллага (пер. с араб.) – «головорезы» – так называли французские колонизаторы алжирских повстанцев.
[Закрыть]… И тетушка тоже.
– Неужели? И им это, конечно, известно.
– Ты хочешь, чтобы мы расплачивались за других? Это несправедливо.
– А они? Вот уже сто тридцать лет расплачиваются они за преступления, о которых не ведают, – это, по-твоему, справедливо?
– О! С тобой всегда так. Сегодня ты страстно выступаешь против них, а завтра – бешено за них.
– Тебе не идет рассуждать. Это портит тебе цвет лица и вызывает прилив крови. Самое лучшее, что ты можешь сделать, – это пойти спать, вот так, по-хорошему.
Он подтолкнул ее к двери. Она открыла ее все тем же точным движением. Он услышал ее шаги, стихавшие на лестнице…
Письмо Рамдана ждало на маленьком столике. Он распечатал его.
«Так вот, чтобы продолжить нашу сегодняшнюю беседу по поводу интеллигенции (утром у меня не было времени: письменные работы… и все остальное). Разумеется, я тебя шокировал, когда сказал, что нужно расстрелять всех, кто не является безусловным приверженцем народного строя. Только что я снова прочитал в „Об“ измышления каких-то немощных умов, выдающих себя за интеллигентов (если только это не просто негодяи, я хочу сказать – умные люди, что поставляют вранье по стольку-то за строчку). Они говорят о совести, о гуманности, о Западе и цивилизации, и все это по поводу той зловещей войны, которую ведут против нас. Это, конечно, подло. Но если поразмыслить хорошенько, то и позиция так называемой левой интеллигенции, закованной в доспехи незыблемых принципов: объективность, чистота, гуманизм, свобода, защита слабых и угнетенных, – тоже не намного состоятельней.
Откровенно говоря, все эти умствующие люди, что, позируя, вмешиваются в ход истории, словно слепые в драку, пророчествуют, прорицают, поют дифирамбы или предают анафеме, – все это несерьезно, даже несправедливо.
Мы – (Рамдан любил отождествлять себя с теми, кого именовал народом), – мы не ученые, и у нас всего одна жизнь – вот эта самая, и, если мы проиграем ее, мы проиграем все.
Именно поэтому мы вкладываем в борьбу столько рвения, столько предосторожностей, столько любви. А для вас, тех, кто учился по книгам, жизнь человека всего лишь одно из звеньев в цепи. Вы изучили историю всех народов, всех минувших веков, это позволяет вам проецировать себя и в будущее. В настоящем же вы задерживаетесь, только когда вас отовсюду теснят и вы не можете больше избежать этого настоящего. Но тут же обходите его. Всего одно мгновение! И тут же ставите его на место (только так и не иначе), а что, спрашивается, значит наша несчастная жизнь, когда ее поставили на место?
Вот потому-то нам вы уделяете внимания ничуть не больше, чем Филиппу Красивому или фараонам VII династии, – рассеянное, вежливое, безотносительное внимание. И конечно же, вы делаете глупости. О, не по злобе, нет, по несерьезности! Потому что, будь то во времена Перикла или наших правнуков, вы с одинаковой легкостью смогли бы прожить те несчастные семьдесят лет эфемерной жизни, к которой мы по своему невежеству, ограниченности, отсутствию воображения так привязаны. Так позвольте же нам по крайней мере прожить их как можно лучше и избавьте от необходимости сносить невообразимую тяжесть вашего легкомыслия».
Башир бросил письмо на столик. «Невыносимо литературны эти учителя!»
Он поставил пластинку Бартока, подумав: «С ним по крайней мере ничем не рискуешь!», достал из резного ящика сигару, погладил свою позолоченную зажигалку, прежде чем высечь из нее тугое желто-зеленое пламя.
Каждый раз эта музыка неизменно завораживала его. Минута, две, три – и путешествие начиналось. Прощай, земля, прощай, заботы! Где люди с их пулями и бомбами? Где умирали они под пытками и ударами? Где ночами преследовал их страх, а днем – отчаянье? Где разделены они на кланы, будто разрезанная на куски дыня? Где?.. Зеленый, красный остров, он приставал к нему под звуки этого голоса, содрогаясь от нежности и сладострастия. Там все было ясным и голубым, созвучным, музыкальным и ровным. Там было так покойно, вдали от всего на свете, и вокруг – ничего, на тысячи миль вокруг не существовало ничего, кроме самого покоя существования. Время не движется, нет больше времени, ни «прежде» с его угрызениями, воспоминаниями, ни «потом» с мукой проектов и проблем, здесь все просто, настоящее без трещинки, забыто недавнее прошлое, и никто не заботится о самом близком будущем, время без конца и без края, и полнота его не терпит дробления.
Кот прыгнул к нему на колени. Точный, шелковистый и мягкий удар разом вернул его в реальный мир: кот с его лицемерными, притворно зажмуренными глазами, тягучим голосом и жесткими усами, с ленью и уловками – это был конец островам, это был мир, где снова все было разодрано в клочья, было полно трещин, где гири на ногах, где смола на крыльях, где тина в каждом уголке ума и сердца. Кот – это девять часов на часах, это целый день впереди и долгая ночь, это прибытие тетушки в порт через пять дней, это стены и Алжир, где рвутся бомбы, это комендантский час в десять вечера (а в Париже в это время он еще только начинал жить).
Он швырнул кота, будто большой баскетбольный мяч, под стол. Кот, ощетинившись всей шерстью, ощерившись всеми зубами, сначала выплюнул свою нахальную, секущую, словно острие ножа, ярость, потом, лжеотшельник, затуманил свирепый блеск своих голубых глаз и, боком, как краб, пробравшись к камину, свернулся там клубком меха.
Башир поднял шторы, скрывавшие дугу алжирской гавани. Каждый вечер там, внизу, повторялось все то же представление. Отсюда, с высот Эль-Биара, был виден весь Алжир, до той самой точки, где море сливается с небом у мыса Матифу, а в ясную погоду можно даже разглядеть голубые хребты Джурджуры. Весной шторы поднимали около семи часов, когда маленькие световые точки, разбросанные сначала по полотну холмов среди сосен, олив, небоскребов и домиков под красной черепицей, вдруг множились, спешили друг за другом, чтобы, как цветы, вспыхнуть здесь, потом там, потом дальше, потом брызнуть отовсюду, залив все полотно, становящееся мягким от рассеянного света и драгоценным от черной оправы ночи. Внизу бесчисленное множество теснящихся жадных огоньков упиралось в черноту моря, казавшуюся от этого еще чернее. Время от времени маяк с мыса Матифу разворачивал вокруг невидимого центра медленный однообразный кружащийся танец своего белого луча, который быстро сникал, и после каждой вспышки еще более холодный мрак обрушивался на крошечную частицу быстротечного бытия.
Вдоль берега – оранжевый хвост огней; благоразумно следуя друг за другом, они постепенно двигались к Алжиру. Шествие их было непрерывно и по воскресеньям длилось два-три часа. То возвращались из леса те, кто играл с друзьями в шары в Фор-де-л’О, Айн-Тайе, а иногда даже в Корсо или Деллисе. Все европейцы, конечно! Окажись среди них алжирец – это было бы более чем неприлично, это было бы оскорблением Их Европейского Величества, чем-то таким, чему нет названия, что даже не карается никаким законом. Башир попробовал подсчитать, сколько алжирцев в цепочке. Один на сто, может, и меньше, отважные, беззаботные, толстокожие. Были и такие, вроде него, кто надеялся проскочить незамеченным. Впрочем, их замечали и тотчас же, не сговариваясь, по молчаливому соглашению, начинали операцию защиты или вытеснения: рассчитанное безразличие, старательно выражаемое презрение, провокация, в лучшем случае бегство – подальше от вируса и заразы.
А этот идиот Рамдан говорит, что на самом-то деле они таким образом приглядываются к нам, уважают нас. Почему уж тогда не любят, раз на то пошло? Прекрасно знаю все его рассуждения, которые, как всегда, хромают: девяносто процентов «черноногих»[33]33
Так называли себя французы, родившиеся в Алжире.
[Закрыть] бедны (что ж нам-то тогда остается говорить?), они работают, выбиваясь из сил, делают детей, воспитывают их как придется, и для них алжирец – оправдание бытия. Ибо видеть, насколько презираемы алжирцы, насколько они несчастны и лишены всякого подобия человеческой жизни, ощущать, как они, европейцы, могут унижать и презирать алжирцев, быть причиной их несчастья и небытия, – все это наполняет смыслом их жизнь. Нищета других позволяет им сносить свою собственную, более того, они перестают замечать ее. Живя своей мелкой, будничной жизнью средиземноморцев, ничем не заполненной, ничем не привлекательной, без прошлого, без надежды, что бы они делали в этой стране без алжирцев? Сдохли бы со скуки. Один араб на сотню отдыхающих – это и есть самый смак, манна небесная, это-то и придает смысл подобным воскресным прогулкам, которые иначе были бы смертельно скучны, как всякие размеренные радости. Раз в неделю они выезжают на прогулку, однако не дальше чем на пятьдесят километров от Алжира, чтобы не изнашивать шины, да и бензин дорог, а страх перед арабами велик (чуть отъедешь от города, они там кишмя кишат). Один араб на сотню европейцев – и они дружно ненавидят этого одного, смертельно ненавидят, но зато как приятно, когда у тебя самого ничего нет, знать, что есть кто-то, кого ты можешь ненавидеть и презирать! Идеально организованное государство должно было бы каждую неделю назначать арабов для воскресных отработок в лесу, на пляжах, в кино. Только не на балу, потому что там были их сестры, жены, ведь своих арабы закрывают чадрой или держат взаперти всю жизнь.
Этот Рамдан хочет быть умнее всех.
Башир взял со столика листки из школьной тетради и перечитал их. Его охватило раздражение. Ответ он написал на розовой почтовой бумаге одним дыханием.
«Дорогой учитель, получил твою филиппику и, как всегда, когда слушаю тебя, начинаю злиться.
Если я правильно понял, позиция твоя, как всегда, проста и ясна: политика – вещь серьезная, и люди умственного труда совершают ошибку, желая привнести в политику способность мыслить, потому что это все портит. Сначала я решил, что ты шутишь, играешь в парадоксы, а потом подумал, что прийти к такому выводу значило бы оскорбить тебя, ты ведь никогда не шутишь серьезными вещами. И все-таки…
Все-таки политика не заслуживает столько чести. Я знаю, это модная болезнь. Все как-то связаны с этим, есть и такие, что живут этим, самые зараженные согласны даже умереть за это. Особенно в последние годы одни исступленно защищают то, против чего страстно восстают другие. Достаточно, чтобы кто-нибудь начал кричать, взывая к ним. Дело сделано. Они принимают крик за аргумент и верят.
Стоит им один раз войти в игру, и они уже не могут из нее выйти. Как наркоману, им каждый день нужна определенная доза возбуждения… или как дервиши. Настоящий дервиш, заслышав скрипку и первые плачущие ноты любимой мелодии или даже тамбурин, отбивающий вдалеке ритм, не может удержаться: он уже там, танцует, извивается, дрыгает ногами, трясется, топает, пока не рухнет с пеной на губах и окровавленными ступнями. Те, у кого в руках смычок, – подлецы, с этим я согласен, но, когда я вижу тех, кто танцует, меня тошнит еще больше. Я даже плюнуть не могу на них, настолько они мне отвратительны. К тому же это их не отрезвит. Напротив, они убивают тех, кто хочет пробудить их ото сна. Евреи прибили к кресту человека, который пришел к ним, чтобы избавить их от дурацких суеверий. Судьи самого просвещенного города в истории постановили отравить мудреца, вызвавшегося излечить их от пороков, таивших в себе сладостную смерть.
Люди сами спешат в загон, чтобы занять свое место в стаде! У них есть удостоверение определенного цвета с номерами, печатями, и подписями, и датами. Так-то уж они не рискуют ускользнуть; с талончиком, удостоверением, ярлыком они пронумерованы, разложены по полочкам и вставлены в рамку. Им не нужно нести груз обременительной свободы.
До чего ж они надоели мне со своей пропагандой! Входи в ППА[34]34
ППА (Parti du peuple algérien) – Партия алжирского народа.
[Закрыть], если хочешь свободы для своей страны. Или ты согласен быть рабом? Иди в ЮДМА[35]35
ЮДМА (Union Démocratique du Manifeste Algérien) – Демократический союз алжирского манифеста.
[Закрыть], мы получим независимость постепенно, не форсируя ход событий. Вступай в коммунистическую партию: научная теория, эффективность гарантированы; национализм – это преходящее заблуждение либо смертельная болезнь. Присоединяйся к Улема[36]36
Улема – ассоциация мусульманской интеллигенции.
[Закрыть], возвращайся к чистому исламу, вне которого ты осужден на этом свете до того еще, как будешь проклят на том. А ну-ка, подойди поближе! Иди сюда! Посмотри, какой красивый ошейник из медных блестящих гвоздей. Ну-ну, иди! Просунь свою шею в круглый ошейник, не бойся! Это не больно. И потом, ты же не один. Оглянись вокруг и сосчитай шеи без ошейников, это можно сделать быстрее, чем пересчитать пальцы на руке.Знаю, что ты хочешь сказать. Прежде всего, чтобы, как всегда, упростить, ты и меня поставишь в загон, приклеишь ярлык: мелкобуржуазный анархизм! И готово. Потом станешь говорить мне о героизме, не о героизме профессионалов, конечно, а о героизме скромных героев, безымянных, тех, что без сабли и кокарды, о героях, которые сами не ведают о своем геройстве. Как будто героизм – это не средство компенсации, вроде опиума или бога. От остальной черни, среди которой они действуют, героев при жизни отличает только большая степень бессознательности или бесчувствия. Небывалые размеры и блеск они приобретают лишь потом, когда существа посредственные, пришедшие после них, тысячами, миллионами множатся в своей посредственности или просто устают от нехитрого счастья, пытаются приобщить свои безумные мечты к памяти предков, предпочтительно наиболее кровавых, и, чтобы вынести серость настоящего, выдумывают блеск минувшего!
Берегись! Культура – она ведь ни на чем не держится. Это лишь тонкий и ломкий налет на прочном фундаменте варварства. Нельзя дуть на него слишком сильно! Достаточно нескольких дней, чтобы медленно воздвигаемое строение ясности, разума, гуманности рухнуло. Еще немного, и ты, подобно всем, станешь участником пляски – либо в узком кругу тех, кто играет на барабане или на скрипке, либо среди великого множества тех, кто надрывается на танцплощадке и двигается только в такт.
Участники бала кажутся смешными паяцами лишь тому, кто глядит на них издали. Но как только ты входишь в толпу, ты сразу же становишься участником пляски, начинаешь с того, что пытаешься уловить ритм, а кончаешь исступлением и уже не замечаешь безумных отблесков во взглядах других, потому что у тебя в глазах такие же.
Пока еще ты в самой начальной, любительской стадии, когда в смешанных туманах обмана, бегства, поисков символов и эмблем рождается легенда. Но если ты не будешь сопротивляться, ты вместе с другими скоро перейдешь на высшую ступень, когда глаза закрыты, чтобы не видеть или видеть все в голубом свете, – ступень намеренного искажения событий, их эпохального возвеличивания и артистического маразма. Знаешь, скоро будет рождаться слишком много поэтов, этих изысканных, узаконенных обманщиков, певцов гармоничного вранья. Платон изгнал их из города. Хватит того, что народ укрощают. Пытаться сверх того еще и одурачить его, убаюкать, добавить к жандарму шарлатана – значит презреть в народе самого себя, ибо это значит презреть саму человеческую сущность. Я знаю, Платон делал вид, будто не ведает, что людей обман привлекает больше, чем истина, и знаю, что бывают такие обездоленные эпохи, когда толпы взывают к басням, как иссохшая земля к росе.
Что поделаешь! Для умов высокого полета достаточно холодного веяния разума. Они не поддаются смутным побуждениям инстинкта, равно как и соблазну общепризнанных истин, вбитых в сознание, как клинья в дубовое полено…»
Башир запечатал письмо, включил «Телефункен». Приемник застрекотал:








