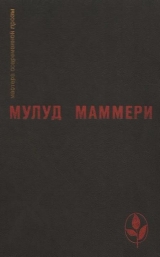
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Как же случилось, что теперь Менаш при одном воспоминании о волосах Давды чуть ли не теряет рассудок?.. Мы так и не узнали, когда свершился в нем этот переворот. Бывало, он целыми часами рассказывал нам о берберийских девушках, с которыми ему случалось провести ночь, когда он по поручению брата ездил в марокканские горы продавать шелк. У него имелся длинный список женских имен, и всякий раз, слыша эти диковинные имена, мы погружались в мечты: Таму, Берри, Итто.
Всему этому конец; теперь Менаш сблизился с ватагой Уали.
Почти все мои воспоминания о Тазге связаны с Уали и его товарищами.
Мы разделялись на две соперничающие группы, и распри между нами наложили отпечаток на все мое детство.
Нас называли «таазастовцы», а тех просто «ватага».
Вокруг верзилы Уали собралась – отчасти случайно, но главным образом по инстинктивному влечению – целая ватага молодых людей – безработных, безнадежных, а подчас и бессовестных. В большинстве своем то были бедняки, а некоторые и вовсе нищие. Нам, таазастовцам, было хорошо известно, что если они частенько и пьют вволю, то едят досыта далеко не всегда. Мы же ни в чем не нуждались.
Все они бросали учение, и то один, то другой из них исчезал на несколько месяцев – уезжали к арабам или во Францию, чтобы немного подработать, ибо в наших краях работы нет; что же касается земли, то она редко возвращает крестьянам затраты на ее обработку. Поэтому участники ватаги пили, когда удавалось, работали, когда представлялся случай, зато каждый вечер непременно собирались на сехджу.
По части сехджи они были мастера. Каждый погожий вечер они спускались на гумно около поля Аафира. Наломав сучьев и натаскав жердей из оград, они складывали большой костер, а разжечь его позволяли мальчишкам – будущим членам ватаги.
Уали, как главарь, наблюдал за порядком. Высокий, с тугими, мощными мускулами, с острым профилем и кошачьим взглядом, вселяющим какую-то смутную тревогу, – таков был Уали.
А думал за всех Равех – маленький, хрупкий, со сверкающими умными глазками и медлительным, притворно сонным голосом.
Но самым занятным из всей ватаги был, конечно, Мух, пастух моего отца.
Из глубин памяти выплывает черноволосая голова, чересчур плотно сжатые губы, запавшие в уголках, черты лица, словно высеченные резцом, свободно ниспадающие полы коричневого, как земля, бурнуса, а главное – ясные, как глубокая, чистая заводь, глаза – это Мух, непревзойденный свирельщик ватаги Уали. Мух был из племени буадду, и только чудом товарищи Равеха приняли его в свою компанию. Но он так восхитительно играл на свирели и на тамбурине, так мастерски плясал! Впрочем, вырос он в Тазге. Когда отец его умер, мальчику пришлось наняться в работники, чтобы прокормить старую мать; он поступил к моему отцу пастухом, мать свою он навещал редко, а деньги пересылал ей с земляками. Он жил у нас как член семьи, и дети называли его «Мух Шаалал», словно он и в самом деле был нам родственником.
Когда наши отношения с ватагой бывали не слишком натянутыми, мы тоже принимали участие в сехджах. Но случалось это редко. В представлении ватаги мы, таазастовцы, были богатеями, и Равех даже дал нам убийственную кличку – «фашисты». Некоторое время, не без пользы для себя, он провел в Северной Франции, работая там на шахте; оттуда-то он и привез это словцо.
Своеобразному словарю Равеха нельзя было отказать в известной точности. Среди таазастовцев я был, пожалуй, наименее состоятельным, однако из дохода с наших земель отцу, хоть и с трудом, удавалось платить за мое учение в Бордо. Менаш был обеспеченнее, по-настоящему же богат среди нас был лишь один человек – Идир: его родитель скупал у нас на горных пастбищах овец и перепродавал их во Францию. Но, по правде говоря, Идира уважали не столько за его деньги, сколько за кулаки, не уступавшие кулакам самого Уали. Кроме того, Идир напоминал Муха – он тоже был своего рода артист, ибо, вместо того чтобы учиться, как мы все, он плавал по рекам, бродил по горам, посещал святыни, ни с того ни с сего отправлялся вдруг в какие-то страны с мудреными названиями, где ему совершенно нечего было делать, а в один прекрасный вечер, когда о нем уж и думать перестали, внезапно возвращался домой.
У нас было лишь одно слабое место – Меддур. Через год он кончил педагогическое училище в Бузареа. В Тазге он стал проповедником всего того, что он разумел под туманными терминами «цивилизация», «прогресс», «новейшие идеи».
До последнего времени ему удалось обратить в свою веру только Акли (он научил его изрекать такие же пышные фразы, какие изрекал сам) да еще несколько бедняков, которых привлекало богатство Акли. Но с самим Акли мало кто считался в Тазге. Многие, среди них Равех и его друзья, и не скрывали от него своего безразличия, а порою даже презрения.
Но что поделаешь? Меддур был братом Секуры (или Ку, как мы все ее звали), а без нее мы не могли обойтись, ибо каким-то образом она первою в Тазге узнавала новые танцевальные мелодии; кроме того, она помнила множество кабильских стихов.
До того как Аази стала моей невестой, она тоже бывала среди нас, и какое счастье, что никто из ватаги не знал об этих двух девушках, не то бы их презрению границ не было. Принимать в свою компанию девиц! Этого только не хватало!
Аази приходилась Менашу двоюродной сестрой с материнской стороны. Мать Аази – Латмас – в свое время выдали замуж в соседнее племя, живущее в другом конце долины; недавно она овдовела, вернулась в родное селение и поселилась с дочерью в своем большом доме, неподалеку от нашего. С той благословенной, но уже далекой поры, когда лихорадка на целый год (единственный раз в моей жизни) удержала меня в Тазге, у нас вошло в привычку собираться на башенке нашего дома. Вся Тазга расстилалась у наших ног. Даже минарет и тот был не выше. Впереди тянулась цепь Иратенских гор с острым конусом гробницы Ишеридена, на востоке виднелась гора и Куилальский перевал, а позади нас – мечеть и за ней снова горы. Нашу башенку было видно отовсюду – она стояла среди низеньких домиков селения, как пастух среди стада. Поэтому мы окрестили ее Таазаст, что значит «сторожевая башня».
Нас все еще называли таазастовцами, но прозвище это утратило смысл, ибо мы давно уже закрыли Таазаст. Ключ от башенки хранился у Аази. Каждый раз в каникулы мы давали себе слово непременно открыть вышку на будущий год, но некогда мы поклялись, что взойдем на нее только в полном составе. И казалось, нас преследовал какой-то злой рок: в решительный момент всегда кого-нибудь недоставало.
* * *
Важными событиями для нас были замужество Ку, замужество Аази, удачная сехджа, окончание сбора инжира, открытие Таазаста, последняя речь шейха в собрании. Но Акли и другие новоявленные поборники цивилизации и просвещения следили за ходом мировых событий. Однажды и мы с изумлением прочли в газетах огромные заголовки и сообщения о том, что мир в мире висит на волоске и что миллионы людей, недовольных своей участью, в надежде улучшить ее, набросятся на миллионы себе подобных.
Теперь, много времени спустя и в свете того, что произошло, тогдашняя наша беспечность кажется мне ребяческой и безрассудной. Прочитав газету, Акли всегда делился новостями с Давдой. Чтобы поразить воображение жены, он охотно сгущал краски, хотя положение дел и без того было трагично. Давда тотчас же выходила на общий двор нашего дома и в окружении женщин на свой лад пересказывала слова Акли, стараясь нарисовать еще более мрачную картину. Она делала вид, будто все это ее совершенно не волнует, разъясняла то, в чем сама ничего не смыслила, подзадоривала себя, пьянела от звука собственного голоса, от тревожных взглядов, обращенных к ней, сыпала подробностями, которые приходили ей в голову в пылу увлечения:
– Самолетов налетит видимо-невидимо. Староста селения Мишле уже приказал рыть траншеи.
И с совершенно бесстрастным лицом поясняла:
– Все мужчины уедут. Все. Останутся только старики, дети и женщины. Как же мы будем пахать?
Женщины слушали ее разинув рот, потом каждая вставляла свое слово, делилась впечатлениями, и завязывался общий разговор. Так продолжалось до поздней ночи изо дня в день.
Всем этим крестьянкам никогда не приходилось бывать дальше Аурира, соседнего села, и даже холм Ишеридена представлялся им каким-то далеким миром; их зачаровывали названия неведомых стран, а война казалась волшебной сказкой с продолжением. Каждый вечер Акли и Давда рассказывали что-нибудь новенькое.
Вот почему все они считали, что Баба Уали, отец Уали, ужасно вредный человек. Каждый вечер, как раз в то время, когда женщины начинали расходиться, слепой возвращался из мечети – еще издали слышалось постукивание его посоха, и каждый вечер женщины спрашивали у него, нет ли новостей, втайне надеясь, что он наконец объявит им о великом событии, но он неизменно отвечал:
– Да спасет нас аллах от этого несчастья! Если святые по-прежнему хранят нас, наши юноши от нас не уедут. Мужья, братья и дети останутся при вас.
– Баба Уали, а вот говорят, будто Гитлер – людоед, дьявол и что все немцы готовы умереть за него как участники священной войны.
Слова эти, хоть и походили на проклятье, по существу, выражали восторг перед человеком, которому под силу перевернуть весь мир.
– Будь он проклят! Да нашлет на него аллах какую-нибудь страшную болезнь, чтобы он умер.
И женщины расходились в унынии. Зачем старик хочет оборвать нить такой занимательной истории? И что он может знать, слепой, старый и неграмотный? Куда ему до Акли, ведь Акли читает газеты!
Женщины у колодцев, на дорогах, мужчины на сельской площади, в кофейнях, на базарах – все только и толковали об этом. И хотя всем этим людям война не сулила ничего, кроме несчастий, они ждали ее чуть не с радостью – у одних были на то свои причины, другие же проявляли странную беспечность. Наконец-то великое событие, роковое (раз оно может стоить жизни), всеобщее (раз оно захватит всех), наконец-то оно нарушит однообразие быта! Люди словно устали от уверенности, что завтра будет то же, что было вчера, и своим молчаливым или высказанным согласием они ускоряли эту безумную гонку к чудовищной развязке. Впрочем, многое подталкивало их на это: голову забивали газеты, радио, тщательно рассчитанный обман. Может быть, думали они, война послужит лекарством от нищеты, которая уже много лет гнетет Тазгу и другие горные селения, от этой всеобщей расслабленности? В конце концов все стали желать войны или по меньшей мере возлагать на нее какие-то надежды.
И правда, давно уже наше селение точил какой-то странный, непостижимый недуг. Его ощущали всюду и нигде; временами казалось, будто он совсем прекратился, а несколько месяцев спустя он внезапно обрушивался с удвоенной силой, словно в отместку за краткую передышку, которая была нам дарована. Жители испробовали все известные средства; но они оказались бесполезными, тем более что никто в точности не знал причины недуга, не знал, какого святого прогневили, в чем молодежь преступила границы дозволенного, в чем ошиблись старики на сходке: пустились ли они в ложные умствования или приняли несправедливые решения.
Два года подряд пересыхали все источники, и за водой приходилось ходить очень далеко – вниз, в долину. Град побил всходы на пашнях; за одно лето в Ифранском лесу, с промежутком в несколько дней, четыре раза пришлось тушить занявшийся пожар. Дети перестали драться, они усаживались в кружок на площади и, словно старцы, толковали об автомобилях и о ценах на продовольствие; они не играли, как, бывало, мы, в шакалов, в вепрей, в затейливые игры, уводившие нас до Аурира, а то и дальше; у них и в мыслях такого не было, чтобы бросаться камнями, и старики, которые запрещали нам это развлечение, так как от него сильно страдали посевы, в конце концов стали жалеть о том, что стайки мальчишек уже не носятся по нивам, как прежде. Детей рождалось столько же, но теперь среди них были все больше девочки; многие новорожденные умирали, и преимущественно мальчики. Над Тазгой дул какой-то тлетворный ветер; старикам помнилось, что раньше они выходили с непокрытой головой даже в снег, а теперь стоило нашему сапожнику постоять под северным ветром совсем недолго (чтобы подковать осла), и на другой день его не стало. А славный был человек! Чинил обувь чуть ли не даром!
Но худшее заключалось не в этом, худшее заключалось в том, что все было погружено в уныние: и мулы, не спеша бредущие вниз по склону кладбища Такоравт, и сонные волы, и женщины с ношами, вяло выполняющие постылую работу, с которой они давно бы могли покончить; казалось, и у людей, и у животных впереди целая вечность и потому им нечего торопиться; можно было подумать, что и мужчины, и женщины не ждут больше для себя ничего хорошего, они словно отреклись от всех мирских радостей.
И уж очень много молодых людей уезжало во Францию на заработки. Земля не могла удовлетворить всех потребностей. У наших дедов было вдвое меньше потребностей и вчетверо больше земли, чем у нас. Поэтому все и уезжали. Начало положили двое сыновей сапожника, уехавшие после того, как сам он умер; за ними последовали Мебарек, Уали, Али, наконец, Идир, но о нем трудно было сказать что-либо определенное. Уезжал он, конечно, не для того, чтобы наниматься на работу; никто даже не знал, возвратится ли он.
Нигде уже не видно было шумных, веселых и дерзких ватаг – все уехали на заработки, и улицы стали тише и пустыннее. Теперь никто уже не поджидал девушек на площадях, и они ходили за водой не чаще, чем было нужно. А ведь прежде они то и дело бегали к роднику; по словам Уали, можно было даже подумать, что кувшины у них дырявые; теперь же они ходили медленно и чинно, причем только к ближайшим родникам, тогда как прежде они хохотали, шныряли глазами по сторонам и норовили пойти за водой в самый дальний конец села. А родники и дороги, где уже не слышался веселый шум девичьих игр, приняли вид суровый и невозмутимый – как рассуждения мудрецов.
К тому же появился избыток девушек; их стало так много, что это внушало тревогу. Никогда еще не было в Тазге столько девушек на выданье, и объяснялось это тем, что юноши перестали жениться. Они рассуждали, как руми[6]6
Европеец, обычно француз.
[Закрыть]: сначала надо заработать достаточно денег, чтобы хватало на двоих; эти нечестивцы воображали, будто могут прокормить детей своим трудом, забывая, что богатство и бедность – все от аллаха. Мудры были наши предки: они сначала женились, ибо знали, что тем самым не только удовлетворяют естественные потребности, но и следуют велениям аллаха и заповедям пророка, а лишь потом уже заботились они о нуждах семьи, ибо безгранична милость аллаха.
Но дело заключалось не только в этом. Сельские сходки постепенно превращались в беседу между моим отцом и шейхом. Во всей Тазге не осталось людей, которые могли бы рассуждать долго и с достоинством: старики не брались тягаться с шейхом или моим отцом, а молодые не умели произнести связной речи по-кабильски; если же все-таки кому-нибудь из них случалось брать слово, то седовласые головы стариков, сидящих в ряд на каменных плитах, никли одна за другой: всем становилось неловко, будто они слушают лавочников. Речи молодых были сухие, холодные, сбивчивые, без цитат из священных книг, и ставили перед собой выступавшие обычно пустяковые цели; любимым их словечком был «лмуфид» – минимум; чего было ждать собранию от их речей, раз они открыто стремились всего лишь к минимуму?
Почти четыре века оберегал наше село и наше племя святой Сиди Ханд у-Малек, но теперь он, казалось, перестал заботиться о нас. Люди как-то измельчали, устали от жизни, и, если бы не благоговение перед предком, которого возлюбил аллах, можно было подумать, что великий святой не хочет отвечать на молитвы наших марабутов[7]7
Марабут – мусульманский отшельник.
[Закрыть], что он разлюбил нас и глух к нашим стенаниям.
Правда, мы сделали все, чтобы заслужить такую немилость. Ведь хватило же у барышника наглости предложить на сходке, чтобы был отменен тимешрет[8]8
Приношение в жертву овец и быков.
[Закрыть], который совершался всем селением в дни малого аида[9]9
Аид – мусульманский праздник.
[Закрыть] и с наступлением весны! «Это слишком дорогое удовольствие. Да и какая польза от этих жертв?» А недавно из Каира приезжал юнец, который выдавал себя за студента из университета Аль-Азхар. Так тот прямо сказал, что это грех. Но да простит его аллах – ведь он еще так молод!
И, однако, большинство мужчин нашего селения согласились с барышником. Последний довод: «Какая от этого польза?» – развеял последние сомнения. Под конец его речи раздался такой одобрительный гул, что шейх, боясь, как бы дело не было проиграно, прервал сходку, прежде чем успели принять решение. Оно будет принято в следующий раз. Шейх надеялся, что за это время аллах просветит заблудших.
– Мы порешим это позже, коли на то будет воля аллаха, – сказал он. – Всему свое время.
Но он никак не мог успокоиться и все толковал об этом с моим отцом и другими стариками.
– До самой моей смерти мы будем каждый год совершать тимешрет, – говорил он, – а когда меня не станет, пусть жители Тазги поступают так, как предначертано свыше.
* * *
Не все, однако, поддавались слепому очарованию неизвестного. Когда Давда начинала разглагольствовать, моя мать, а также мать Менаша и мать Меддура молча устраивались где-нибудь в уголке. Нередко к ним подсаживалась и На-Гне. Приложив указательный палец к губам, они слушали, как рассуждает жена Акли. Впрочем, вскоре женщины уходили, моля святых, чтобы они предотвратили бедствие. Матери не хотели войны, ибо она погубит их сыновей; не желала ее и На-Гне, потому что с юных лет наслышалась рассказов о том, как юноши плыли на войну в челнах, сопровождаемые разряженными и благоухающими молодыми женщинами, а домой они никогда уже больше не возвращались.
Пожалуй, один только Идир, по каким-то своим соображениям, не прочь был отправиться на войну. Когда шла гражданская война в Испании, он узнал, что на стороне республиканцев сражаются интернациональные бригады. Он охотно завербовался бы и на противную сторону, хотя бы ради того, чтобы оказаться среди рифских берберов, но считал, что скорее попадет под огонь, если завербуется к республиканцам. Идир узнал о существовании этих бригад в Блемсене. До Испанского Марокко было рукой подать; правда, Марокко находилось под властью националистов, но искушение было чересчур сильно, и Идир, со своей всегдашней опрометчивостью, переоделся евреем, взгромоздился на старого осла и пересек границу.
Он решил, если его схватят, записаться в армию Франко и направился в Танжер, где, вопреки всякой логике, рассчитывал сесть на пароход; жители селений, через которые он проходил, охотно оказывали ему помощь. Язык рифских берберов мало отличается от нашего, и вскоре Идир почти свободно объяснялся с местным населением. Кошелек его всегда был туго набит, и в друзьях недостатка не было. Тамошние края и люди так пришлись ему по душе, что после каждого перехода он стал подолгу задерживаться в селениях. Похудевший и изрядно обросший, он наконец, цел и невредим, прибыл в Танжер в сопровождении овчарки, которую подарил ему по дороге какой-то рифен.
Из-за этого пса он чуть было не попал в тюрьму, потому что пес не отходил от него ни на шаг, даже в самом центре города. Идиру удалось удрать из дому за какие-нибудь полчаса до того, как за ним пришла франкистская полиция. В отместку он назвал пса Бенито. Он отправился обратно тою же дорогой, но никак не мог расстаться с полюбившимися ему краями и на этот раз перешел во французскую зону Марокко. Он хотел погостить несколько дней в Фесе, у брата Менаша, а заодно попросить у него денег: те, что он захватил из дому, были уже на исходе. Он появился в Тазге со своим псом Бенито, обуреваемый жаждой повидать новые края и новых людей и с чувством неудовлетворенности в сердце – жаль было, что не удалось повоевать.
В Фесе он провел лишь несколько дней и все время беспробудно спал – так он намучился в пути. Однажды утром брат Менаша не увидел Идира – тот ушел, не предупредив хозяина. Идир направился в сторону гор в надежде, что повстречает где-нибудь Берри или Отто, россказнями о которых Менаш прожужжал нам все уши. Так бродил он долгое время, и только от брата Менаша узнавали мы о его странствиях. Маршруты у него бывали сложные и всегда неожиданные: Фигиг, Колон-Бешар, Афлу, снова Фигиг; иной раз, бог весть почему, он вдруг оказывался в Фесе, затем недели на две пропадал где-то в горах, потом снова появлялся в Фигиге. От самого Идира пришло лишь одно коротенькое письмецо; он сообщал, что скоро вернется домой, чтобы явиться на призывной пункт.
Неужели мы после трехлетнего перерыва вновь откроем Таазаст? Ведь, когда возвратится Идир, мы окажемся в полном составе, так как ни Менаш, ни Меддур, ни я больше уже не поедем учиться.
Приказ о мобилизации нас особенно не взволновал, ибо, как известно, мобилизация еще не война. Однако третьего сентября Англия и Франция объявили войну Германии, и тогда уже не осталось места для сомнений. Нам тоже предстояло уехать, и, по-видимому, очень скоро – через несколько дней. Так уж лучше дожидаться Идира в Тазге.
Однако еще до возвращения Идира наш кружок вновь лишился одного из своих членов, ибо решено было воспользоваться последними днями свободы и отпраздновать свадьбу Секуры и Ибрагима. Ибрагим был снят с военного учета. Бакалейная лавочка, которую он держал в Недроме, приносила ему порядочный доход, так что Ку нечего было беспокоиться. И все же она очень плакала, расставаясь с нами. Что же касается Меддура, то он в самых решительных выражениях заклеймил этот варварский обычай – соединять два существа, незнакомых друг с другом, что, однако, не помешало ему принять участие в пиршестве наравне со всеми.
Призывники выезжали до зари, чтобы к шести часам утра уже прибыть на место сбора, в Форт-Насиональ. Я выпил чересчур много крепкого кофе и всю ночь не спал. Ничто не нарушало глубочайшей тишины, кроме лая собак, только под утро запели петухи. Я слышал шаги на улице, они звучали все чаще и чаще. Хлопали двери, перекликались голоса, особенно звонкие в ночном безмолвии. Мне показалось, что вся деревня уже на ногах. Я посмотрел время: было около часу. Дело в том, что до Форт-Насионаля добрых три часа ходьбы.
Не в силах уснуть, я подошел к окну. Ночь была темная. Во мгле то и дело появлялись горящие факелы. Руки, которые их держали, можно было едва-едва различить; когда ветер дул в мою сторону, до меня долетал шум шагов и обрывки разговора: «Пиши почаще… Фуфайку не забыл?.. Не торопись, успеешь…»
На всех окружающих холмах поблескивали огоньки. Куда ни глянь, повсюду во мгле светились белые точки.
Так длилось по меньшей мере час, потом вновь наступили безмолвие и тьма, словно все факелы угасли, все двери и губы замкнулись, все шаги замерли. Не слышно было даже, чтобы куры шуршали крыльями на насестах; все смолкло, застыло, как будто любой звук преждевременно вырвавшись из тьмы, спешил потонуть в ней снова.
Внезапно тишину прорезал чей-то хриплый крик, протяжный, как вой зверя или стон человека, получившего удар ножом в спину:
– Мулуд! Сын мой!
И вдруг в темноте зазвучали голоса сотен людей, которые как будто только и ждали этого сигнала. Вопли неслись из Аурира, из Тазги, из Талы – отовсюду; они сливались, сменяли, заглушали друг друга, сдваивались, и казалось, что они умолкают лишь для того, чтобы опять разразиться с новой силой. С окрестных холмов неслись гортанные стенания, которые смешивались с причитаниями женщин из нашей деревни. Слышались разные имена: Каси, Саади, Мезьян. Юношей оплакивали, словно они уже умерли. Ночь без конца множила и непомерно усиливала стоны матерей, у которых отнимали детенышей, а тьма придавала их воплям еще более жуткий оттенок. Почти изо всех дверей вновь появлялись факелы, но теперь они освещали целые группы людей, кое-где можно было смутно различить силуэты женщин: они били себя по лицу и заламывали руки. Никто уже не думал о приличиях, и, вне себя от горя, изо всех домов женщины выбегали вместе с мужчинами. Настал час ухода призванных.
Теперь, когда мужчины должны были уйти, все представилось совсем в ином свете. Одно дело было слушать волнующие рассказы об исторических событиях, другое – стать участниками этих событий. Так вот что такое война! Тазга больна; ее недуг могли бы вылечить молодые люди, но все они отныне будут далеко. В бурном проявлении горя, которое охватило все селение, было нечто устрашающее и прекрасное. Под моим окном прошла зловещая процессия. Шествие открывал сам шейх. Я еле различал его низкий голос среди причитаний женщин и плача маленьких девочек. Кое-где мелькали мужчины старше призывного возраста, они шли серьезные и невозмутимые. Сзади, прихрамывая, плелась На-Гне.
– Ступайте с миром, дети мои!
И правда, все уходящие были ее детьми.
За спиной у меня послышались приглушенные рыдания. Я обернулся: оказывается, я не заметил, как в комнату вошли моя мать и Аази. И они тоже стали смотреть на эту необычную процессию. Было свежо, и мать накинула на плечи шаль с длинной розовой бахромой, которую обычно носила в холода; Аази не успела приодеться: она пришла в своем простеньком платье в горошек, с кушаком, волосы у нее были растрепаны; и хотя сердце мне надрывали стенания медленно удалявшихся женщин, я все же не мог не заметить, как хороша она в таком наряде…
– И ты скоро уедешь, – сказала мне мать.
– Да нет же, мама; ты ведь знаешь, что студентам дают отсрочку. И даже если меня заберут, я еще буду целый год проходить подготовку, а война тем временем кончится.
Я лгал, чтобы ее успокоить, но она мне не поверила. Объяснять же ей, что некоторые хотят по собственному убеждению принять участие в этой войне, было бы напрасным трудом. Мать заплакала и ушла.
Я страшно боялся, что вслед за ней уйдет и Аази. С самого начала каникул невеста избегала меня, и, по правде говоря, меня это не очень огорчало; но в тот вечер очарование ее красоты, какая-то фантастическая обстановка темной ночи, наполненной зловещими криками, – все влекло меня к ней, и я стал что-то говорить, лишь бы ее удержать. Но Аази меня перебила:
– Когда ты уезжаешь?
– Еще не знаю.
– Знаешь, раз Меддур и Менаш уже получили повестки на январь, ты ведь тоже получил повестку, только скрываешь это, но мне ты можешь сказать.
– Говорю же, что я ничего не получал. Да и не все ли равно тебе?
Она откинула волосы.
– Я не должна с тобой долго разговаривать. Если бы я не пришла сюда вместе с твоей матерью и если бы не эти проводы, сам понимаешь, я ни за что бы не начала этого разговора. Не знаю, представится ли еще случай поговорить с тобой до твоего отъезда. А ведь я уже почти твоя жена. Вот, – сказала она и, сняв с пальца кольцо, протянула его мне так поспешно, будто боялась, что кто-то увидит. – Носи его, даже когда будешь солдатом. Мне нет дела до того, что скажут люди, если узнают это кольцо. А тебе?
– Мне тоже, – ответил я, но не так уверенно.
Она повернулась, собираясь уйти. На пороге она задержалась и опять подошла ко мне.
– Ключ все еще у меня, – сказала она. – Хочешь, я дам его тебе, чтобы ты отпер Таазаст?
– Без тебя я туда не пойду. К тому же Идир не вернулся.
– Тогда я сберегу ключ до того дня, когда мы сможем отпереть Таазаст вместе. Иди с миром, – сказала она.
– А ты оставайся с миром, – ответил я.
Я остался один, с кольцом Аази в руках. Кольцо было серебряное, с финифтью. Я решил пока не надевать его: какой скандал будет, если завтра его увидят у меня на руке! Я подыскал множество предлогов, чтобы повременить с этим; среди них был и такой предлог: надеть кольцо – значит подчиниться прихоти романтичной девушки. И тем не менее я не в силах был изгнать из памяти образ Аази, я все еще видел, как она стоит у окна на фоне неба, с разметавшимися от ветра волосами.
Жители Тазги, кто рыдая, кто молча, небольшими группками шли назад с кладбища, возле которого они расстались с призывниками. Вдалеке на светлом небе в лучах зари вырисовывались гребни Джурджуры.
Как-то октябрьским вечером мать по обыкновению медлительным и монотонным голосом рассказывала стайке зачарованной детворы сказку о том, как Хамама из Сиуфа сидела у моря. В это время кто-то, не постучавшись, отворил дверь. Вошедший пробурчал из-под низко опущенного капюшона невнятное приветствие, но не подошел к камельку, где все мы сидели, а тихо устроился в самом темном углу комнаты. Присутствующие не обратили на него внимания, решив, что это кто-то из соседей. Мать как ни в чем не бывало продолжала рассказывать, и только временами ее голос заглушала собака, которая жалобно скулила за дверью и скреблась, чтобы ее впустили. Когда мать умолкла, незнакомец вышел из потемок и направился прямо к ней. Все вскрикнули: то был Идир.
Он загорел, исхудал, глаза его ввалились; на нем был коричневый бурнус из верблюжьей шерсти. Предстоящий призыв в армию, уже отпразднованная свадьба Ку и моя свадьба, намеченная на ближайшие дни, – все это влекло его домой, да и устал он уже от бесконечных странствий.
Осень была теплая, как и весна, может быть, осень была даже желаннее: все знают, как она быстротечна. Потом сразу наступила зима. С севера беспрерывно дул сильный ветер; он бешено кидался на ставни, и казалось, вот-вот сбросит наш домик с вершины холма. Дождь низвергался потоками, и вскоре на размытых дорогах остались одни лишь голые камни. Но в конце октября выпало несколько чудесных солнечных дней.
Именно на эти дни и было назначено наше торжество. Оно прошло не так весело, как мы с Аази мечтали на вечеринках в Таазасте. Из уважения к юношам, которые уже находились на фронте, мы отказались от урара[10]10
Урар – гулянье с песнями и танцами, устраиваемое женщинами.
[Закрыть], да и вообще война тяготела надо всем, все упрощалось, на всем лежала печать уныния.
* * *
Хорошая погода продолжалась еще с месяц: в тот год осень не спешила уходить. Мой отец даже успел высушить весь инжир, который он уже считал пропавшим, когда пронеслась первая гроза. Почти каждый вечер я спускался с Аази на наше поле в Аафире: мне якобы надо было следить за тем, чтобы сбор и сушка инжира были закончены как можно скорее, прежде чем зарядят зимние дожди. Такие прогулки противоречили обычаям: муж не выходит с молодой женой сразу же после свадьбы, – но война все оправдывала.
По правде говоря, сбор урожая был для нас только предлогом, чтобы вдвоем провести в полях прохладные дни поздней осени. Мух – с помощью нескольких работников из его села – отлично справлялся с делом. К тому же ни у Аази, ни у меня не было ни малейшего опыта. Наш пастух хорошо понимал это; он наскоро докладывал мне о сделанном и возвращался к своей работе, а я таким образом мог кое-что рассказать дома. Каждый вечер он ухитрялся присылать мне с подпаском свежего инжира, причем каждый раз это был якобы последний, а на другой день каким-то чудом опять появлялись свежие плоды. Когда мы приходили, Мух смотрел на нас со снисходительной и лукавой улыбкой, как бы говоря: «Ну кто же ходит в поле в таком наряде?»








