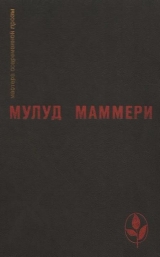
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
В какой-то момент Амайас, очутившись перед Амалией, застыл на месте. Повернувшись к ней лицом и положив свои длинные смуглые пальцы на рукоять меча, медленно вынул его из ножен и затем, двигаясь сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, стал изображать перед ней дуэль на мечах. Выпады следовали один за другим, быстрые, точные. Клинок рубил, колол, со свистом рассекая наискось воздух вокруг высокой фигуры Амайаса, крепко державшегося на своих упругих ногах. Амалия с невозмутимым видом следила за всеми выпадами, и даже когда клинок сверкал у нее прямо перед глазами, она только улыбалась, так ни разу и не дрогнув.
Буалем, размахивая ножом, двинулся вперед, повинуясь зову коротких вспышек меча. С минуту он стоял недвижно, словно бросая вызов, затем отошел и, чуть ли не бегом сделав круг возле Амалии, вернулся назад. Меч плясал над тонким, трепетным станом, сверкающие глаза Амайаса то были прикованы к Амалии, то устремлялись в небеса.
Затем Амайас обратил лицо к луне. Глаза его светились холодным восторгом, устрашившим Амалию там, в дюнах, где они недавно лежали. Вдруг пронзительный крик Суад взмыл над музыкой, заглушив даже ветер: клинок Амайаса просвистел так близко от головы Буалема, что все замерли. Ба Хаму рухнул на землю там, где стоял, словно крик Суад пригвоздил его к месту. Мурад с шоферами встал между Амайасом и Буалемом. Лекбир снял свой бурнус и накрыл им Ба Хаму, плечи которого судорожно тряслись. И лишь меч Антара не унимался, расходившись в образовавшейся внезапно вокруг него пустоте.
Амайас сделал несколько шагов навстречу луне, повернулся к Амалии, потом, опустив меч наискось перед ней, произнес на языке туарегов какие-то слова, которых никто не понял.
Но Буалем вдруг остановился. Он встал на колени лицом к Амалии, очутившись таким образом между ней и словно вросшей в землю фигурой Амайаса, которого луна вместе с его длинным мечом освещала сзади, затем принялся яростно тыкать ножом в песок. Шум вонзавшегося лезвия напоминал шипение раскаленного железа, опущенного в воду.
Амалия сделала шаг, другой, медленно приближаясь к Буалему.
– Ты с ума сошла, – шепнул Серж, – не подходи к нему.
Когда она была уже совсем рядом, Буалем с сухим хрустом всадил свой нож в землю. Пальцы его дрожали. Амалия протянула руку. Он поднял на нее обезумевшие глаза. Она улыбнулась ему. Потихоньку, небольшими рывками он вытащил нож и отдал ей. Она снова ему улыбнулась, опустила нож в полосатый шерстяной мешочек, висевший у нее на шее, потом все тем же размеренным шагом направилась к Амайасу, взяла у него меч и собственноручно вложила его в ножны из красной кожи.
– Лучше бы тебе совсем его забрать, – заметил Серж.
– Я знаю еще много других таких же мелодий, – сказал Лекбир.
– Нет, брат Лекбир, – всполошилась Суад, – на сегодня довольно. Спасибо тебе.
Лекбир погладил дырочки на своей свирели и пошел в ту сторону, где Ба Хаму, теперь уже успокоенный, сидел, закутавшись в его бурнус.
– Брат мой Ба Хаму, да ниспошлет нам всевышний свое прощение.
Ба Хаму высунул голову из капюшона бурнуса.
– Зачем ты играл это?
– Не знаю. Брат мой Ба Хаму, эта музыка взывала ко мне, она рвалась через тростниковую дудочку, надо же было дать ей выход. Брат мой Ба Хаму, кто знает, будем ли мы живы с тобой завтра? И потом, ты видел, какое это было удовольствие для всех остальных? Они парили над землей. Музыка заставила забыть их о своих заботах, болезнях.
– Они чуть было не перебили друг друга.
– Да ниспошлет им всевышний свое прощение. Они непривычны к этому. Настоящие дикари… Когда поет свирель, мы с тобой, брат Ба Хаму, думаем не о смерти, во всяком случае, не о чужой.
В первых проблесках зари стали проступать неясные силуэты верблюдов, пережевывающих свою жвачку возле палаток. Пора было сниматься с лагеря, чтобы успеть тронуться в путь по утренней прохладе. Амайас оставил своих верблюдов Лекбиру и Ба Хаму.
– Я во всем виноват, – говорил Мурад, пока они свертывали палатки, – мне следовало предупредить вас.
– О чем? – спросил Серж.
– О пустынном безумии.
– А что это такое?
– Болезнь.
– Какая связь?
– Тогда мы, возможно, избежали бы того, что произошло сегодня ночью. Всех, кто отправляется в Сахару, рано или поздно поражает пустынное безумие.
– Что же это такое?
– Никто толком не знает. Просто человек испытывает странное чувство. Ощущает себя свободным.
– От чего?
– От всего. Для него не существует никаких преград, никаких запретов, никаких условностей. Человек чувствует беспричинное возбуждение, лихорадочно взвинчен. Ему все кажется возможным. Обычно в таком состоянии достаточно бывает любой искры, ну, например, мелодии свирели…
– Словом, эффект физического воздействия, – сказал Серж, – сухость воздуха или ветер, атмосферное давление…
– Не знаю. Известно только одно: все через это проходят, кто раньше, кто позже – в зависимости от характера. Но все без исключения. Менее крепкие сдаются сразу же в Гардае, другие держатся до более южных широт, но дальше Джанета практически никто не выдерживает. Самое худшее – это, естественно, когда все поражены одновременно, вот как было с нами, например. В таком случае лучше знать об этом заранее и сразу идти спать.
– Амайас говорит, что это джинны, – сказала Суад, – и мне кажется, он прав.
Она повернулась к Сержу:
– А ты, конечно, считаешь, что это атмосферное давление?
– Какая разница? – молвил Мурад. – Атмосферное давление – это современное название джиннов.
На другой день они пересекли эрг[108]108
Песчаный массив в пустынях Северной Африки.
[Закрыть]; безграничная пустота вызывала у них неясную тревогу, которую они не в силах были побороть. Только к вечеру им повстречался какой-то тарги, бродивший в поисках верблюдов, которых он выпустил в пустыню полгода назад. Он сказал, что Джанет уже недалеко, и сообщил им кое-какие дополнительные сведения. Они были благодарны ему за то, что он нарушил гнетущее безмолвие, окружавшее их с самого утра.
Вскоре им стали попадаться все более густые заросли кактусов, некоторые из них росли вдоль тропы. И вот уже сиреневые сумерки прорезали первые слабые огоньки. К ночи они добрались до Джанета.
По программе следующего дня на утро у Амалии был назначен визит к местным властям. Первым они решили посетить начальника даиры[109]109
Даира – округ, область (араб.).
[Закрыть].
Темное платье, маникюр, черные перчатки и скромный макияж – все было как полагается, во время свиданий с официальными лицами Амалия взяла себе за правило не делать никаких скидок на тяготы климата. Остальные пришли в обычных дорожных костюмах, за исключением Буалема, который оделся по-городскому, и Суад, явившейся в одеянии примадонны, собравшейся на торжественный вечер в миланскую оперу.
– Здесь у нас, – рассказывал супрефект, – владения даиры Аджера. Джанет – это первая настоящая столица Сахары, вы скоро это поймете. Селения, которые вы посещали до сих пор, возникли на базе нефти, вы, должно быть, заметили. Здесь мы несколько поотстали. Это вы увидите завтра, если пойдете на себибу – традиционный праздник Джанета. Да, мы отстали, но работаем не покладая рук, чтобы как можно скорее наверстать упущенное, и скоро вы не почувствуете разницы между Джанетом и любым городом на севере.
Через дверь, раскрытую молодым негром, который принес им кофе, ворвался снаружи уже накаленный воздух. В конторе начальника даиры работал кондиционер.
Мурад рассказал о задачах их экспедиции.
– В таком случае вам следует поторапливаться, – сказал начальник даиры. – Вы ведь знаете пословицу: «Если хочешь написать книгу о Сахаре, поезжай туда на три дня. Если собираешься писать статью – поживи там три месяца. Но если останешься на три года, рассказывать будет нечего».
– Нас интересует второе. Так что еще не все потеряно, – сказала Амалия.
– А что вы все-таки хотите посмотреть?
– Кочевников, – поспешил вмешаться Буалем.
Супрефект рассмеялся:
– Это попросту невозможно!
– Их больше нет?
– Они есть, только где их найти? Вот уже два года я гоняюсь за ними, чтобы лечить их, учить или хотя бы выдать удостоверения личности, да просто пересчитать их. Какое там, с тем же успехом можно гоняться за ветром.
– Наверное, им и так хорошо, – сказала Амалия.
Супрефект пристально посмотрел на Амалию, прежде чем ответить.
– То же самое говорили офицеры, которые командовали здесь в колониальные времена. У туарегов есть верблюды, скрипки, пустыня и амулеты, и они счастливы этим, так почему бы не оставить их в покое? А мы говорим: нет! Мы говорим: надо оторвать туарегов от их скрипок.
– Словом, хотите заставить их быть счастливыми на законных основаниях, – заметил Мурад.
– Может быть, стоит принять во внимание, что сами-то они не хотят никаких перемен? – возразила Амалия.
– А что можно хотеть в таких случаях? – спросил Серж. – Если туареги не знают ничего другого, кроме своего феодального режима, как же, по-вашему, они могут хотеть чего-то другого?
– И речи нет о том, чтобы принуждать их к чему-либо, – сказал супрефект. – Их следует убеждать, объяснять им, повторять одно и то же месяц, год, а если понадобится – всю жизнь, долбить, пока не будет толк.
Он протянул руку к толстой синей папке, лежавшей на краю стола, и вытащил оттуда лист бумаги.
– Вот вам, пожалуйста, документ.
Он протянул бумагу Суад.
– Взгляните. Как, по-вашему, что это такое?
– Шахматная доска.
– Предположим. Это сетка… с указательными стрелками, номерами и такими крохотными клеточками, что угорь не проскользнет, пчела или даже комар не проскочут. А они проходят. Их страшит все, что стоит на месте, однако цивилизация – это творение оседлых людей. Кочевники в лучшем случае везут ее с собой, зачастую коверкают и никогда ничего не созидают. Так что весьма сожалею, но вам не удастся увидеть кочевников моей даиры.
– А нельзя ли посмотреть школу? – спросил Мурад.
– Превосходная идея. Школа – великолепное средство по вовлечению в общенациональную жизнь. Разумеется, люди, живущие здесь, такие же алжирцы, как мы с вами, но, видите ли… Тут есть определенная доля зависимости от климата, большую роль играют история, традиции.
– С этой точки зрения, – сказал Буалем, – людям, живущим здесь, повезло по сравнению с теми, кто живет на севере. Они не испорчены.
– Естественно. Я только хотел сказать, что у современного государства, которое мы хотим построить, есть свои законы. Колониальные власти практически ничего не сделали для того, чтобы подготовить к этому жителей Сахары. Такие понятия, как корни, порядок, работа, чужды их традициям. Тарги сочтет для себя бесчестьем взять в руки мотыгу, плуг или молоток, но готов проделать сотни километров на спине верблюда, чтобы только послушать, как где-то в кочевье какая-то женщина играет на скрипке. То же самое со школой…
– Говорят, будто у них женщины учат своих ребятишек грамоте.
– Алфавиту, который они одни и понимают, но разве этого достаточно? Всюду в других местах в Алжире родители из кожи вон лезут, чтобы их ребятишки поступили в школу. Здесь же за ними пришлось посылать жандармов. Вначале процент посещаемости был ничтожный, и даже те, кто приходил, часто отсутствовали без всяких на то причин. Но мы все-таки нашли способ заставить их являться: открыли столовую. Ребятишки питались в школе бесплатно.
– И они стали ходить?
– Сначала – да, но, как только забыли о том, что такое голод, стали исчезать опять. Пришлось отменить короткие побывки.
– Какая связь?
– Стоило ребятишкам вернуться в кочевье, они уже не возвращались. Им гораздо больше нравилось шататься по пустыне, пусть даже на голодный желудок.
– Других проблем у вас нет?
– На прошлой неделе двое мальчишек сбежали из интерната. Мы видели, в какую сторону они направились, – наверное, к своему кочевью. Мы послали за ними вдогонку жандармов. Если через два-три дня их не найдут, ребятишки умрут от жажды… В общем, как правило, школу они не любят.
– Если бы дело обстояло иначе, были бы все основания для беспокойства, – заметил Мурад.
– Вопрос в том, о какой школе идет речь, – сказал Буалем.
– Вот именно, – подхватил Серж.
– Если бы речь шла о той школе, где им внушали бы, что их предки галлы жили в Галлии, то это можно было бы еще понять, – сказал со смехом начальник даиры.
Буалем с Сержем рассмеялись вместе с ним.
– Самое лучшее – пойти посмотреть…
В школе – просторном здании, построенном из твердых материалов, «как на севере», заверил супрефект (те же огромные окна, распахнутые навстречу нестерпимому зною, тот же двор, залитый серым цементом), – песок сочился отовсюду: из-под дверей, сквозь окна; от этого заедало шарниры на петлях, засорялись сточные желоба, песок скрипел под ногами в классах. Кроме алжирских учителей с севера тут были французы, работавшие по договору. А тех, кто приехал с Ближнего Востока, легко было узнать по выговору, а иногда и по одежде.
– Салям!
Через окно, откуда доносились фразы, изрекаемые громким голосом с египетским акцентом, Буалем обменялся с учителем длинными приветствиями, затем повернулся к своим спутникам.
– Это урок истории. Учитель разрешает нам войти, с вашего позволения, господин директор.
Учитель снова начал священнодействовать. Он старательно следил за дикцией перед лицом такой аудитории – еще бы! гости из столицы. Однако учеников отвлекло это нашествие марсиан. Несколько горделивых профилей не могли заставить забыть затравленные взгляды всех остальных. Мурад с Амалией сели на последнюю парту рядом с подростком, глаза которого лихорадочно горели на матовом лице.
Громогласные поучения преподавателя тонули в абсолютной тишине.
– До ислама царило невежество. Предки арабов жили, как живут сейчас ваши родители. Это были варвары, они хоронили своих дочерей сразу же, как только те появлялись на свет. Затем появился Коран, который принес с собой благословение, мудрость, цивилизацию. Если вы хотите походить на своих родителей, вы останетесь варварами и невеждами. Итак, отвечайте… Кто вы?
Зажатая в руке учителя длинная тамарисковая палка бичевала воздух. Сорок пар глаз со страхом следили за ней, пытаясь найти спасение и от нее, и от громкого голоса. Буалем наклонился к ученику, который сидел ближе всех к нему, и шепнул ему, но так громко, чтобы и остальные услышали:
– Отвечайте: арабы и мусульмане.
– Итак, кто вы? – повторил учитель.
Взгляды были прикованы к столам, словно ответ должен был исходить оттуда. Буалем негодовал.
– Вы не можете ответить?
Мурад наклонился к Суад:
– Нет, они не могут.
– Почему? Ведь это так просто.
– Не могут, потому что у них нет выхода.
– Как это – нет выхода?
– А так. Они должны отречься либо от истины, либо от своих братьев. А они не могут. Они слишком молоды.
Буалем расслышал только последнюю фразу.
– Слишком молоды, слишком молоды! Как раз сейчас и следует их воспитывать.
– Я пробовал, – говорит учитель, – но одному это не под силу.
– А власть? Не забывай о власти, учитель. Власть готова предоставить в твое распоряжение все, что тебе потребуется, правда, господин начальник даиры?
– Разумеется, – заявил супрефект. – Однако учитель и так наверняка прекрасно со всем справляется.
– Я исчерпал все средства убеждения, – сказал учитель.
– Тогда употреби другие! – крикнул Буалем.
– Мне кажется, тут нет оснований драматизировать, – сказал директор.
– Я не драматизирую, господин директор, но ставка слишком велика.
– Велика, зато выигрыш обеспечен заранее, потому что у ребятишек нет выбора. Если не хотят подыхать с голода, надо приспосабливаться, учиться какому-нибудь ремеслу. Набегами теперь не проживешь да и рабов нет, чтобы на них работать. Если хотят есть, придется отказаться от варварских привычек.
– Вот именно. Что я вам говорил? Никаких скрипок, – добавил супрефект.
– Учитель, вы позволите? – спросил Буалем.
Он показал пальцем на парнишку с длинными курчавыми волосами, который с самого начала привлек его внимание. Один его вид вызывал у него раздражение. Тот не опускал головы, как все остальные. Он невозмутимо взирал на посетителей – мало того, во взгляде его сквозило нечто вроде высокомерного безразличия. Буалем подумал: в этом взоре все еще отражается пустыня, надо попробовать переломить его.
– Послушай… ты… да, ты… Кем ты хочешь стать?
Взгляд черных глаз не дрогнул.
– Как тебя зовут?
– Ахитагель.
– У них довольно странные имена, – заметил учитель.
– Ахитагель, – продолжал Буалем, – когда ты кончишь школу, кем ты хочешь быть?
Полукружие тонких губ застыло над плотно сжатыми зубами. Ахитагель довольно долго молча смотрел на Буалема, затем взгляд его затерялся в солнечном сиянии, отражавшемся в небесном квадрате, очерченном окном. Буалем с силой тряхнул мальчика, схватив его за тонкую руку.
– Ответишь ты, наконец, или нет?
Послышался беспечный и ясный голос Ахитагеля:
– Шофером!
Буалем посмотрел на учителя, тот в свою очередь на мальчика, затем воздел руки к небу и в изнеможении уронил их. Он всеми силами старался сохранять спокойствие.
– Чтобы стать шофером, совсем не обязательно ходить в школу.
Он повернулся к другому ученику:
– А ты?
– Шофером!
На этот раз ответ последовал незамедлительно.
– Ты?
– Шофером!
– Шофером!
По мере того как палец повелительно указывал то на одну, то на другую голову, голоса, все более уверенные, повторяли одно и то же:
– Шофером!
Безудержный гнев распирал грудь Буалема, но он не мог найти подходящих слов.
– Ладно, шофером, – сказал учитель, – но объясните, почему именно шофером?
Ахитагель поднял руку.
– Хорошо, ответь ты, – сказал учитель.
– Потому что можно ехать куда хочешь.
Орлиный профиль и тонкое лезвие взгляда из-под полуприкрытых век.
– Вот вам, пожалуйста, – сказал Буалем по-французски, чтобы было понятно Амалии, – после стольких лет интернирования они так ничего и не поняли.
– Интерната, – поправила его Суад.
– Пустыня въелась в их кожу, и вылечить от этого можно, только содрав ее.
– Йа салям!
Учитель бросился к Буалему и поцеловал его в лоб.
– Вот именно, ты нашел нужное слово… въелась в кожу… Мы это поняли после недавнего случая с Элюаром.
Все взоры обратились к учителю.
– С Элюаром? – спросил Мурад.
Отвечал директор.
– Это случилось на уроке французского языка.
– А Элюар?
– Учитель давал урок грамматики. Кажется, речь шла о спряжении глагола. Для иностранца это довольно трудно. Учитель хотел привести пример. Да вот и он сам. Он сумеет лучше объяснить, чем я.
Под окном с черным тюрбаном на голове, в красных кожаных сандалетах и развевающейся гандуре проходил молодой учитель – из местных, как им показалось. Директор окликнул его. Когда сахарец вошел, все увидели, что у него голубые глаза, не прокаленное солнцем лицо, и говорил он с ярко выраженным акцентом уроженца юга Франции.
– Симоне, эти господа прибыли из Алжира. Мы как раз говорили о вашем уроке по Элюару.
– Это был не урок по Элюару, а просто урок грамматики. Я хотел привести пример.
– И что же?
– Я взял Элюара, потому что люблю его. И начал читать. В классе было шумно, как обычно. Видите ли, с ребятишками всегда так… Но скоро я почувствовал: что-то случилось. Полнейшая тишина – при нормальных обстоятельствах такого не бывает. Я поднял голову. Весь класс смотрел на меня, как будто ждал чего-то. Я не мог понять, в чем дело, и продолжал читать, немного запинаясь. До конца я так и не дошел: услышал, как кто-то всхлипнул – раз, другой. Под конец всхлипывания стали доноситься со всех сторон. Я опять поднял голову. Плакала половина класса. Я пробовал читать дальше, но не смог… В этот момент зазвенел звонок. Я очень обрадовался и сразу ушел.
– Вы не спрашивали их, почему они плачут?
– Нет… Мне было как-то стыдно.
– Стыдно? Почему?
– У меня было такое ощущение, будто я жульничаю. Конечно, я люблю элюаровскую «Свободу», прекрасная вещь, но, в конце концов, это же литература, не более того, по крайней мере для меня. А для них – так мне показалось – это не было литературой. Не знаю, понятно ли я говорю.
– Очень понятно, – сказала Амалия.
Мурад попытался коротко объяснить учителю:
– У нас с европейцами разные понятия о свободе. Наше основывается на аллахе, а у европейцев – ни на чем. Свобода – это прекрасно, но человек – существо несовершенное. И если его не поставить в определенные рамки, не заставить следовать определенным правилам, он готов поддаться пороку, насилию, всякого рода извращениям.
– Свобода на Западе, – сказал Буалем, – это анархия, это свобода шакалов в лесу.
– Или свобода шоферов на дорогах, – со смехом добавил учитель.
Буалем снова повернулся к Ахитагелю:
– А тебе не хочется стать санитаром, почтальоном, секретарем мэрии, преподавателем, как твой учитель? Жандармом быть не хочешь?
На этот раз ответ последовал незамедлительно, четкий и ясный:
– Кала!
– Что он сказал? – спросил Буалем.
– Он сказал: нет, – ответил Мурад. – На языке туарегов «кала» означает нет.
– А почему? – спросил Буалем.
Голос Ахитагеля стал хриплым, ответ прозвучал коротко:
– Кала, жандармом – нет.
– Но почему? Почему? Жандарм – это власть.
Тут вмешался подросток с лихорадочно блестевшими глазами:
– Из-за матери.
– Его мать не хочет, чтобы он стал жандармом?
– Ахитагель из племени ифорас.
– Ну и что? Разве нельзя быть жандармом, если ты ифорас?
– Нет.
– Почему же?
– Ахитагель из Мали.
– Ты что-то путаешь, – сказал Буалем. – Разве он не может быть жандармом в Мали?
– Нет.
– Тогда скажи, почему? – спросила Амалия.
– Из-за жандармов Ахитагель и пришел сюда. Рассказывай, Ахитагель.
Ахитагель смотрел в сторону Буалема, но, казалось, не видел его.
– Так вот, – начал подросток, – когда жандармы пришли в палатку Ахитагеля, он очень испугался, потому что там были только его мать, его старший брат и он сам.
– А его отец? – спросил Буалем.
– Отец? Скажи, где был твой отец, Ахитагель.
Но Ахитагель, казалось, ничего не слышал.
– Его отец ушел в горы вместе с другими мужчинами, они взяли ружья и копья.
– Наконец-то! – воскликнул Буалем. – А что он там делал в горах, отец Ахитагеля, со своим ружьем и копьем?
– Воевал, как все другие мужчины. Расскажи ты им, Ахитагель.
Ахитагель с трудом оторвал взгляд от окна и, не останавливаясь, стал рассказывать ровным голосом.
Жандармы, оказывается, пришли спросить, где его отец. Мать Ахитагеля сказала, что она ничего не знает. Тогда один из жандармов ударил ее плетью. Плеть упала на землю. Жандарм взглядом приказал старшему брату поднять ее. Старший брат посмотрел жандарму в глаза и с улыбкой сказал: «Подбери!» Бригадир обезумел от ярости. Он опрокинул мать и ударил ее сапогом – раз, другой, потом стал бить без разбора, приговаривая: «Это ты, это ты воспитала его таким!» Затем швырнул старшего брата к стенке. Брат упал, даже не вскрикнув. Он был мертв, а глаза оставались открытыми. Бригадир рявкнул: «Закрыть!» Жандарм, который был с ним, усмехнулся: «С тем, что у него в кишках, он и так закрылся – навеки!» – «Я говорю о глазах». – «Теперь это не страшно, они уже никогда ничего не увидят». – «Посмотри, даже мертвый он глядит на нас с презрением». – И бригадир ткнул штыком в один глаз: «Вот так, а теперь презирай, если можешь».
– Это варвары, – сказал учитель, – кроме спеси и бунта, от них нечего ждать.
Амалия склонилась к Ахитагелю и провела рукой по его взъерошенным волосам.
– Ахитагель, если бы у тебя был хороший грузовик, что бы ты сделал?
Он взглянул на нее с жадностью, словно ждал, что она сей же миг выдаст ему грузовик. Губы его приоткрылись, глаза заблестели, и Ахитагель улыбнулся: это была первая улыбка, которую они увидели в классе.
– Я съездил бы повидаться с матерью.
– Ты – понятно, ну а другие, почему все вы хотите стать шоферами?
– Потому что тогда ты свободен.
– Хорошо, – сказал учитель, – вы свободны, можете идти.
Буалем с учителем направились во двор, за ними – весь класс. Мурад вышел последним вслед за Амалией.
– Что с тобой?
– Не знаю, ощущение такое, будто я задыхаюсь.
– Это от усталости.
– Хорошо бы, если так… Ты думаешь, их найдут?
– Кого?
– Двух ребятишек.
– Конечно. Они знают пустыню.
Ему показалось, что Амалия уловила ложь в его словах.
– Вечно одно и то же.
– Что именно? – спросил Мурад.
– Сколько бы мы ни ломали себе голову, выдумка куда беднее действительности.
– Ты хочешь сказать, что…
– Я хочу сказать, что твой переход через пустыню, тот самый, который ты сочинил для своей газеты, по сравнению со всем этим – благостная камерная музыка.
– Что же ты в таком случае скажешь, когда увидишь Ба Салема?
– Кто это?
– Один друг из Тимимуна.
– Чем он занимается?
– Возделывает свой сад.
– Вряд ли это может быть хуже, чем история с матерью Ахитагеля.
– Не знаю. Тут совсем другое.
– Ты не хочешь рассказать заранее? Возможно, это смягчит удар.
Они отгребли с поверхности горячий песок, чтобы найти в глубине слой попрохладнее, и легли.
У Ба Салема был сад по соседству с пальмовой рощей Тимимуна. Под пальмами он выращивал помидоры, перец, а на берегу оросительных каналов – бороздки ячменя. Но больше всего он гордился подсолнухами, которые привез из Орана много лет назад. Другие садоводы спрашивали его: «Какой от них прок?» Ба Салем не мог им ответить, что никакого, зато часами любовался, как они вращаются на своем стебле вслед за солнцем.
Водился за Ба Салемом еще один грех – любовь к ахеллилю[110]110
Ахеллиль – праздник с песнями.
[Закрыть]. Саду он отводил ровно столько времени, сколько требовалось, то есть от зари до заката солнца. Но ночами, а часто, бывало, и днями, когда случался праздник или же встречались приятели (а у Ба Салема их так много, что можно подумать, будто в Гураре живут одни только приятели Ба Салема), он уходил петь на ахеллили, которые длились иногда по нескольку ночей. Ахеллиль – все равно что подсолнухи: проку от него – никакого, но Ба Салем не мог жить без него, и если он вернулся из Орана, то только потому, что в Оране не было ахеллилей.
Его жена и дети редко ели досыта, но ведь это был общий удел, и все-таки они гордились им, потому что на многие километры вокруг, от Тимимуна до затерянного в дюнах селения Гурара, ахеллиль не был воистину ахеллилем, если Ба Салем не возглавлял хор.
Его любили, но, надо сказать, и побаивались, потому что никогда не знали, чего от него ждать, какое употребление найдет он несметному множеству пословиц, поговорок, присловий и стихов, которые умудрялся держать в голове, – утешительное и доброе, что чаще всего и бывало, или же, как иногда случалось, злое. Женщины издалека узнают его долговязую фигуру и молят аллаха, чтобы Ба Салем оказался в добром расположении духа. Ибо порой стоит ему увидеть одну из них, как он тут же выдает какую-нибудь пословицу и, не дожидаясь ответа, уходит. Женщина, оставшись одна, плачет, потом набрасывает на голову свое голубое покрывало и рыщет по всему селению в поисках противоядия. У мужчин и женщин, особенно у таких искусных, как, например, Белькир или Мерием, она выспрашивает, не знают ли они присловья, которым можно было бы ответить на то, что ее гложет, и, когда находит искомое (скажи ему: «Ба Салем, пресное кушанье требует соли, но как быть, если соль несоленая?»), начинает бегать по всем закоулкам, разыскивает Ба Салема, а отыскав, пустит меткое словцо, сразу почувствовав облегчение, по крайней мере на время, и бежит прочь, моля аллаха, чтобы следующая пословица предназначалась не ей; и так поступает любая женщина, любой мужчина селения. А между тем никто из них не хочет, чтобы с площадей и улиц старого городишки вдруг исчезла долговязая фигура, ибо они ее боятся, это истинная правда, однако что такое страх перед Ба Салемом? Это одна из радостей жизни.
Амалии этого никогда не понять: как можно плакать из-за какой-то там пословицы? Подумаешь, набор слов, употребляемых по любому поводу, какой в них толк? Сама она, во всяком случае, плакала не больше трех-четырех раз за всю жизнь: в тот давний день, когда ей не купили конструктор, «потому что она девочка», потом – когда ее бросил Люк: ей было восемнадцать лет, и еще – когда патрон отменил в последний момент поездку в Катманду, куда она должна была лететь от газеты. В остальном же ей случалось плакать, только когда она чистила лук.
Ба Салем возвращался с праздника незадолго до рассвета и чувствовал себя очень усталым. Разговаривал тихо. Жена его уже была на ногах, собираясь идти в сад вместе с ребятишками. Для пущей важности она ворчала на него. Он говорил только: «Творец печется о своих созданиях, не забудь полить подсолнухи», затем растягивался прямо на песке, в самом дальнем углу дома, и сразу же засыпал.
Но вот однажды, вернувшись из сада, жена Ба Салема стала кашлять кровью. Он сказал: «Ты вспотела и выпила холодного». На другой день спозаранку она отправилась в сад вместе с Ба Салемом. Глаза ее блестели на темном лице, и она все время покашливала. Когда солнце поднялось высоко, она опять начала кашлять кровью. «Рана снова открылась, – сказал Ба Салем. – Когда вернемся домой, свари себе отвар из тмина».
Отвар не помог. К вечеру у Уды начался сильный жар. Старший из ребятишек сказал: «Надо отвести ее в больницу». Она сначала отказалась: «Не хочу умирать в больнице, хочу умереть дома», но кашель все не унимался, а кровь становилась обильнее и гуще, и она согласилась пойти в большое строение, расположенное по другую сторону дороги, как раз напротив кладбища Сиди Османа.
Ба Салем перестал ходить по ахеллилям. Утром он отправлялся в сад вместе с ребятишками, а вечером шел с ними в больницу. Они приносили финики, сухарики, квашеное молоко.
Однажды санитарка сказала им:
– Она страдает от недоедания.
– Что это значит? – спросил Ба Салем.
– Недостаточно ест.
– Едим мы как все.
– То-то и оно, – сказала санитарка.
Старший сын спросил:
– Она выздоровеет?
– Теперь все выздоравливают, от туберкулеза больше не умирают. Только твоя мать старая, она сама истощена, да еще должна кормить ребенка, которого носит. Как только родится ребенок, мы будем ее лечить.
Ждать оставалось недолго: Уда была на восьмом месяце. Теперь она ела досыта, но каждый вечер у нее начинался жар. Санитарка сказала Ба Салему, что ему вовсе не обязательно приходить в больницу каждый день, да еще со всем выводком ребятишек: он мешает работать, к тому же для посещений отведены специальные дни. Ба Салем стал навещать Уду только два раза в неделю, а остальные дни посылал кого-нибудь из ребятишек справиться о здоровье матери, ибо, как говорится в пословице: «Никогда не противься воле властей и святых».
Но, несмотря на уход и хорошую пищу, Уде лучше не становилось. Когда начались первые схватки, она так ослабела, что у нее даже не было сил кричать. Схватки длились весь день, всю ночь и на следующее утро. Доктор вызвал Ба Салема и сказал ему, что придется делать кесарево сечение.
– Но она уже родила шестерых.
– Это ничего не значит. В том, что ребенок выживет, уверенности нет.








