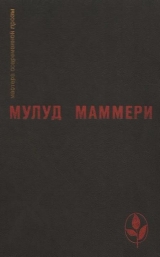
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
– Мать! – сказала Фарруджа. Она тотчас же повернулась к Баширу: – Старший брат Белаид в хороших отношениях с французами, но пайками ведает не он, нет, пайки – это Тайеб.
– Я пойду спать, – сказал Башир, – спокойной ночи.
Он стал подниматься наверх, в комнату, которая служила и кладовой. Уже на пороге его опять догнал безучастный голос Смины:
– Когда завтра пойдешь к лейтенанту, тебя будут расспрашивать.
– Конечно, – сказал Башир.
– Не болтай много… и не умничай. Чем глупее будешь, тем лучше.
– Мать, – сказала Фарруджа. – Башир ведь прекрасно знает…
– Он ученый, был в школе ирумьенов[49]49
Ирумьен – европеец (берберск.).
[Закрыть], умеет находить болезни в теле, умеет их лечить, но… пусть не забывает, что я ему сказала: чем глупее он будет, тем лучше для него… – И, помолчав, добавила: – И для нас!
Когда на другой день Башир явился в САС, лейтенант Делеклюз встретил его в элегантной строгой форме из легкого полотна с открытым воротом. Он предложил Баширу сигарету, поговорил о погоде, потом сказал:
– Вы ведь врач, господин Лазрак?
– Да, – ответил Башир.
– Прекрасная профессия.
– Я не верю в медицину, – сказал Башир, – но другие в нее верят, значит, нужно, чтобы они ею пользовались, разумеется за свои деньги.
Лейтенант засмеялся. Подумал: «Умный парень и без предрассудков, с ним можно будет поладить».
– Здесь, – сказал он, – крестьяне привязаны к земле, нещедрой земле, и к ее повседневным нелегким нуждам.
– Я здесь родился, – сказал Башир.
– О, простите, в самом деле, ведь это ваш край, а я вас как будто поучаю.
Он помолчал мгновение, потом, забыв, конечно, о том, что он только что сказал просто ради учтивости, начал снова:
– Это люди простые… и потому легкоуязвимые. Нужно защищать их от несостоятельных разглагольствований, от плохих пастырей, от опасных искушений. Возьмите в пример вашего младшего брата…
Делеклюз играл в откровенность. Он протянул Баширу сигарету:
– Курите?
– Спасибо.
– Я подумал, что вы могли бы быть для этих людей большой поддержкой.
Башир смотрел на лейтенанта сквозь завитки белого дыма. Лейтенант играл стеком и улыбался.
– Ваш брат Белаид тоже очень нам помогает, но в другом плане…
– Я врач, – начал Башир. И тотчас же ему послышался безучастный голос Смины: «Притворись идиотом…» Он добавил: – Сказать вам честно, я уехал из Алжира, чтобы бежать от всего этого, чтобы не жить больше в атмосфере этой бессмысленной войны всех против всех.
Башир счел такую формулировку достаточно двусмысленной.
– Конечно, жизнь в Алжире не очень-то приятна, но… не обманывайте себя, доктор… там вам было лучше, потому что там вам легче было остаться незамеченным. Здесь же – провинциальная дыра со всей ее поэзией и ужасом. Каждый живет здесь как бы в стеклянном доме. Все видно насквозь. Размеры сужены, а значит, искажены пропорции, краски откровенны. Здешняя жизнь не знает нюансов, это всегда лубок. Все здесь либо по одну, либо по другую сторону баррикады. В столице есть целая зона смешанных вод, теней. А здесь… Взгляните на этот горизонт, – он вытянул руку, – до него рукой подать. И потом, риск здесь бесполезен, – он посмотрел Баширу в глаза, – и …опасен! Поэтому все играют в открытую: есть две команды – и никаких зрителей. Так, из ваших Белаид – в одной команде, Али – в другой. Для Белаида Али – заблудшая душа, но для Али Белаид – предатель. Ничего не поделаешь, так уж это глупо!
Улыбка его была улыбкой сообщника, она означала: «Видите? Я веду с вами откровенную игру. Вы и я, мы принадлежим к одному миру, миру умных, просвещенных людей, которые обязаны говорить друг другу правду, даже если эта правда и неприятна для одного из нас. Людям умным и просвещенным не пристало заниматься пустой болтовней».
– В таком случае, – сказал Башир, – я выхожу из игры. Вы для меня слишком сильные противники.
– Гм! – произнес Делеклюз.
Он прикурил новую сигарету от той, что держал в руке.
– Боюсь, что это как… постойте, как его зовут, этого оратора, что говорил о пари?.. Да вы знаете его, это по вашей части…
Делеклюз прекрасно знал, что это Паскаль, но еще со школьных времен он сохранил привычку кокетничать, делая вид, будто не знает великих, произведения которых изучал.
В углу комнаты, где тлел огонь их сигарет, казалось, слышался голос Смины: «Не вздумай доказывать, что ты прав, не пытайся умничать».
И так как Башир молчал, лейтенант произнес:
– Во всяком случае, я всегда буду рад принять вас здесь, когда вам будет угодно.
Башир направился к двери. Лейтенант тоже встал.
– Быть может, вам понадобятся карточки – для вас или для вашей семьи. Так вы не стесняйтесь… скажите Белаиду или мне.
Башир о них забыл.
– Кстати, – добавил лейтенант, – вот пропуск на случай, если вы встретите наш патруль: комендантский час начался полчаса назад.
Дороги были пустынны, молчание ночи усиливало шум шагов Башира по земле и по камням. На площади Ду-Целнин две летучие мыши, преследуя друг друга, ударялись о стены, и в лунном свете их тяжелый, неуклюжий полет походил на танец. То была словно прогулка по улицам заколдованного города, прогулка синей умиротворенной ночью, вдали от войны, вдали от жизни. Башир остановился полюбоваться сиреневой горой, прилепившейся к небу.
– Что, красиво?
Башир вздрогнул, он не заметил Белаида, притаившегося в тени, но голос был его.
– Я ждал тебя.
– Разве тебе не нужно идти домой, ведь комендантский час уже начался? – сказал Башир.
– Нет, я могу не соблюдать комендантский час. Моханд Саид и я, двое юродивых деревни.
Он засмеялся.
– Что тебе сказал лейтенант?
– Чтоб я попросил у тебя карточки на муку.
– И все?
– Он говорил мне о тебе много хорошего.
– Это мой друг. Ты по крайней мере откровенен.
– А что? Я говорю это другим. Не понимаю, почему бы мне скрывать это от брата?
– Тебе не стыдно?
Смех Белаида показался Баширу неискренним.
– Стыдно? А за что? Ах да! За то, что я дружу с ирумьенами. Что ж ты хочешь? Я как ты, мне хорошо только с ними.
Он снова засмеялся, потом вдруг замолчал.
– Зачем ты приехал в Талу?
– Повидать вас.
– Ну, теперь ты нас повидал… – Он помахал руками, как бы прощаясь.
– Ты-то вернулся.
– Тебе здесь нечего делать. Больных в деревне лечит военный врач.
– А другие?
Белаид как-то странно посмотрел на Башира. Башир сказал:
– В деревне все о тебе говорят.
– Ну и что? На семью хватит и одного героя, есть же ведь Али. А мы с тобой слишком дружны с ирумьенами. Ты не обиделся?
– У тебя есть карточки?
– Сколько угодно.
– Знаешь, мать и Фарруджа умирают от голода… и дети Фарруджи.
Белаид снова натянуто засмеялся.
– О них не беспокойся, они привыкли. А я вот провел в Париже десять лет и отвык. Ты никогда не увидишь, чтобы я лег без ужина или ел по утрам и вечерам кускус из ячменя, подыхал от голода или обедал без вина. Нет, брат, слишком поздно. Я не могу уже снова начать жить так, как они. Жить? – Он кричал. – Нет, подыхать. И это будет длиться столько, сколько понадобится.
– Это будет длиться до тех пор, пока тебе не попадется веревка, на которой ты и повесишься где-нибудь на лесной опушке.
– На опушке? – Он сделал вид, будто испугался. – Никогда, брат, никогда! Я никогда не отважусь на это.
Он приблизился, как будто хотел сказать ему что-то доверительное:
– Смел, но не безрассуден!
– Ты прожил в Париже десять лет, мог бы и еще там остаться.
– Правильно. Впрочем, именно туда я и удалюсь на старости лет.
– Я вот думаю, зачем ты сюда приехал?
– Ага, вот видишь, и я тоже! Когда я увидел тебя, я подумал: зачем это доктор приехал в здешние неспокойные места?
– Я приехал отдохнуть.
– Опять же вроде меня. Право, доктор, ты – мой брат.
Летучие мыши продолжали неуклюжий танец на своих кривых крыльях. Белаид подошел поближе.
– Послушай, брат, возвращайся в Алжир, там климат мягкий, погода благоприятная. Здесь тебе нечего делать. Ты слишком молод для подобной игры.
В глазах Белаида Башир увидел больше нежности, чем суровости.
– Благодарю тебя за совет, но я знаю, что мне нужно делать.
– В конце концов, – сказал Белаид, удаляясь, – я твой старший брат, мой долг был сказать тебе это.
Он собрался уходить с Ду-Целнин. Обернулся к Баширу:
– Приходи за карточками, когда захочешь, для тебя и для старухи… и… помни, не увлекайся игрой с огнем, обожжешься.
Он исчез. Башир слышал, как он напевал вдалеке:
Немножко выпить так прия-а-а-тно…
Одиннадцать лет прошло с того дня, как Белаид сел в автобус и всем стало ясно, что в сорок лет он едет во Францию работать на заводе. Все удивились: уж от него-то никак нельзя было ожидать, чтоб он уехал из Талы! Потому что Белаид был человеком старой закалки. Сначала он, как и его отец, работал поденно на других. Отказывал во всем своей семье и самому себе, а скопив денег, купил маленькое поле, пару быков, корову. Это был почти достаток, но Белаид продолжал жить скупо, и, когда жена говорила ему, что теперь он мог бы позволить детям есть досыта, он отвечал: «Пусть привыкают, никто не знает, когда придется голодать».
Детей становилось все больше. Башир учился, и ему надо было время от времени посылать деньги.
Фарруджа вышла замуж, но муж ее, портной в Дезэксе, с трудом сводил концы с концами, пока не умер в тюрьме. Белаид должен был содержать чуть ли не всю семью.
Три года подряд оливы ничего не родили. Сбережения Белаида растаяли. Дети снова стали голодать. Жена Белаида поняла, что отец хорошо сделал, заранее приучив их к лишениям. Они протянули еще год в надежде, что следующий урожай будет хорошим. Он был скудным. Белаид продал на рынке быков, потом корову. Он держался еще год, но настало время, и ему пришлось заложить купленное им маленькое поле. На другой день он встал рано утром, чтобы никто не видел, что он уезжает, обнял своих старших (остальные еще спали) и пешком пошел в Азазгу, где он должен был сесть в автобус.
Первый год он работал на заводе так, как обрабатывал свое поле в Тале: основательно, серьезно. Не знал ни отдыха, ни развлечений. Он работал на заводе «Жапи» у печи, соглашался на сверхурочные часы и ночные смены. По воскресеньям он бывал слишком изнурен, чтобы куда-нибудь выходить. Издалека он продолжал помогать семье, высылал деньги на зерно, масло, дрова, одежду, праздники.
К концу года долги все еще не были выплачены. Заложенное поле перешло в собственность Амера. Детям не хватало ни еды, ни одежды.
Тогда, чтобы забыть все, Белаид начал пить. Он и правда забыл. Только временами у него бывали еще вспышки: иногда старые заботы, которые он считал похороненными, обрушивались все одновременно, готовые задавить его. Тогда Белаид снова пил. И так до самого того дня, когда он открыл, что не так-то уж трудно жить только для себя. Он перестал посылать деньги, перестал писать, переехал в другой квартал, чтобы избавиться от земляков, которые привозили ему новости из Талы.
Однажды он случайно узнал, что жена его забрала детей и вернулась к своему отцу. Чтобы не быть слишком в тягость, она работала от первых проблесков зари до поздней ночи. Днем она делала все: копала, полола, носила на спине полные корзины навоза в поле, помогала во время жатвы, сбора олив и инжира. Вечером, когда все ложились, она садилась ткать, и с улицы до глубокой ночи можно было слышать глухой стук ее веретен.
Однажды, когда Белаид вместе со своим приятелем уселся в Люксембургском саду на скамье (они только что выпили и были пьяны), он услышал, как кто-то окликнул его по-берберски:
– Белаид айт-Лазрак[50]50
Белаид, сын Лазрака.
[Закрыть].
Он заворчал, повернулся, чтобы посмотреть, кто его зовет, открыл слипавшиеся глаза и, увидев незнакомого парня, недовольно пробормотал:
– Чего тебе?
– Что ты здесь делаешь?
– Пошел ты!
– Посмотри на меня.
– Тоже красавец.
– Поднимайся и иди за мной.
– Не люблю шпиков, проваливай отсюда.
– Я не шпик… Я Уали, твой сын.
Белаид снова попробовал поднять на него тяжелый взгляд. Большой черноволосый парень, стоявший перед ним, не знал, куда девать свои руки. У него был вид крестьянина, которому неловко в праздничной одежде.
Перед помутневшим взором Белаида прошло туманное воспоминание о том дне, когда он покинул Талу. Черномазый, тщедушный, сопливый малыш цеплялся за его ноги, глотая слезы: то был Уали.
– Ну и чего ты хочешь?
– Увезти тебя.
– Сопляк! А куда?
– Домой.
– Я вот тебе сейчас покажу.
Белаид попробовал встать, но снова упал на скамью.
– Отведи меня к себе. Я только что приехал, и мне негде спать.
– А мне какое дело? Спи под мостами… как все босяки… ты и есть босяк…
Он начал кричать:
– Босяк! Пьянчужка! Гнусный пьянчужка… ты пьян… сам не знаешь, что говоришь… мерзость! – Он плюнул в сторону Уали, рукавом вытер губы. – Зачем ты сюда приехал? Это не твоя страна.
– Я приехал к тебе.
– Честное слово, вы за мной гоняетесь! Не можете без меня жить. Я вам нужен, как воздух, которым вы дышите!
Он помахал перед собой рукой, пытаясь изобразить воздух, но рука его снова бессильно упала. В голосе его вдруг зазвучала ярость:
– Ведь я для того и уехал, чтобы скрыться от вас, чтобы не слышать больше ваших голосов, не видеть ваших гнусных рож, не дышать одним воздухом с вами. – Внезапно он успокоился. – Сорок лет! Сорок лет я прожил с вами в Тале, барахтался в вашей грязи, вашей нищете, вашем дерьме. И вот однажды утром вы встали и начали искать меня, чтобы снова надеть мне на шею ярмо, и… не нашли меня… Пф-ф! Испарился!
Он угрюмо посмотрел на Уали.
– Ты мой сын?
– Да.
– Ты оставил дом, свою мать, братьев, друзей, врагов, чтобы приехать сюда?
– Дома нечего было есть.
Белаид сипло рассмеялся.
– За десять лет припев ваш не изменился.
– Это потому, что и песня все та же. А деньги, ты ведь поехал за ними?
– Нет! Я уехал потому, что вы мне надоели, уехал, чтобы скрыться от вас, чтобы не слышать больше нудного голоса твоей матери, слышишь? – нудного! Она приводила меня в отчаяние, когда без конца нудила: нет ячменя, масла, мыла, бурнусов для тебя, для твоих братьев, для меня, о себе она никогда не говорила. Я уехал, чтобы поискать другой припев.
– И нашел?
– Не твое дело.
– Ты никогда не спрашивал себя, что с нами стало, пока ты искал другой припев?
– А я вас забыл. Забыл вашу мерзость, вашу нищету, ваши потемки, ваши мозоли на ногах, ваши пустые животы… У вас все это еще осталось?
– Все еще.
– Да уж, хороши вы. Твоя мать все еще ходит к святым?
– Это все, что ей остается. Ты уехал. Мы были слишком малы. Соседи, родные – все так же бедны, как и мы. Ей оставались только святые.
– Помоги мне.
Белаид протянул нетвердую руку Уали, который помог ему встать, потом обернулся к своему другу, распростертому на скамье.
– Ты с нами? Мы идем ко мне.
– Ну уж нет! – сказал тот голосом, в котором будто камни перекатывались. – Меня, знаешь, тошнит от семейных историй.
Он сделал вид, что его вот-вот вырвет.
Белаид жил на бульваре Республики. Комната была большой.
Он поставил на стол два стакана, в один из них налил красного вина.
– Ты небось не пьешь?
– Нет.
– Она все так же плачет?
– Знаешь, женщины…
– Здесь женщины не плачут… Она все так же ходит босиком?
– Как все женщины Талы.
– Тебе не стыдно, что твоя мать ходит босиком? Она и в лес за дровами, конечно, босиком ходит?
– Конечно.
– А дрова продает, чтобы прокормить вас. А по утрам она встает до рассвета, чтобы сходить за водой к роднику, пока источник не иссяк, и каждый день она садится за пряжу, ткет бурнусы и продает их, чтобы купить вам ячменя, и масла, и мыла, и одежду, а по вечерам, когда все уже легли, она не спит, опять ткет, чтобы не терять ни минуты…
– Как будто ты сам при этом присутствовал. Ты ничего не забыл.
– Забыл? О! Конечно, я вас забыл. Но достаточно мне взглянуть на твою гнусную рожу, чтобы все вспомнить… Ты в самом деле не пьешь?
– Нет, спасибо.
– Напрасно! Твой рай далек и ненадежен. Ты бы уж лучше разрешил себе частичку райского блаженства сейчас, не откладывая… Нет? Ну, как хочешь.
Он разом допил все, что оставалось.
– Тебе не кажется, что ты и так уже достаточно пьян?
– Скажи пожалуйста! Сопляк! Ты что, мораль мне читать сюда приехал? Пьян? А как, ты думаешь, мне удается вас забыть?
Он налил себе еще. Уали хотелось вырвать у него из рук стакан или отобрать бутылку, но ведь это был все-таки его отец. Белаид держал стакан обеими руками, голова его тряслась, словно его тошнило, глаза налились кровью.
– Рай алжирцев!.. Алжирцы? Ха-ха! Не смеши. Гниды, ничтожества, живые трупы! Все люди сначала живут, а потом в один прекрасный день умирают, раз – и нет. Вы… – Он икнул. – …Вы и шестидесяти лет не живете…
Он выпил, пролил вино на пиджак, задумчиво поглядел на оставленный вином след. Попробовал вытереть его, стряхнуть рукой, но каждый раз промахивался.
– Мерзость! И все эти шестьдесят лет вы не перестаете подыхать, пока вас не похоронят и лицемерный марабут[51]51
Мусульманский святой, проповедник.
[Закрыть] не прочтет над вами молитв. – Он взвыл: – Кюре на виселицу! – Потом успокоился. – Это не больше чем формальность… вы уже давно умерли… Вот мерзость это вино!
Он поднял бутылку, на дне которой розовели, колыхаясь, блики, повторил: «Мерзость», прижался толстыми жадными губами к горлышку и выпил. Две струйки стекли по углам губ. Он поставил бутылку, воззрился на нее.
– У тебя есть деньги?
– Зачем?
– В бутылке больше нет вина.
Уали спрашивал себя, не убить ли его сейчас же. Но здесь ведь есть полиция или жандармы, он точно не знал, быть может, его арестуют.
Белаид закрыл лицо пустой бутылкой.
– Она все жалуется?
– Кто?
– Твоя мать! Когда она была моей женой, она всегда жаловалась.
Уали опять вспомнил о полиции, о жандармах.
– Разумеется, она жалуется на святых, на судьбу.
– А на меня?
– Нет, о тебе она никогда не говорит.
– Она тоже меня забыла? Вот здорово! Знаешь, твоя мать – отличная девка, только немножко коротковата и слишком большие груди…
Уали инстинктивно огляделся по сторонам. Кроме него, в самом деле никого. «Не забывай о полиции, здесь не деревня. Спокойно. Этот человек потерял всякий стыд, но он твой отец, и уже десять лет, как он уехал из Талы, он разучился говорить, он говорит как ирумьены».
– О да, хорошая девка! Подумай только, старина, десять лет! Десять лет, как мы расстались! И уже девять лет, как я не посылаю ровно ничего – ни перевода, ни письма, ни подарка (подарки-то получала Аннет!).
Начавшаяся икота чуть было не задушила его. Уали постучал ему по спине.
– Эй, полегче, старина, пользуешься случаем? В самом начале она написала мне одно письмо, чтобы… чтобы… Вина нет, в бутылке нет больше вина…
– Чтобы попросить у тебя денег? – спросил Уали.
– Денег? За кого ты ее принимаешь? Твоя мать не Аннет, слышишь? Не шлюха, твоя мать честная женщина! Она написала мне, чтобы узнать, все ли у меня есть, что нужно… В Париже? Все, что мне нужно? Можешь себе представить? Мне? Это она-то, которая ходит по деревне босиком и у которой не было зимой одеяла, чтобы укрыться… нам пришлось его продать, ха-ха!
Икота и хриплый смех смешались в глубине его горла в какое-то урчание, словно там перекатывались камни. Потом он замолчал, попробовал распрямиться, бросил на Уали недоверчивый взгляд.
– А ну, признавайся.
– В чем признаваться?
– Это она тебя прислала?
– Нет, когда я сказал ей, что собираюсь ехать в Париж, она сказала: «Ни за что!»
– Ах, так?
– Она сказала: «Из Парижа мужчины не возвращаются».
– Она так сказала?
– Да.
– Дай мне выпить!
– Пора спать!
– Спать? Ты что, думаешь, это твоя деревня, старина? Здесь ложатся в два часа ночи. И потом, запомни хорошенько, здесь ужинают каждый день… ик!.. Да, старина… ик… каждый день, а не только тогда, когда твоя мать продала вязанку дров или бурнус. Здесь тебе не Алжир, старина, здесь не концлагерь, не спецлагерь, не лагерь нищеты и смерти. Здесь Франция, здесь… ик… Франция!
Он встал, размахивая бутылкой, словно флагом на конце хлипкого древка, и, натыкаясь на стулья, комод, кровать, шкаф, принялся кружить по комнате, вопя:
– Да здравствует Франция!
Когда он оказался около кровати, Уали подставил ему ножку. Он рухнул на одеяла.
– Ик! Франция.
Он остался лежать, растянувшись на животе, приоткрывая иногда мутные, испещренные красными жилками глаза. Уали старался не смотреть на него.
– Ты на меня не смотришь и думаешь, будто я не знаю, что скрывается за твоими лживыми глазами?
– Я не смотрю на тебя, потому что мне стыдно.
– Стыдно! Нет, вы только посмотрите на этого сопляка! И недели не прошло, как ты в деревне сморкался в кулак, и сейчас… ик… в это самое время в деревне твоя мать ходит босиком, а тебе стыдно… Стыдно за меня? Подумать только! Так вот! Знай, несчастный сопляк, это мне стыдно, стыдно за твои отрепья, за твое убожество, за твою грязь. Тебя вши, наверно, жрут, а тебе стыдно… ик… за меня? А кто ты есть? Ты и есть нищета, вшивая нищета. Все вы – скопище нищеты, и слез, и вшей, и соплей… все… и я уехал, чтобы сбежать от вас, сбежать от всех вас, от тебя, твоей матери, твоих братьев, твоих сестер… ик… от всех!
Он долго икал, потом скатился с кровати. Сосед постучал три раза в перегородку, крикнул: «Эй, вы там, заткнитесь! Ступайте ругаться куда-нибудь еще».
Белаид очнулся и сказал вдруг ласково, доверительно:
– Вот только галстук ты не умеешь завязывать… носишь на шее веревку и думаешь, что это галстук.
Уали знал, что это правда. Один сосед, побывавший уже во Франции, повязал ему на шею галстук накануне его отъезда, и с тех пор он передвигал узел, не развязывая его. Он ни за что не сумел бы завязать новый узел.
– Теперь спи, пора уж.
– Нет, я пойду есть. Ты, если хочешь, можешь сегодня поститься… Со старухой ты, должно быть, привык.
– Я пойду с тобой.
– Я так и думал, прохвост! Не хочешь отпускать меня, пока… ик… не скажешь всего, что тебе нужно.
– Мне нечего тебе сказать.
– Как бы не так! А зачем же ты здесь? Посмотреть на меня, что ли? И думаешь, я поверил в твои бабьи сказки? Думаешь, я не раскусил тебя, думаешь, не знаю, что это старуха… ик… тебя послала? Перед отъездом она тебе сказала – привези его, привези во что бы то ни стало… пусть он вместе с нами не ест и не пьет досыта, пусть ходит босиком… и пусть ложится вечером голодный… как все мы… потому что очень уж это несправедливо и слишком подло, слишком просто – сбежать вот так, сбежать одному и оставить других выпутываться. Еще бы… в одиночку, само собой, всегда все проще!.. Но если ты мужчина, аргез[52]52
Мужчина (берберск.).
[Закрыть], говорила она тебе, аргез… ха-ха! Вот уж смеху-то, братцы, аргез, мужчина! Если б она знала, старая, как мне плевать на такого мужчину. На мужчину, который хочет есть, пить, а сам ложится, не поев, дрожит от холода, потому что у него нет одеяла, и дохнет, и дохнет… ик… вместе с другими! Нет! Мне больше нравится жить одному, чем подыхать заодно с вами.
– Эй, вы там, – закричал опять сосед, – угомонитесь вы или нет? Я позову полицию… безобразие среди ночи!..
Уали приподнял отца за отвороты пиджака, уложил на кровать, снял с него ботинки и силой втиснул под одеяло.
– Э, старина, плевал я на тебя. Меняй квартиру, если тебе здесь не нравится. Поезжай в шестнадцатый квартал, жалкий аристократишка! Я на тебя чихал, потому что у нас Республика. Да здравствует Республика… ик!
Вдруг он замолчал. На этот раз ему помог кулак Уали. Белаид повалился на постель. Изо рта у него брызнула слюна, он исподлобья взглянул на багровое лицо сына.
– Ты меня ударил? Ты ударил… ик… своего отца?
– Прости меня, но, если ты не перестанешь, нас посадят в тюрьму.
– Я тебе покажу, слышишь? Я тебе покажу. Я сам тебя убью, как только протрезвею. В… ик… тюрьму? Дурак, здесь тебе не деревня, здесь тебе не Алжир, здесь республика, в республике просто так в тюрьму не сажают, я тебя убью.
Он, казалось, успокоился, потер пуговицу на пиджаке, поправил узел несуществующего галстука.
– Эй!
Уали не ответил.
– Каид все еще жив?
– Жив.
– Чего ж вы ждете, чтоб его пристукнуть?
– Не знаю.
– Падаль! Он взял с меня пятьсот франков, когда я сюда ехал… на оформление документов… А твоя мать все еще посылает его жене яйца и кур?.. Ты меня ударил! Я тебе покажу. В этой конуре задохнуться можно. Ты что, думаешь, ты все еще в своей хибарке, в деревне? Открой окно, открой пошире, пусть войдет воздух и свет Парижа, его музыка! Ты не слышал музыку Парижа!
Натыкаясь на мебель, он добрался до окна, потянул за ручку. Одна из створок со всего маху ударила его по лицу. Потекла кровь, он провел несколько раз рукой по кровоточащим губам. Следы окровавленных пальцев оставили на щеке параллельные полосы.
Шум и огни разом ворвались в квадрат, прорезанный вдруг в темную синеву неба. Уали не верил своим глазам. Огромный пожар занимался на всем пространстве до самого горизонта. Тысячи факелов развертывали перед ним бесконечный танец нервных, торопливых мерцаний с дорожками света от длинных ламп, образовывавших сложные фигуры, похожие на письмена. Ночь плавала в каком-то шуме, глухом, плотном и мягком, словно из ваты.
Уали все это хлестнуло в уши, в глаза. Белаид тоже вперил в окно отупевший взгляд.
– Смотри! Это Париж, это кусок рая, настоящего, а не того, что выдумали водохлебы из твоей деревни. Ты найдешь в нем все, что пожелаешь. Только протяни руку. Да вот, посмотри…
Он высунул в окно руку, движения ее были вялыми, неопределенными.
– Все, что хочешь, – деньги, девушки, кабаки, лучшие вина, а ПМЮ[53]53
ПМЮ (Par mutuel urbain) – заочная игра на скачках.
[Закрыть], знаешь, что такое ПМЮ, старина? Я играю в это каждое воскресенье.
Уали не слушал его, он смотрел: как удавалось людям передвигаться посреди этого бушующего моря?
Перед ним пронеслись низкие темные домишки Талы, которые после захода солнца поглощала ночь, ночь без ламп, он так боялся ее, когда был маленьким, ночь, молчание которой было таким полным, таким прозрачным, что с другого конца долины, за многие километры от деревни, слышен был лай собак и печальное уханье сов в ясеневых рощах.
Воздух с улицы несколько отрезвил Белаида. Он посмотрел на сына и в растерянных глазах Уали сразу узнал свое собственное восхищение, которое он испытал десять лет назад, впервые приехав в Париж.
– Что, красиво?
Он и не ждал ответа.
– Красиво? Так вот, послушай-ка меня, старую шкуру. Не верь этому, старина, в Париже есть все, да только не для тебя, понял? Ты ведь алжирец. Впрочем, стоит ли разводить разговоры, будь спокоен, ты скоро поймешь это, другие постараются дать тебе это понять, и без промедления.
– Кто другие?
– Конечно же, французы, дурень, это ведь их страна.
– Я приехал работать.
– Вот именно, на это и надо рассчитывать. Но работу надо найти. И потом, тебе нужна комната, барахлишко, знаешь, для Парижа одежка у тебя странная, да ты сам увидишь. Понимаешь, это их страна. Мы им осточертели. Мы чумазые, говорим не как они, едим не как они. Так что, вот увидишь, скоро ты будешь ходить, прижимаясь к стенкам, потому что почувствуешь, что ты не дома, что ты им осточертел. Здесь Париж и все есть, да только не для тебя. Это их страна, а не наша. Наша страна – Алжир, страна нищеты, грязи и слез, босых ног, тоскливых женщин и обреченных мужчин. Вот что такое наша страна, этот Алжир, Алжир, Алжир!..
Он выпустил ставню, дополз до стола и повалился, рыдая. Уали подтолкнул его к кровати, уложил, натянул на него одеяло, не говоря ни слова.
– Спасибо, старина, спасибо.
Он повернулся к стене и очень скоро захрапел. В комнате рядом мужчина старался перекричать пронзительно вопившую женщину.
– Шлюха, грязная потаскуха, вот ты кто! А ну, признавайся, что ты шлюха!
– На помощь!
Уали показалось, что страх ее был притворным.
– Думаешь, не видно, что ты шлюха? Да я с тебя шкуру спущу… и с твоего кобеля, я ему морду набью, твоему кобелю, потаскуха проклятая!
Уали открыл окно. Напротив соседи обедали в кухне и смеялись. Их, видно, не очень тревожили эти крики, а может быть, они их не слышали.
– Не подходи, или я закричу!
Голос у женщины был визгливый.
– Ишь, напугала.
– Пусти, больно.
– Твою шкуру, хочу твою шкуру!
Уали услышал шум, что-то упало на кровать, она заскрипела. Он спрашивал себя, стоит ли вмешиваться, как он поступил бы в Тале. Вдруг голос мужчины изменился:
– А красивая у тебя шкура, но она моя, слышишь, моя. А ты шлюха, красивая шлюха!
Голос стал глухим, неясным. Уали лишь изредка улавливал отдельные фразы.
– Дай ее мне, твою шкуру, хочу ее.
– Грязный пьянчужка, от тебя несет вином.
Вскоре оба голоса смешались, захрапели вместе, потом смолкли.
Когда Белаид вернулся в Талу, первое, что он увидел, были босые ноги его жены. Она рубила дрова в лесу. Она не знала, что он должен вернуться: в своем письме Уали не написал, что приедет с отцом.
Эта женщина, кое-как одетая в выцветшие тряпки, с лицом без возраста, босая, была его женой. Кожа на ее ногах потрескалась, трясущиеся руки, обнимавшие шею Уали, покрылись мозолями, искривились, одеревенели, управляясь с топором, дровами, камнями, колючками. Плакала ли она? Да разве это было возможно? Откуда было взяться слезам в этих мертвых глазах, да и зачем они? Когда он посмотрел на нее еще раз, она склонилась над вязанкой, припав к земле, и стала похожа на четвероногого лесного зверя.
Его охватило отвращение…
Дома он надел серый бурнус Уали, чтобы прикрыть неприличие костюма, белой рубашки, вызывающий блеск ботинок.
И тут же началось нашествие всей Талы, настоящий Двор чудес[54]54
Квартал в средневековом Париже, служивший притоном профессиональных нищих.
[Закрыть]! Все те же согбенные спины, все тот же ужас или та же пустота в глазах, все те же дубленые, до смешного изуродованные пальцы на ногах, самые невероятные лохмотья, прикрывавшие изможденные тела. И каждый шел, чтобы добросовестно, в соответствии с ритуалом, сыграть свою крошечную роль: марабут, церемонный и фальшивый, тесть с тещей, преисполненные любви (они думали, что он привез деньги), старая колдунья, перерезавшая ему пуповину и до сих пор называвшая его «дитя мое», амин, деревенский староста, болтливый и претенциозный, платный осведомитель, явившийся разузнать что-нибудь для своего рапорта офицеру САС. Когда они уезжали из Парижа, Уали предупредил Белаида: как только он ступит на набережную в Алжире, его слова, жесты, вздохи, молчание, смех – все будет браться на заметку, толковаться, обо всем будет доложено бесчисленным сыщикам – гражданским, военным, полугражданским, полувоенным, которые кишат во всех уголках Алжира. Еще больше, чем прежде, Алжир напоминал огромный полицейский участок.
Все это было гигантской и никчемной комедией. Неужели их не разбирал смех, когда они вот так играли, притворяясь, будто живут? Неужели внезапное яростное желание дать хорошего пинка по этому изъеденному червоточиной, ветхому сооружению, по этой фальшивой декорации, этому неизменному кошмару, – неужели такое желание не охватывало самых молодых или нетерпеливых?
Он сказал об этом Рамдану, приезжавшему на летние каникулы в Талу к своему отцу, Моханду Саиду.
– Я как раз и есть и то, и другое, – сказал Рамдан. – Я молод, потому что верю еще во все голубые сказки, о которых речь идет в этих книгах, – он показал на книгу, лежавшую в капюшоне его бурнуса, – и нетерпелив, потому что не знаю, кто выстоит, выиграет в смысле времени – война или мое последнее легкое. Нужно, чтобы выстояло легкое. Нужно, чтобы независимость пришла раньше, чем я выплюну последний его кусок. И потом, я ведь из породы верующих. Спроси у своего брата, лекаря. Если б я родился до Маркса, я был бы мусульманином-фанатиком и защищал бы аллаха с той же яростью, которую вкладываю в его уничтожение.








