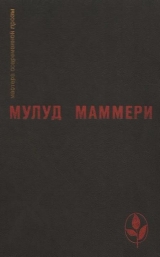
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Скрываясь на своем острове, Буалем испытывал утробное, ни с чем не сравнимое блаженство. В замкнутом пространстве он пытался воссоздать мир, существовавший до пресловутого яблока и до того, как рай был потерян. Его жена и четверо ребятишек составляли единое целое с суровой обстановкой средь недвижных стен. Взгляд Буалема скользил мимо, не видя их.
Когда Буалем вошел в квартиру учителя, урок уже начался. Он извинился:
– У меня важное сообщение для ваших учеников.
Все взоры обратились к нему. Он рассказал о заседании редколлегии. По мере того как слова воскрешали перед его глазами картину только что пережитого, голос его становился все более жестким:
– Учитель – (он говорил на восточный манер: устаз), – они отвергли вашу статью.
Ученики были повержены в изумление.
– Это все? – спросил учитель.
– Учитель, разве Пророк не предостерегал нас: будьте настороже?
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил самый молодой из учеников по прозвищу Каирец – он недавно закончил университет аль-Азхар.
– Учителя лишают слова. Собирать материалы о нашей нефти приглашают назареянку. А ведь это – нефть мусульман! И если аллаху угодно было сокрыть ее в бесплодной пустыне, чтобы одарить нас богатством сегодня, значит, нефть должна служить нам, мусульманам… Слышите? Мусульманам!
Буалем вопил, не унимаясь: – Мусульманам! Мусульманам!
– Да не кипятись ты, – сказал Джамель, – лучше рассказывай дальше.
– Чтобы отнять у нас нашу нефть, неверные пускают в ход все средства: свое радио, свои книги, свои банки, свои газеты, а теперь вот, учитель, посылают, прошу прощения, своих девок! Ведь эта Амалия – самая настоящая шпионка, тут и сомневаться не приходится.
Буалем совсем выдохся, но на помощь ему пришел Каирец, голос его звенел исступленно:
– Если правители забывают о своих обязанностях, наш долг – отвести опасность, оградить истинную веру. Учитель, не настало ли время объявить священную войну?
Джамель прикрыл глаза, так что между двумя рядами ресниц остались лишь маленькие щелочки, сквозь которые взгляд его устремлялся в небеса, видневшиеся за окнами:
– Пока еще нет…
Ученики застыли в ожидании. Обычно, принимая такую позу, учитель собирался с мыслями, чтобы изречь нечто основополагающее. Джамель глубоко вздохнул:
– Или я слепец, или вы ничего не видите?
Беспокойство и волнение постепенно охватывало учеников.
– Если пробил час нашествия Гога, что может помешать ему гореть в геенне огненной? Что может помешать дождям из серы обрушиться на Гога и потопить его кровавым рекам? Чья рука остановит десницу всевышнего, если он решил покарать окаянного, проклятого Магога[95]95
Гог и Магог – в иудейской, христианской и мусульманской мифологиях два диких народа, нашествие которых должно предшествовать Страшному суду.
[Закрыть]?
Речь учителя была прервана скрипучим безликим голосом, записанным на пленку и призывающим на последнюю вечернюю молитву:
– Внемлите голосу добра… Внемлите голосу благочестия…
Каирец встал, чтобы закрыть окно:
– Было время, когда на молитву звал живой человеческий голос.
– От чего исходит запах – от ладана или от сосуда, который его содержит? – спросил учитель. – Ислам не противник технического прогресса. Если речь идет о добре и благочестии, какая нам разница? Пускай даже к этому призывает голос, записанный на пленку! Итак, начнем.
Его ученики расположились на некотором расстоянии позади него. Преклонив колени, они четыре раза поклонились в сторону востока.
– Учитель, – снова начал Буалем, – я помню все ваши наставления. Вы часто говорили нам: шагайте в ногу с веком! Не отдавайте мир в руки безбожников. Так вот, следует ли мне присоединиться к каравану, который отправляется в Сахару, чтобы наблюдать за нечестивцами?
– Разве тот, кто следует по пути, указанному всевышним, нуждается в том, чтобы его подталкивали? Ты должен все видеть, все замечать, быть вездесущим. Это твой джихад[96]96
Война за веру (араб.).
[Закрыть] на сегодняшний день.
– Я буду помнить об этом.
– Но главное – в другом!
Джамель повернулся к своим ученикам:
– Подойдите ближе! Брат Буалем направляется в места, подобные тем, где последнему из пророков явилось откровение. Кто знает, быть может, всевышний нарочно посылает его туда? Кто ведает, не установил ли создатель некую тайную связь между пустыней и верой: возможно, для того, чтобы открылась истина, необходима полнейшая пустота и отрешенность. В пустыне же ни одно из злонамеренных ухищрений сатаны не может встать между людьми и всевышним. Из пустыни брат Буалем вернется, проникнувшись видениями тех благословенных времен, когда людям была ведома истина. Мы с нетерпением будем ждать его.
В резном канделябре медленно угасала свеча. На стене, как раз под именем аллаха, золотыми буквами сиявшим на фоне черного бархата, вырисовывались тени учеников, почтительно склонившихся к учителю. Вспыхнул последний язычок пламени, и фитиль с шипением погрузился в расплавившийся воск. В безмолвной тишине, окутавшей их, словно божественный покров, ученики слушали все более взволнованный голос учителя и трепетное биение своих сердец.
– Возблагодарим творца, – говорил учитель. – Но помни, Буалем, люди, к которым ты идешь, очень бедны.
– Аллах наделяет, кого пожелает, без счета, – сказал Буалем.
– Они отличаются смирением.
– Аллах кроток к рабам.
Все ученики знали эту строку.
– Большинство из них невежественны.
– Один аллах всеведущ.
– Не презирай их за это, они последние праведники.
В голосе учителя появилась сосредоточенность.
– Счастливы будут праведники, когда придут последние времена… благословенны те, кто принесет великую клятву. Кто хочет начать?
В кромешной темноте все устремились к нему в едином порыве.
– Зажгите свечи, – сказал учитель.
Они приблизились к нему почти вплотную.
– Клянусь, – молвил Каирец.
Все вторили вслед за ним:
– Клянемся.
– Близок час, – продолжал учитель.
– Близок час…
– Праведность очистит от скверны.
Они поднялись и, плечо к плечу, тесным кольцом окружили учителя. Взгляд Джамеля устремился сквозь окно, которое они вновь открыли, к черной зияющей пустоте, где должно было находиться море. И так как они повторяли одни и те же слова, у них выработался свой особый ритм:
– Мы клянемся…
– Клянемся…
– Вести джихад, как в достославные времена.
– Вести джихад…
– На пути, предначертанном господом миров.
– На его пути…
– Если надо, железом.
– Железом, ядом, тюрьмой, насилием и смертью.
Учитель снова сел. Ученики опять окружили его.
– Учитель, – сказал Буалем, – мне пора идти.
Он уже переступил порог, когда учитель остановил его:
– Помни… Она – неверная… и к тому же – женщина. А женщины – это самое большое искушение, посланное сатаной, который был самым красивым из ангелов.
Джамель помолчал немного.
– Кто с вами еще едет?
– Суад, она из числа твоих приверженцев; Серж, так называемый специалист по нефти, коммунист, который непрестанно насмехается над Христом – наверняка для того, чтобы побудить мусульман так же относиться к своему пророку; Мурад, тоже атеист.
– И берберист[97]97
Берберы – мусульманские народности Северной Африки, Центрального и Западного Судана.
[Закрыть], – добавил Каирец.
Учитель вовсе не был уверен, что кое-кто из его учеников сумеет устоять перед искушением поверить лживым сказкам «Альже-Революсьон», а главное – перед соблазнами века, но в Буалеме он не сомневался. Кажущиеся вполне правдоподобными доводы и сети, расставленные лукавым, скользили мимо Буалема, словно воды реки Аль-Харраша по круглой гальке. Одно упоминание о Марксе вызывало у него отвращение или повергало его в неистовый гнев. В иные, более счастливые времена он ударом меча отмел бы любой аргумент вместе с головой того, кто его выдвигал. Но счастливые времена миновали. Они, несомненно, вернутся, всевышний не может покинуть тех, кто ему предан. Когда-нибудь царствие его придет. И в ожидании этого Буалем жил с лютой ненавистью к нынешним временам, сковавшей, подобно ледяному покрову, его душу.
Он рьяно предавался благочестию. Добродетель ему грезилась беспощадной, омытой кровью, кровью других, но если потребуется, то и его собственной. Он ненавидел жизнь, ибо в ее лоне зарождаются и произрастают желания. Идеалом для Буалема была бескрайняя выжженная пустыня. Однако он не желал быть добродетельным в одиночку. Буалем жаждал смерти, но хотел умереть вместе с другими, всем миром: пускай погибнут люди, собаки, весна, камни на дороге. Воинствующая смерть – вот к чему он стремился: убивают же себя японцы, дабы не уронить своего достоинства. И хотя Буалем никогда не признавался себе в этом открыто, в глубине души он жаждал конца света, возникшего в силу недоразумения средь ледяной чистоты небытия. Чтение Корана и уроки учителя – это было единственное его наслаждение, в котором пока еще он себе не отказывал.
Вот почему он возненавидел Амалию с первого взгляда, сразу же, как только увидел ее в редакции. Она была красива. Она была назареянкой и принадлежала к тем безумцам, что дарят господу сподвижников. Француженка, она чувствовала себя свободно и двигалась с гораздо большей непринужденностью, чем он у себя в собственной стране. Она была средоточием тех темных сил, что населяли его кошмары.
Ибо главное, что раздражало Буалема в этом мире, была красота. Разве не говорил учитель, что из всех искушений, уготованных лукавым, это было самым коварным? Буалем был женат. Он никогда не задавался лишними вопросами до того дня, когда очутился в Алжире. И что же он там увидел? Голые ноги девушек, их бесстыдно торчащие груди, а их смех… Вначале он ходил, не поднимая глаз, глядя прямо перед собой в землю, внутри у него все горело (от негодования, тешил он себя). Но вот однажды вечером, во время урока у Гима, один из учеников рьяно выступил против этих соблазнов, смущавших верующих и пробуждавших у них желания, которые следует обуздывать. Та горячность, с какой он говорил, заставила их понять всю глубину зла, общего для всех, которое мучило каждого из них ночами, и потому все они почувствовали огромное облегчение. Ведь до той минуты каждый считал, что он один обречен на погибель!
То, что они оказались не в одиночестве, преисполнило их исступленного усердия. Все вместе они принялись отыскивать средство, которое заставило бы исчезнуть с глаз долой это кощунственное оскорбление всевышнего, коим являлась девичья красота. Они размечтались об острых лезвиях, прикрепленных к концу оливковых палок, о черном покрывале, которое укроет нескромниц от самой макушки до пят, о специальной полицейской службе, о железных законах. В конечном счете они единодушно сошлись на черной краске, которой следует выкрасить им ноги. Передышка оказалась краткой, а средство обманчивым. Дело кончилось тем, что новоявленные маляры вошли во вкус и стали получать нездоровое удовольствие, прохаживаясь кистью по гладкой коже. К тому же, став черными, ноги девушек не утратили свою красоту, и деготь вместо того, чтобы погасить желание, лишь разжигал его.
Тут братья совсем пришли в растерянность. Ни в коранической школе, ни позже, в средневосточных университетах, которые они посещали, красота не являлась предметом изучения. И когда на улицах Алжира порочный мир открыл ее глазам Буалема, было слишком поздно: в сердце его, в его сознании уже были воздвигнуты барьеры, неодолимые, как предначертание вседержителя.
Газета вышла ночью. На другой день, рано утром, Мураду позвонила секретарша: его просили прийти в редакцию к одиннадцати часам, назначено совещание редколлегии, его присутствие обязательно.
Когда в одиннадцать часов Мурад вошел в маленькую комнату, все уже были в сборе.
Камель повернулся к нему:
– Звонили от руководства по поводу твоей статьи. Там от нее не в восторге, собираются направить нам письмо, поэтому, пожалуй, лучше заранее приготовить ответ. Я предлагаю всем вместе послушать сейчас статью.
Перед Суад уже лежал номер «Альже-Революсьон». Она открыла его:
– Заглавие вам известно: «Переход через пустыню» (притча в трех картинах).
Голос Суад звучал невыразительно. Она уже прочитала статью и не испытывала воодушевления.
«Каравану понадобилось более семи месяцев, чтобы пересечь пустыню, ибо путь ему преграждали солнце, гиены, гадюки, всевозможные лихорадки, постоянная жажда, а иногда и голод – все это замедляло его продвижение вперед. Как обычно бывает в таких случаях, впереди шагали герои. Вдохновенные и одинокие, они целыми днями боролись с бесконечно возникавшими на их пути препятствиями, а ночами считали звезды.
Итак, шедшие впереди – бесстрашные, но беспечные герои – падали, погибая, а тем временем позади них плотно слипшееся стадо задыхалось в своей шерсти под палящим солнцем, ревностно следя при этом за тем, чтобы ряды его оставались сомкнутыми. Так уж положено судьбой: герои умирают молодыми и одинокими. Бараны, правда, тоже умирают, но герои не раздумывая бросаются навстречу смерти, сгорая, подобно сбившимся с пути метеорам, а бараны цепляются за жизнь до последней капли крови.
Время от времени в гуще каравана рождались дети, которых матери, крепко запеленав, привязывали к спине, чтобы освободить себе руки, а также для того, чтобы запечатлеть неизгладимую боль на маленьких, плохо кормленных тельцах, с детства приучить их к путам и таким образом навсегда отвратить от героизма.
Кроме того, необходимо было отбить у них вкус к независимости и одиночеству. Для этого матери услужливо протягивали им свою грудь всякий раз, как представлялся случай. Чутье подсказывало им, что маленькие мужчины, приученные к теплу груди, не смогут впоследствии обойтись без стадного тепла. Число тех, кто с воплями кусал грудь, было ничтожно. Матери знали, что большинство из них умрет рано, кое-кто доживет до отроческих лет – это и есть будущие герои. Как знали и то, что рассчитывать на них нечего: они потеряны заранее. Но, по счастью, оставалась основная масса других, тех, кто состарится, повинуясь стадной тяге к теплу.
Давно уже (а некоторые говорили, что очень давно) караван шел по пустыне, иссушенной зноем небес и бесплодием дюн. Караванщики обматывали себе ноги тряпками, а головы – длинными оранжевыми шарфами – получался оранжевый тюрбан (никто не знал, кем был выбран этот цвет, но все готовы были скорее умереть, чем взять другой).
Герои впереди тоже были оранжевые. Караван часто терял их из вида, и тогда караванщики ускоряли шаг, чтобы не отстать совсем, ужасаясь при одной только мысли о том, что могут осиротеть до срока. Тем более что герои, занятые поисками дороги, расчищают ее или прокладывают заново, а иногда и просто считают звезды, никогда не оглядываясь назад.
Их группа, и так уже поредевшая, уменьшалась с каждым днем. Герои шли на бесполезный риск, они играючи относились к отпущенному им времени, не считались с препятствиями. (Герои вообще никогда ни с чем не считаются: они не умеют считать или ошибаются в расчетах). Поэтому они бежали слишком быстро. Большинство из них побросало в пути свое имущество, так что шли они без всего, только с оружием в руках и лихорадкой в крови.
Часто они исчезали за горизонтом, но караван находил их след по останкам, которые словно вехи указывали путь и отвлекали гнавшихся по пятам шакалов.
Мало того, что приходилось выбиваться из сил, догоняя героев, надо было еще по возможности спасаться от миражей пустыни, если уж нельзя было разрушить их злые чары. Но, сколько бы они ни предупреждали друг друга после каждого такого видения, погонщики верблюдов всякий раз готовы были вновь поверить в обман, вкладывая в эту веру всю силу своих несбывшихся желаний. И в конце концов их постигало чудовищное разочарование (по силе равное надежде, которую они вкладывали в ожидание), и потому мужчины начинали кричать в голос, а женщины с воплями катались по земле. Около дюжины из них, с детьми на руках и с улыбкой на губах, уже раскрытых навстречу прохладе вод, поплатились жизнью за то, что позволили увлечь себя райским видениям. В тот миг, когда голубые озера, все еще стоявшие у них перед глазами, превращались в поверхность, покрытую опаловыми кристаллами соли, они тихонько опускались на землю, ребятишки выскальзывали у них из рук, но улыбка на губах оставалась и не исчезала до самого конца. Верблюды перешагивали через их тела и шли дальше.
Дел у караванщиков было много. Днем им приходилось защищать свои оранжевые головы от солнца, ночью – ограждать себя от ледяного холода. Вслух они сетовали при виде того, как горстка героев на горизонте тает, подобно шагреневой коже; втайне же они изыскивали наиболее надежные и не слишком заметные способы избавиться от последних из них, как только удастся добраться до оазиса. Самые хитрые говорили, что достаточно будет предоставить героям самим попасть в расставленные безмятежным спокойствием мирной жизни жестокие ловушки; политики предлагали окружить их почетом, осыпать драгоценностями и (кто знает, как далеко может завести героя тоска по геройству?) повесить им на шею красивую золотую цепочку… Красивую, но достаточно крепкую. А самые расточительные высказывали пожелание, чтобы они кормились за счет государства.
Ну а пока противоречие оставалось в силе: герои были нужны, дабы расчищать путь к оазису, однако потом им следовало умереть, чтобы можно было, наконец, остаться в своем кругу и спокойно вздохнуть. Ибо в данный момент дышать было нелегко: им все время приходилось торопиться, чтобы поспеть за героями. Они по горло были сыты этой эпопеей. Все это грандиозное величие не радовало глаз, пригибало к земле, истощало желудки, чаще наполненные ветром, чем густым супом. Все неистово жаждали добраться до оазиса, потому что там всякому величию конец: пальмы лишают смысла любую выспренность; под пальмами говорить следует тихо, в думах залетать невысоко, в желаниях – недалеко, к тому же каждую минуту надо сражаться с комарами.
Когда стражи на крепостной стене заметили вдалеке в солнечных лучах облако оранжевой пыли, следовавшее за караваном, они затрубили в длинные трубы, которыми обычно пользовались, чтобы ознаменовать возвращение прославленных воинов или поднять тревогу (трубы были одни и те же). Решено было расширить одни ворота города, чтобы караван мог войти, и наглухо закрыть все другие. Назначили торговцев, которые должны будут заняться выгодным обменом в интересах города, проституток, в обязанность которых входило заполнить досуг караванщиков, и главным образом героев, дабы получить таким способом обратно добро, которое поначалу придется дать пришельцам, и самого красноречивого судью, а иными словами, самого ловкого, умеющего отстаивать одно, а если надо – другое, в зависимости от обстоятельств, расположения духа и собеседника.
Караван встретили с танцами. Звуки флейт и гобоев заглушали звонкие поцелуи, запечатленные на обожженной коже. Ступни обнаженных ног топтали зеленые лужайки. И вскоре сады, расположенные в непосредственной близости от Южных ворот, превратились в поля красной глины, где прохаживались верблюды. Это были неизбежные потери, однако местный министр финансов заранее с точностью подсчитал общую сумму убытков и включил ее, увеличив впятеро, в стоимость тех товаров, которые будут проданы каравану.
Тем временем караванщики ели, пили и блудили в подвалах, прохладу которых им продавали, причем все, за исключением небольшого числа героев, горстка которых уже уперлась в противоположную часть крепостной стены, где они искали брешь. Герои, казалось, и не заметили, что караван прибыл на место, и когда их спрашивали о цели столь долгого пути, они отвечали, что она далеко, за горизонтом. Кое-кто из караванщиков плел нити заговора, намереваясь предать их смерти, как нарушителей порядка и опасных безумцев. Жители оазиса воспротивились такому варварскому обращению и, дабы вернуть заблудших на путь истины, направили к ним самых искусных блудниц. Через несколько дней последние герои возвратились успокоенные и довольные: это спасло их от неминуемой гибели.
Надо было устраиваться на жительство. Это оказалось не так-то просто, как представлялось в пустыне. От прежних героев уцелела всего лишь горстка, они бродили по узким улочкам, бледные и потерянные. Очень скоро чересчур жирная пища, которой набивали их желудки, привыкшие голодать, слишком красивые девушки, оказывавшиеся у них под боком, хотя они их не звали, комары, воздух, напоенный теплом, – все это размягчило их нервы и волю. Они начали умирать без всяких на то причин, а самые безрассудные уходили из оазиса. Их останки отнимали у шакалов в дюнах и водворяли на цветущем кладбище, заложенном специально для героев.
Огромная пустота возникла вследствие этого в караване – ее поспешили заполнить эпигоны. Быстрота, с какой произошла подмена, поразила некоторых жителей оазиса; эпигоны стали рассказывать, что перед смертью герои дали им поручение исполнить их волю, и что лист этот они ревностно хранили где-то в тайниках, как святая святых.
Поначалу у эпигонов дух захватило – с непривычки. Они пошатывались, точно пьяные: не привыкли к морской качке, а в раю покачивало. Но потом взяли себя в руки, к тому же воспоминания о прошлых лишениях обострили восприятие нынешних радостей, и та неистовость, с какой они спешили насладиться жизнью, приводила в восхищение даже коренных жителей оазиса. Однако довольно скоро они почувствовали, что к их забавам прикованы тысячи взоров, исполненных зависти, жажды и желания убить.
Тогда они стали искать способа притупить остроту взглядов или отвести их от себя. Тут же объявились люди, которые сказали, что они знают такой способ. Их решили испытать – успех превзошел все ожидания. Эпигоны создали из этих чародеев корпорацию патентованных специалистов, оплачиваемых и презираемых, которых стали называть идеологами.
Между тем способ был весьма прост. Народ, утверждали чародеи, жив не только хлебом, но любит еще и сказки, следовательно, надо изобретать их для него. Одну – чтобы утешить, другую – чтобы одурачить, но караванщики не склонны были к излишним рассуждениям. Самые циничные уверяли, что, как там ни говори, народу, в сущности, все равно, что иметь, лишь бы иметь.
Идеологи всюду стали повторять на все лады, что герои погибли ради эпигонов, что эпигоны и есть истинные Моисеи-спасители, что это благодаря им караван пересек пустыню и только благодаря им зрели хлеба, били источники, падала манна небесная и вставало солнце. Решением верховного совета пропаганда всякого инакомыслия была объявлена противозаконной и подлежала строгому наказанию. Кто-то внес предложение ввести столь же обязательное верование. Однако верховный жрец возразил, заявив, что контроль в этой области представляет определенные трудности. Он заявил, что имеет уже опыт, и добавил, что в таких не первостепенной важности сферах, как мышление, бесполезно, а вернее, даже опасно вводить те или иные законы. Пускай народ думает, что хочет, лишь бы это оставалось в секрете.
Так народ стали держать про запас, ради особых случаев – таких, как защита границ, касса взаимопомощи, торжественные шествия. Идеологи неустанно кричали о том, что только переходы через пустыню и апокалипсисы или же еще эпохальные символы достойны его, потому-то к нему и взывали, дабы обеспечить исходное сырье для одних и способ самовыражения для других.
Народ не обманул надежд, которые на него возлагались, – проявляя изобретательность, он не довольствовался точной игрой предназначавшейся ему роли. Он отводил удары, подсчитывал очки, радовался победам властителей, размахивая у них под носом кадильницей и заклиная время от времени ради их же блага судьбу: „Ананке, или как там тебя зовут, богиня, будь справедлива…“ Да, справедлива, как пуля, пронзившая обгоревшую кожу какого-нибудь караванщика.
Ведь сами-то караванщики ничего, кроме ударов, не получали от судьбы. Так уж повелось, что на долю народа достаются одни лишь удары судьбы. Он с молоком матери впитывает в себя несчастья, которые всю жизнь пытается не то чтобы преодолеть, но хотя бы немного смягчить. И поэтому он вечен, как камень. Те, кому выпадают на долю главные роли, нетерпеливы. Встретив на пути препятствие, они начинают брыкаться, напрягая всю свою волю, чтобы сломить его. И тут – кто кого: либо они ломают препятствие, либо… сами ломают себе шею. Караванщики следят за ними издалека, тихонько посмеиваясь, ибо они-то знают, что герои приходят и уходят, а караван идет – он вечен».
– В конечном счете, – заметил Камель, – он с честью выходит из положения, но какою ценой!
– Кто? – спросил Мурад.
– Караван.
– Я считаю, он сыграл свою роль, прекрасную роль.
– Ты мог бы придумать другую концовку. Ну я не знаю… может быть, спасти караван, потому что это массы, а массы ошибаться не могут.
– Или же, если ты так дорожишь своими героями (хотя я лично против), сделать их более действенными, – сказал Серж.
– Не хватает положительного героя, – усмехнулся Мурад.
– Вот ты смеешься, а между тем в жизни они существуют. Тогда как твои герои… что представляют они собой на деле? Разновидность сверхчеловеков – делают, что им вздумается, а на караван, который следует за ними, им, в сущности, наплевать.
– Мне кажется, что весь вопрос в этом, – сказал Камель. – Сверхчеловек, один на один с народом, который олицетворяют бараны, – да это удобная почва для любой разновидности фашизма! Потому что, в конце-то концов, герой – явление исключительное по самой своей природе. А как быть баранам? Что ты им предлагаешь?
– Это не мое дело.
– Понятно. То есть, иными словами, право вести за собой баранов ты предоставляешь идеологам. Ты сам себе противоречишь.
– Мне тоже так кажется, – заметил Серж. – Я считаю твою статью – как бы это сказать? – демобилизующей.
– И реакционной, – добавила Суад. – Ну что это за женщины в твоем караване: либо производительницы, либо проститутки. Это уж слишком!
– Что касается меня, то я просто не понимаю, как можно написать статью, имеющую отношение к вопросам культуры, – любую статью на эту тему – без тени намека на ислам, – возмутился Буалем.
– В общем, дело тут ясное, – сказал в заключение Камель. – Ты согласен?
– Вы отказались от сиропа с миндальным молоком, вам всем это надоело…
– Ну и что? По-твоему, либо сироп с миндальным молоком, либо иерихонская труба, другого выбора разве нет?
– Есть – всякая чепуха.
– Давайте подумаем, как можно исправить положение.
– Не понял?
– Нужно написать другую статью, где без всяких ссылок, разумеется…
– Ни за что, – отрезал Мурад.
– Что же ты в таком случае предлагаешь?
– В отношении газеты – это твоя забота. А что касается меня, то тут и решать нечего, все уже решено.
В ту же минуту Мурад бросил на стол маленький голубой конверт.
– Это что такое?
– Мое заявление об уходе.
– Ты его заранее написал?
– Когда меня вызвали в редакцию, я стал думать – зачем, и на всякий случай…
– Посреди брода упряжку не меняют.
Мурад громко расхохотался… Посреди брода?.. За тех, кто переходит брод, ему нечего волноваться. Это были великолепные пловцы, много лучше, чем он сам. Они умели твердо держаться на речной гальке. Скользили, как рыба в воде, причем в любой. Чтобы добраться до другого берега, они спокойно утопят Мурада и не задумываясь переступят через его труп. Угорь рядом с ними похож на грубую, неотесанную палку от метлы. На поверхности или в глубине, в прозрачной воде или в мутной – в мутной, пожалуй, даже лучше, – в жару ли, в холод, в спокойном или бурном море они скользят бесшумно прямо к намеченной цели; ловкие пловцы, они рядом с водорослями принимают вид водорослей, а могут стать акулами или пресноводными рыбами, в зависимости от времени и места действия.
Мурад встал:
– Я еду встречать Амалию.
– Кстати, нам только что прислали программу ее пребывания у нас.
Камель достал из кармана конверт.
– Четыре дня в Алжире, чтобы установить необходимые контакты, затем путешествие в Сахару. Маршрут такой: Гардая, Уаргла, Хасси-Месауд, поездка в Ин-Аменас, затем Джанет. Возвращаться будете другой дорогой: Таманрассет, Ин-Салах, Тимимун, Аль-Голеа.
– И на все это месяц?
– Немного больше.
Амалия ничуть не постарела. Она коснулась руки Мурада и села в машину, как будто только что рассталась с ним. И сразу же углубилась в изучение программы, которую он захватил для нее.
– Какие названия… Мне надо сначала привыкнуть.
Она взглянула на даты.
– И меньше сорока дней, чтобы успеть все это? Нас ожидают настоящие гонки. Единственный свободный день – завтра. Что можно сделать завтра?
– Посетить город.
– За один день – это нелегко, к тому же, мне кажется, я его уже знаю: Форум, Университет, Плато де Глиер, Мустафа, Баб эль-Уэд, Касба… Правильно?
– Нет!.. Это старый город… Он исчез.
– А больше ничего нет?
– Есть пляж, но это не очень оригинально.
– Песок… Сначала море, потом дюны…
– Я заеду за тобой завтра в отель.
Когда на другой день Мурад вошел в отель «Сен-Жорж», Амалия, устроившись под сенью гибискуса, читала «Альже-Революсьон».
Они поехали на запад. Дорога шла вдоль моря у подножия гор, покрытых кустарником. Чтобы помочь Амалии освоиться, Мурад перечислял старые названия: Сент-Эжен, Де-Мулен, Гийотвиль, Пуэнт-Пескад, Мадрага. В Зеральде они свернули направо: узкая дорога, петлявшая среди сосен, привела их прямо на пляж. Туристический комплекс возвышался с восточной стороны.
– Там совсем пусто! – Амалия глазам своим не верила.
– Это, разумеется, не Антиб, – заметил Мурад.
– Куда вы дели купальщиков?
– Утопили в море. Солнце ты желаешь в каком виде?
– Хорошо прожаренном.
– Сию минуту будет исполнено.
– Можно располагаться?
– Здесь? Ты что! Толпы пока еще спят, но они тут.
Он показал на тяжелое некрасивое строение в отдаленно средневековом стиле. Над входом в главную башню красовалась надпись «Сан-Суси», выведенная готическими буквами.
– Толпы скоро проснутся, и начнется нашествие.
Они направились в сторону Сиди-Феррюша, в конец пляжа, под сень мастиковых деревьев, спускавшихся к самой воде, и легли на уже теплый песок. На фиолетовое море солнце бросило ковер из переливающихся слюдяных пластинок. Как только стихало ласкающее кожу свежее дуновение ветра, начинало палить немилосердно.
– Надеюсь, наш переход через пустыню окажется более приятным, чем твой… тот, что описан в последнем номере.
– Ты уже читала? Что ты об этом думаешь?
– Не знаю…
Она колебалась.
– Нечего стесняться. Ребята высказали мне все начистоту, и я решил дать тягу.
– Как это?
– Подал заявление об уходе.
– Ты шутишь.
– Вовсе нет. Потом все тебе расскажу. Но ты-то что по этому поводу думаешь?
– Неужели здесь и в самом деле нет другого способа развлечься?
– Как же, есть! Ребятишки, вестерны, футбольные матчи по пятницам.
Он показал пальцем в сторону туристического комплекса:
– Нашествие варваров!
Первые группы купальщиков спускались из Зеральды на пляж. Их непрерывный поток, устремлявшийся к морю с дороги или из «Сан-Суси», закрыл в конце концов последние пятна серого песка, маячившие островками у самой кромки воды. Жесткий крупный песок под мастиковыми деревьями обескураживал отчаянных купальщиков, отваживавшихся забраться сюда, и Мурад с Амалией провели там весь день.








