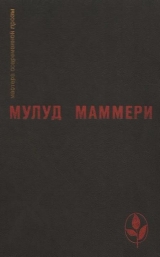
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Мулуд Маммери
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
И в самом деле, я ежедневно менял шерстяные бурнусы – появлялся то в сиреневом, то в черном, то в оранжевом. Под белой шелковой гандурой[11]11
Гандура – длинная шерстяная или хлопчатобумажная рубаха без рукавов.
[Закрыть] у меня переливалось красное болеро с рукавами, расшитыми до локтей. Я носил трость из какого-то неизвестного мне дерева, похожего на черное, с набалдашником из слоновой кости, мне ее подарил Акли накануне свадьбы.
Но еще резче выделялся наряд Аази. На эти ежедневные прогулки она ходила в традиционном уборе новобрачных, но у нас в селе давно уже не видели ничего более роскошного, чем ткани ее платьев, ее шали и драгоценности. Давда уговорила Акли подарить Аази диадему, которую он втайне от всех заказал лучшему ювелиру. Хотя женщины у нас носят только серебряные украшения, Менаш через брата выписал из Феса круглую золотую брошь и серьги с белыми камнями; что это за камни, он и сам не знал. Каждому из нашего кружка хотелось что-то подарить молодой. Идир извлек из своих сундуков покрывало, привезенное им из Афлу, которое Аази, вероятно, не станет носить. Меддур предпочел подарить ей нечто полезное, а именно наставление по уходу за грудными детьми, основанное на последних открытиях. Менаш, когда узнал об этом, чуть не лопнул со смеху, хотя, казалось бы, уже давно разучился смеяться. Ку надела на руку Аази свое серебряное колечко с финифтью; мы знали, что дела у Ибрагима пошли неважно и кольцо это досталось ему недешево. К счастью, вскоре после нашей свадьбы у Ку родился второй ребенок, и Аази преподнесла молодой матери приданое для младенца.
Наряды для Аази были куплены моим отцом; они были очень разнообразны, и Аази каждый вечер искусно подбирала дикарские, но причудливо красивые сочетания самых кричащих расцветок. Свои длинные ресницы она, по обычаю, сурьмила, и от этого зрачки ее приобретали синеву ночного неба, а глаза как будто уходили вглубь. Две тонкие золотистые черточки над бровями, проведенные отваром из коры орешника, казались двумя крылышками. Той же корой она подкрашивала губы и десны; руки и ноги у нее были подцвечены американской хной – более яркой, чем местная хна, которой у нас пользовались еще недавно. От всего этого веяло странным ароматом, где чувствовался и гелиотроп, и гвоздика, и росный ладан. Этот запах Аази оставляла за собою всюду, где проходила, – в траве, по которой ступала, в ветвях, задетых по пути; мы ощущали его даже на каменных плитах у родника Аафира, где накануне утоляли жажду.
Аази похудела, но вся светилась счастьем; мне трудно это описать – быть может, потому, что счастье вообще не поддается описанию. Женщины, ходившие за водой, завидев нас, опускали голову, как и полагается при встрече с мужчиной, но я не раз замечал, обернувшись, что они с восторгом любуются Аази.
С моей женитьбой наш кружок окончательно распался. Настоящая любовь эгоистична; мы с Аази были настолько заняты сами собой, что забыли о друзьях и уже почти не вспоминали о своем намерении открыть Таазаст.
Менаш тоже отдалился от нас и жил другой жизнью. Теперь он каждый вечер присоединялся к ватаге Уали. Терзаясь одиночеством в том тупике, куда его загнала страсть, которая, по нашим обычаям, карается смертью, он пытался преодолеть эту страсть с помощью теории, в которую упорно старался уверовать.
– Только выродки, только хилые порождения усталой цивилизации сомневаются и страдают. Одно лишь действие истинно, ибо оно разрешает вопросы даже прежде, чем они возникнут. Делать что бы то ни было, когда бы то ни было – вот в чем секрет счастья.
Ради осуществления этой прекрасной теории, а на самом деле для того, чтобы одурманить себя и забыться, Менаш стал постоянным участником сехджи.
В угоду вкусам кружка Уали Менаш, еще недавно такой нарядный, стал носить грязный бурнус, отпустил длинную бороду. Тонкую ивовую трость он сменил на ясеневую дубинку. Ввести его в кружок взялся наш пастух Мух. И он выполнил свое обещание очень ловко. В первую же ночь, когда Менаш присоединился к юношам, Мух превзошел самого себя. Он творил чудеса. Сначала он схватил тамбурин, и Менаш невольно залюбовался движениями его рук, такими быстрыми, что едва можно было различить пальцы; дробь Мух выбивал еле заметным движением большого пальца; затем он взялся за мандолину, но вскоре отбросил ее, так как оборвал струну. Сехджа оглашала все вокруг адским и все же размеренным грохотом. На рассвете Мух исполнил женские пляски. Для этого он переоделся женщиной. Приготовления были долгие: танец Муха напоминал вступление в бой старой гвардии. Он начал с медленного ритма, как бы приберегая силы. Вдруг Равех прервал сехджу и запел на новый мотив песенку «Мой базилик»:
Замуж мне давно охота,
Может, подыщу кого-то…
Он знал, что это любимая песенка пастуха Муха. Словно подброшенный невидимой пружиной, пастух вылетел на середину. Он удивительно чутко отзывался на каждое движение ритма, каждую его перемену: то вздрагивал, то успокаивался, то вновь приходил в неистовство. Складки его белого платья то зигзагами носились по воздуху, то, наоборот, ниспадали, точно приглаженные чьей-то невидимой рукой. Все присутствующие пустились в пляс; туго натянутая кожа тамбурина, казалось, вот-вот лопнет под пальцами Уали. Менаш был в восхищении.
Мух, запыхавшийся, вспотевший, сел возле Менаша и прислонился к нему спиной, чтобы немного отдышаться, а тем временем собравшиеся пели ему громкие похвалы; но наш пастух, казалось, ничего не слышал. Он снял с себя женское платье, молча надел коричневый бурнус и вперил взгляд в синеющую вдали гору. Вечеринка кончилась. Все направились вверх, к селению. А Мух все еще не отрываясь смотрел на горизонт. Многие приглашали его с собой. Он смущенно отказывался.
Менашу не хотелось домой. Темная ночь расшевелила в нем слишком много смутных желаний; а может быть, просто сказывалась бессонница? В эту ночь черты Давды стояли у него перед глазами как никогда отчетливо и неотступно. Неужели даже новое средство не поможет?
Когда все разошлись, они долго сидели вдвоем молча; потом Мух стал осторожно расспрашивать Менаша о его жизни. Менаш рассказывал обо всем – об учении, путешествиях, малейших подробностях прошлого. Ему было приятно, что кто-то интересуется им так настойчиво и вместе с тем так деликатно. В тот вечер он был расположен к откровенности. Говорил долго, и воспоминания одно за другим оживали в его памяти. Наконец друзья поднялись, но вместо того, чтобы направиться вверх, в селение, пошли по дороге в Аурир. Менаш продолжал рассказывать. Он поведал все, только – из стыдливости, а может быть, из каких-то неясных опасений – умолчал о своем чувстве к Давде. Мух слушал и лишь изредка отвечал, чтобы показать, что все отлично понимает. Порою он брал Менаша за руку, и юноша заметил, что у пастуха очень мягкая кожа. Когда Мух повернулся к нему, Менаш впервые обратил внимание на его глаза – они были необыкновенно хороши; а может быть, так только казалось в темноте?
Друзья вернулись в селение на рассвете, когда крестьяне уже выходили в поля на работу.
С тех пор Менаш каждый вечер спускался в долину. Утром он вставал поздно и большую часть времени проводил с Мухом. От бессонных ночей лицо у него стало мертвенно-бледным. Небрежность в одежде, считавшаяся в кружке хорошим тоном, вконец его обезобразила. Мух, наоборот, казалось, сиял от затаенного счастья. Никогда еще зеленоватые глаза не блестели так прекрасно на его матовом лице.
В середине ноября каждый из нас получил по грязно-белому конверту. Все мы оказались приписаны к Девятому пехотному полку, расквартированному в Милиане, куда нам и надлежало явиться восемнадцатого числа. Оставалось еще три дня. Мы решили пока что никому не говорить об этом. Успеется, скажем накануне вечером. Занятно было слышать, как мать и Аази отодвигают срок моего призыва, в то время как повестка уже у меня в кармане. Однако к вечеру шестнадцатого новость стала всем известна: Мух, которому с большим трудом удалось приписаться к нашему призывному пункту, а не у себя на родине, дал прочитать свою повестку Акли. Давда тотчас же поспешила к Аази.
– Да позаботятся все сорок святых твоего племени, чтобы он вернулся невредим.
– Кто вернулся?
– Разве не знаешь? Мокран послезавтра уезжает.
Давда знала, что я нарочно никому ничего не сообщил.
– Знаю, – солгала Аази. – Мне он сказал, но его родителям еще ничего не известно, и он хочет, чтобы они узнали только накануне.
– Так завтра и есть канун.
– Да, конечно. Я хотела сказать, только вечером.
Удар попал в цель. Кровь отхлынула от лица Аази. Она прислонилась к стене, чтобы не упасть, и дышала прерывисто.
В тот вечер я возвратился домой пораньше. Едва я надел домашние туфли, как Аази окликнула меня со второго этажа, из нашей спальни. Я поднялся к ней.
– Никак не могу затворить шкаф, – сказала она.
Я вынул бумажку, которая застряла в петле, и хотел было уйти.
– Ты не хочешь переодеться?
– Нет.
Она опять удержала меня:
– Я сложила твои красные книги в левый угол шкафа…
Она вся поникла, голос ее звучал неуверенно, вид был подавленный. Я подошел к ней, взял за подбородок, чтобы приподнять голову.
– Что с тобою?
– Ничего. А почему ты спрашиваешь?
– Что-то не так?
Она разрыдалась, склонившись мне на плечо. Я понял, что она все знает, и, чтобы окончательно не растрогаться, тихонько отстранил ее.
Грустно прошел наш последний день в Тазге. Один только Идир лихорадочно хлопотал у целой кучи чемоданов различной формы и размеров, словно готовился к приятному путешествию. Восемнадцатого утром Тазга проводила нас, охваченная той же скорбью, с теми же стенаниями, с какими провожала уехавших в сентябре.
* * *
Одиннадцать месяцев военной подготовки я провел в каком-то непонятном оцепенении. Это было во время «странной войны». Казалось бы, повседневные заботы военной жизни должны встряхнуть даже самых закоснелых. А меня ничто не могло расшевелить. Правда, в качестве будущих унтер-офицеров мы находились на особом режиме. Я оказался вынослив и не очень-то страдал от физической усталости. В часы занятий, пока наши товарищи с превеликим рвением изучали суровые красоты пехотного устава, мы с Менашем старались улизнуть и шли помечтать на берег Шершелла или отправлялись в обход кабачков.
У нас не было ни времени, ни охоты читать газеты, и только от гражданских узнавали мы о наступлении немцев. Мы восхищались неприступностью линии Мажино, когда она была уже обойдена, вместе с нашими собеседниками возмущались вероломством бельгийцев, когда немцы уже вторглись во Францию, и оплакивали Амьен в то время, когда уже капитулировал Париж.
Наш взвод был расформирован, и мы вернулись в Милиану. Вокруг Муха уже образовался кружок, оценивший его редкие способности. Первый месяц я провел там превосходно и наконец познакомился с городом. По окончании обучения мы все получили чин сержанта. В Милиане нас распределили по разным частям. По воле случая в роте, куда я попал, оказался старый кадровый сержант, мой однофамилец. Когда я представился капитану, он мне сказал, что я ошибаюсь: сержант Шаалал, зачисленный в его роту, уже давно в строю. Я вернулся в свою прежнюю часть; ею командовал младший лейтенант, получивший этот чин еще лет двадцать тому назад. Иметь среди подчиненных грамотного унтер-офицера и, по-видимому, кое в чем разбиравшегося вовсе ему не улыбалось. Он приказал мне немедленно убраться, иначе… Я опять обратился к капитану, но тот ответил мне столь же недвусмысленно. Итак, все отказывались от меня, и мне не оставалось ничего другого, как подать соответствующий рапорт и дожидаться распоряжения начальства. Так я и поступил. По вечерам я удалялся в свою палатку, а днем занимался чем вздумается.
Писарь заложил мой рапорт в детективный роман, где бумажка и пролежала целых четыре дня. А когда сослуживец, которому он дал почитать книгу, нашел в ней мой рапорт, писарь испугался, как бы его не наказали за небрежность. Исправить число опасно – слишком бросается в глаза; если же изменить месяц, то это может быть принято за поправку, сделанную самим подателем. Кончилось тем, что писарь переделал «апрель» на «май», и таким образом мой рапорт пролежал целый месяц под спудом, а обо мне все это время никто ничего и не знал.
Судьба Менаша – он тоже получил чин сержанта – сложилась иначе. В противоположность мне мой брат заслужил славу отличного унтер-офицера. И в самом деле к многочисленным мелочам военной жизни он относился на редкость внимательно и добросовестно; тут проявился его истинный талант, которого я до тех пор не замечал. Именно ему давали самые доверительные и ответственные поручения, именно на него возлагали обязанности, требующие особого прилежания и находчивости. И офицеры и товарищи твердили ему, что он прямо-таки «создан для военной службы», но ведь я еще недавно видел его возле Давды, а теперь жил с ним в одной комнате, и мне было ясно, почему днем Менаш взваливает на себя столько нелепых дел: он поступал так для того, чтобы никакие видения не мучили его ночью, чтобы сразу забыться мертвым сном.
Поэтому вечерами он возвращался всегда очень поздно. Мух служил в музыкантской команде, времени свободного у него было много, и он стал добровольным денщиком Менаша – стирал его белье, исполнял поручения, утром подавал кофе, чистил сапоги, убирал постель, а по вечерам они вместе отправлялись в казарму, а иной раз и в город, если дежурным по части бывал их приятель.
Я недоумевал, о чем они могут без конца толковать каждый вечер, и однажды, обуреваемый неуместным любопытством, пошел их разыскивать в казарму. На заднем ее дворе высилась куча песка, который солдатские башмаки и потоки дождя разносили по всем закоулкам. Друзья оказались там: они лежали на спине, обняв друг друга за шею. Я не верил своим глазам. Я хотел было бежать, не выдав своего присутствия. Но постыдное желание выведать побольше удержало меня, и я долго подслушивал их разговор.
Не буду повторять, что они говорили друг другу. Уважение к другу детства обязывает меня предать забвению его безрассудные речи. Я стоял как вкопанный; меня охватило даже не столько негодование, сколько удивление. Разумеется, слова еще не выходили за пределы дозволенного; воспитание приучило Менаша ценить форму, но за внешне приличными выражениями легко было догадаться об истинной природе чувств, привязывавших моего брата к Муху. Возможно ли, что Менаш так опустился?
Мне припомнились некоторые мелочи. Передо мною вновь предстал Мух, пляшущий в женском платье, в памяти смутно ожили ссоры Равеха с Уали из-за Муха, на которые я в свое время не обратил особого внимания.
Когда изумление мое улеглось, я принял твердое решение. Нельзя допустить, чтобы Менаш погряз еще глубже! Я собрался в тот же вечер поговорить с ним. Когда он вошел, тяжело шагая, я сидел на своей койке и перечитывал странное письмо Аази, где она, прямо не жалуясь на мою мать, предупреждала меня, чтобы я не слушал никаких ложных обвинений.
В блестящих глазах Менаша было что-то животное, как и тогда, на площади в Тазге.
– Еще не спишь?
– Тебя жду.
– Вот как?
– Тебя все не было, и я испугался, не случилось ли с тобой чего-нибудь.
– Но ведь ты же знаешь, что я все вечера провожу с Мухом.
– Хотел бы я знать, что у вас может быть общего?
Он уклонился от ответа, сделав вид, будто только сейчас заметил письмо в моих руках.
– От Аази?
– Да.
– Что она пишет?
– Что Давда и она сама очень по тебе скучают. Скажи, помнишь ты еще Таазаст, вечера у Давды?
Ничего. Ни малейшего отзвука, словно все это для него давно умерло. Тогда я пошел напрямик:
– Зачем ты так часто ходишь вместе с Мухом? Ты унтер-офицер, он тебе не ровня ни по культуре, ни по образованию.
Менаш резко обрушился на меня:
– Ты весь пропитан презренными мещанскими предрассудками. Пора бы избавиться от них. Образования, конечно, он не получил, зато какой это человек, какая богато одаренная натура!
Я стал возражать, и тут Менаш, чтобы убедить меня, раскрыл мне всю правду. К Муху он не чувствует ничего, кроме чисто дружеской симпатии. Ему нравятся зеленоватые глаза пастуха, он даже назвал их «волнующими», и его загадочная улыбка, но выше всего он ценит в нем удивительный ум и неоспоримый артистический дар. Это великолепный самородок, как выразился Менаш. Мух в свой черед ценит в моем брате изысканность, культуру, все то неуловимое, что дается тщательным воспитанием.
Но может быть, Менаш рассказал мне не все? На другое утро, когда Мух принес кофе, я завел разговор на волновавшую меня тему. Он охотно его поддержал. Как я и думал, кое о чем Менаш умолчал, а именно о неприкрытой вражде к нему Равеха и Уали, которые объединились, после того как Мух отдал предпочтение этому чужаку, даже не принадлежащему к их среде; о расколе ватаги – часть ее присоединились к Менашу и Муху, а другая – к Равеху и Уали; наконец, о событии, которого, правда, не знал и сам Менаш, а именно о том, что за несколько дней до мобилизации Мух женился.
Пастух говорил об этом как бы извиняясь; жениться его заставила мать: жаловалась, что нет у нее никого, кто помогал бы ей по хозяйству и в поле. Жену свою он не любит, увидел ее первый раз на свадьбе, при первом же удобном случае расстанется с нею.
– Менаш этого не знает, – сказал он мне полусконфуженным-полупросящим тоном, намекая, что моему брату отнюдь не обязательно знать это.
– Так он и не узнает, – ответил я.
Губы Муха скривились в усмешке.
Не столько от желания курить, сколько от смущения я достал сигареты и предложил Муху; он отказался. Я знал, что он очень воздержан, даже когда члены ватаги передавали друг дружке трубку с кифом[12]12
Киф – наркотик из листьев индийской конопли, который подсыпают в табак.
[Закрыть], он всегда отказывался. Уставившись на клубы дыма, я думал о Мухе. Я снова представил себе, как он впервые появился в казарме в том же коричневом бурнусе, что носил в Тазге. Волосы у него тогда были острижены довольно коротко, теперь он отпустил их; все та же белая шерстяная феска, надетая набок, прикрывала его лоб, из-под четкой линии бровей блестели влажные глаза; движения его и голос ничуть не изменились. Во время разговора он по-прежнему вытягивал длинную шею вперед.
– О чем ты думаешь? – прервал он мои размышления.
– О тебе.
Он устремил на меня серьезный и такой пристальный взгляд, что я смутился.
– Ты поедешь в отпуск на праздник рождения пророка? – спросил я, чтоб уйти от немого вопроса в его глазах.
– Я как раз собирался тебе об этом сказать. Можешь заполнить за меня бланк?
Я был рад переменить разговор и охотно заполнил мятый белый листок, который Мух вынул из кармана. Он попросил не вписывать, куда именно он собирается.
– Ты, конечно, поедешь повидаться с женой? – отважился я спросить.
– Может быть, – ответил он просто.
Накануне отъезда Муха Менаш вернулся домой только в четыре часа утра. Я убеждал его тоже съездить в Тазгу, надеясь, что воспоминания, а особенно присутствие Давды встряхнут его, он вырвется из-под влияния нашего пастуха и его окружения. Но Менаш не хотел ехать, быть может, он втайне предпочитал бесцветность теперешней жизни прежним страданиям. Отчаявшись убедить его разумными доводами, я прибег к последнему средству:
– Пожалуй, ты и прав. К кому тебе ехать? Мух – другое дело, он едет к жене.
Сначала он не поверил. Я передал ему весь свой разговор с пастухом. Глаза Менаша вспыхнули изумлением и злобой.
– Почему вы это от меня скрывали?
Когда Мух вернулся из поездки – бородатый, с растрепанной шевелюрой, с оскаленными зубами, словно он не ел уже несколько дней, – Менаш сделал вид, будто не замечает его. Пастух и сам был явно удручен. Вероятно, его мать и жена жили не очень-то хорошо.
Однако Мух никогда не говорил о своей жене, о доме. Никогда не упоминал о Тазге. Казалось, он с головой ушел в солдатскую жизнь. Все, что не относилось к его приятелям, к его горну, к котелку и учению, для него, видимо, не существовало. Вечерами оставался всего какой-нибудь час, когда усталые стрелки могли собраться и поделиться воспоминаниями. Мух либо сидел в одиночестве, либо присоединялся к первой попавшейся группе и молчал; казалось, он только начинает жить, он был человеком без прошлого. Товарищи привыкли относиться к нему как к пустому месту. О нем ничего не знали и не старались узнать.
Однажды, когда он сидел, прислонясь к стене, вдали от остальных, я подошел к нему. Он сразу вскочил, насторожился.
– Шутки в сторону, – сказал я, – что же это, Мух, ты перестал подавать кофе?
– А что же он об этом не спросит?
– Не решается. С тех пор как ты ездил в отпуск, он очень изменился.
– Ты ему сказал? Да?
– Сказал, а тебе разве не все равно, знает он или не знает?
Мух глубоко задумался. Руки у него опустились. На лице отразилось такое страдание, что я поспешил перевести разговор на более приятную для него тему:
– Что ты нам привез от буадду?
– Я у них не был.
– Так где же ты провел отпуск?
– В Тазге.
Меня охватил непонятный, безрассудный восторг, словно я сам побывал на родине.
– Аази просила передать тебе письмо. Она не хотела посылать его по почте, боялась, как бы не вскрыли в Тазге.
Я не стал упрекать Муха за то, что он не отдал мне письмо раньше, и сунул его в карман, чтобы прочитать, когда останусь один. Пастух теребил шелковистые волосы на затылке и стискивал зубы.
– Как они там поживают? – спросил я.
– Кто? Там почти никого не осталось. Уали и Равех в армии, Мулуд – в Орании, Уамер дни и ночи проводит на полях. А остальные меня уже забыли. Мне даже не предложили поесть, я чуть не умер с голоду. В первый вечер один земляк поделился со мной ячменной кашей, но не мог же я столоваться у него. За последние двое суток я съел семьсот граммов сухарей – вот и все.
– Пошел бы к моему отцу.
– Я не решился пойти к твоему отцу. Искал только тех, для кого играл ночами до самой зари.
Глаза Муха увлажнялись все больше и больше.
– Почему же ты не навестил жену?
– Через месяц после свадьбы она уехала к своим родственникам с материнской стороны. Все ждет, что я за ней приеду.
– А твои поля?
– Не хочу ничего от тебя скрывать. Я не вспахал ни одного арпана[13]13
Арпан – мера земельной площади (около половины гектара).
[Закрыть], не посадил ни одного дерева, не посеял ни меры зерна. Я не раскрывал рта, даже когда пастухи пригоняли коз пастись на мои участки. Пусть другие заботятся о счастливой старости: пусть умрут богатыми, важными и все-таки печальными. А я хочу одного – пожить в свое удовольствие; молодость – дар божий, и упускать ее – грех.
Я мимоходом отметил, что зерно, брошенное Менашем, попало в благодатную почву.
– Я не люблю жену. Она это понимает, потому и уехала; она надеялась, что я позову ее. Я не люблю своих полей; все, что там можно найти, собирают друзья моего отца; они же косят и траву.
Краткие, отчетливые звуки сигнала, сзывающего на вечернюю поверку, заглушили голос Муха; он умолк и продолжал молчать даже после того, как отзвучал горн. Он не шевелился и, казалось, не спешил идти на призыв.
– Вставай, а то еще запишут, что ты в самовольной отлучке, – сказал я.
– Ну и пусть, – отозвался он, пожав плечами.
* * *
По ровному, очень старательному почерку я понял, что письмо Аази написано ею собственноручно. Смысл его был весьма туманен, я прочел письмо по частям и долго размышлял, прежде чем наконец понял, что именно хочет сказать моя жена. Французским Аази владела далеко не в совершенстве, но дело было даже не в этом: она стремилась не столько высказать какие-то мысли, сколько подсказать их.
Перечитав письмо несколько раз подряд и дополнив недомолвки воспоминаниями, я уразумел следующее: моя мать плохо относится к Аази; жена не может объяснить, чем это вызвано, потому что сама не понимает. Если б не заступничество моего отца, моя мать, вероятно, прогнала бы ее; свекровь уже знает, что перемирие подписано, и ждет только моего возвращения, чтобы я сам отослал жену.
«Ты только возвращайся поскорее,
– писала Аази, –и тогда мне будет хорошо. Перед сном я каждый вечер молюсь: „Сохрани Мельхе ее сына, чтобы она радовалась в сердце своем“.Она все мне твердит: „Почему у тебя нет детей?“, но ведь если мне придется уехать, так тебе же будет лучше, что у меня нет детей».
Я пожалел, что не съездил в Тазгу на праздник рождения пророка. Тогда я увидел бы все своими глазами, ведь туманные фразы Аази дают лишь повод для шатких предположений, а главное – мне, быть может, удалось бы восстановить мир.
И вот я впервые стал разузнавать, когда же предполагается демобилизация.
Ответ на этот вопрос я нашел в полученном на другой день письме Идира, который находился тогда в Блиде; письмо было злобное, мрачное. Армия вконец разочаровала моего товарища – характер у него был чересчур независимый, чтобы подчиняться какой-бы то ни было дисциплине. Он рассчитывал на приключения, но его так никуда и не отправили из Алжира. Он сделал все возможное, чтобы стать летчиком, а его зачислили в нелетный состав. Вопреки собственному желанию он попал в учебную часть и должен был стать унтер-офицером – одним из тех, кого он презрительно называл «служаки». Он познакомился только с безнадежно будничной стороной армейской службы. Усталый и разочарованный, он мечтал теперь об одном: уйти из армии. «Еще немного, и я испещрю всю казарму гигантскими надписями: „Домой! Да поскорее!“ А наша очередь, говорят, только в октябре».
Он не ошибся. В середине октября после сложных формальностей мы с Менашем покинули казарму, вырядившись в самые невероятные одежды. Мух должен был освободиться несколько позже.
Мы дали себе зарок не работать целый год после демобилизации. Мы так и не попали в ту великую мясорубку, ради которой покинули родные места, зато годичный опыт научил нас не придавать значения никаким дипломам и аттестатам. Поэтому ни Менаш, ни я не стали продолжать учение. Даже Меддур, также приехавший из Блиды, заявил, что не собирается возвращаться в школу, где он преподавал до мобилизации. Цель у нас была умеренная и вполне определенная: по утрам вставать когда вздумается, не страшась сигнала побудки; засыпать лишь после того, как веки начнут сами собою смыкаться; есть досыта; ходить гордо подняв голову, выпятив грудь и заложив руки в карманы; на улице не жаться к домам, боясь нарваться на офицера, который сразу догадается, что ты удрал с поста. Мы много раз повторяли: «Ничего не делать, ни о чем не думать. Только спать».
Но жизнь опрокинула все наши планы. Разве те, кого мы любим, те, кто нас ненавидит, да и просто окружающие дадут нам жить спокойно только потому, что в течение года нас трепало, словно листья на ветру?
Не прошло и месяца, как щеки Менаша округлились; и он возобновил свои бесконечные ночные прогулки. Мух еще не приехал, и Менаш отправлялся один; домой приходил лишь на заре. Идир стал молчалив. Он уезжал на два-три дня на охоту и возвращался обычно в сумерках, как раз в то время, когда Менаш уходил на прогулку, – возвращался грязный, обросший, осунувшийся, с видом человека, разочарованного в жизни. Он передавал Менашу Бенито, который очень привязался к моему брату, мимоходом бросал «Добрый вечер» и садился один ужинать в большом зале; покончив с едой, он ногой отпихивал блюдо, заворачивался в свой коричневый верблюжий бурнус и ложился спать в углу. Спал он тревожно, во сне то командовал каким-то воображаемым взводом, то напускал Бенито на дичь, которая от него неизменно ускользала. Ко мне в комнату доносился его голос, во сне он становился еще более хриплым; когда Идир начинал кричать уж очень громко, у него вырывались какие-то непонятные слова; от ужаса Аази затыкала себе уши и молча прижималась ко мне. Но еще хуже бывало, когда Бенито, возбужденный сонным голосом хозяина, принимался скрестись в дверь, а иной раз начинал лаять, да так оглушительно, что Идир просыпался.
Однажды вечером, возвратясь с Менашем с охоты, я крепко заснул, и разбудил меня на этот раз не Идир, мучимый кошмарами, а чей-то громкий крик и вслед за ним голос моей матери. Она ломилась в дверь. Я вскочил. Тут я обнаружил, что жены нет рядом, и меня охватил какой-то безрассудный страх.
– Мокран, вставай!
Я бросился к двери.
Моя мать держала Аази под руки, а та понурила голову, как ребенок, которого бранят; потом мать резко втолкнула Аази в комнату. К счастью, кровать стояла прямо против двери. Аази тяжело рухнула на постель и разрыдалась; ее трясло.
Я не все понимал в том потоке слов, который лился из уст взбешенной матери:
– Она одна стояла на лестнице… одна… в такой час… а ты, Мокран, спал… Это подколодная змея, гадина, приносящая несчастье. Из-за нее ты чуть не погиб на войне. Выгнать ее, выгнать завтра же, а не то я сама уйду из дому. И это жена моего сына…
Она металась от порога к постели, в отчаянии била себя руками по лицу, указывала пальцем на гору, призывая святых в свидетели, а когда не находила слов, то кричала: «О! О!»
В конце концов отец проснулся от шума и появился с большим глиняным светильником в руке. Он медленно подошел, дал матери выговориться, а когда она кончила, просто сказал:
– Ступай к себе.
И все успокоилось. Только Аази продолжала тихо рыдать, лежа на кровати. Я приподнял ее. Она была очень бледна, глаза у нее покраснели от слез, щеки все еще дрожали, зубы выбивали частую, прерывистую дробь.
– Что случилось?
Она долго не могла отдышаться.
– Когда ты уснул, Идир стал кричать еще громче, чем в прежние ночи. Я пыталась тебя растолкать, но ты слишком устал от охоты. Я попробовала уснуть. Идир плакал и так страшно стонал, что я подумала, не случилось ли с ним чего-нибудь и в самом деле. Я пошла разбудить мать, чтобы она сходила к нему. Я долго к ней стучалась, но никто не откликался. Идир то затихал, то начинал снова, еще громче. Я стала подниматься наверх, чтобы все-таки тебя разбудить; и вдруг кто-то выскочил из-за двери нашей спальни. Я закричала. Это была твоя мать. У меня подкосились ноги. Она схватила меня под мышки, встряхнула, потом поднесла руки мне к самому лицу, как бы собираясь меня исцарапать, будто хотела укусить, и тут появился ты… Отвори, пожалуйста, окно.
Описывая эту сцену, Аази опять судорожно затряслась; она обнимала меня за шею и пугливо жалась ко мне, словно еще видела перед собою ногти и оскал моей матери.
Мне стоило большого труда ее успокоить. Я взял жену на руки и стал баюкать, как ребенка, потом увидел, что веки ее понемногу смыкаются; но сам я больше не сомкнул глаз.
Из-за глинобитной перегородки до меня доносился разговор родителей, он продолжался до самой зари, пока голос шейха не призвал их к молитве. По правде говоря, это был, скорее, длинный монолог, потому что слышался главным образом степенный голос отца. Он доказывал, ссылаясь на общественные примеры, что пытаться изменить неисповедимые предначертания всемогущего – кощунство, которое не приведет к добру.








