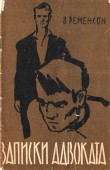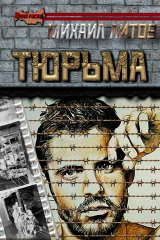
Текст книги "Тюрьма (СИ)"
Автор книги: Михаил Литов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
И следует принять во внимание, что я всегда был неприхотлив, хотя и не прост, всегда был скромен, коротко сказать, был тем, о ком непредвзятые люди говорят: вот кто без задней мысли, вот у кого открытое лицо неподдельно честного человека, вот кому множить и приумножать добрые дела, лелеять и всячески пестовать заботу о ближнем! Если что-то мне вредило в моем существовании, так это незаурядная смазливость, заставлявшая представительниц слабого пола вечно липнуть, таскаться за мной хвостиком. Но это так, между прочим… Я бы в заварушке держался не хуже майора Сидорова, вот что я хочу сказать, и к тому же я не поклоняюсь золотому тельцу, не служу где-нибудь таким образом, чтобы внушать кому-то зависть и наживать себе врагов, смотрю в будущее пессимистически, но без ущерба для окружающих, и настроен скорее на патриотический лад, чем с затаенным и отвратительным намерением действовать разлагающе и совращать кого-либо гнусной пропагандой исторически чуждых нам ценностей. Не приведи Господь кто-то подумает, будто это пагубное и воистину мерзкое намерение у меня все же имеется, но не в порядке преобладания, и просто-напросто цинично припрятано, в самом деле затаено, дожидаясь часа, когда ему будет позволено с наглостью вылезти наружу. Чего я действительно не перевариваю, это когда мне приказывают, уставная жизнь и чья-либо насильственно довлеющая надо мной распорядительность – все это не для меня, я анархичен и, если уж на то пошло, боевую, например, задачу выполнил бы и без всякого приказа, просто потому, что в этом по тем или иным причинам личного характера стала очевидная для меня надобность. Правильному развитию литературных способностей меня учил почтенный человек, сам, к сожалению, на этом поприще не преуспевший. Исповедоваться, как это уже хорошо видно, мне легко, но ведь не время же для автобиографических рассказов, поскольку я живу исключительно настоящим, а оно – летопись смирновского бунта, менее всего располагающая к допустимым и в каком-то смысле даже необходимым в моем случае сетованиям на жалкую и глупую старость. Поэтому оставляю без освещения счастливое отрочество, годы учения, пору зрелости, благословенного расцвета сил и талантов и перехожу прямо к краткому изложению причин, побудивших меня взяться за исправление романа об упомянутом бунте, написанного одним моим добрым приятелем. В ходе продолжительного опыта соприкосновения с этим во всех, кроме литературного, отношениях прекрасным человеком я убедился, что его роман слаб даже в качестве бульварного чтива, и это в конце концов образовало неистребимую питательную среду для сомнений и даже для похожего на приговор предубеждения, – кому приятен господин, пишущий наживы ради, поддавшийся осквернителям книжного дела, захватившим это последнее в свои руки, и на все готовый, а значит и на то, чтобы без зазрения совести дурачить читателя? Кому по душе эти потенциальные Толстые и Горькие, раболепствующие перед ничтожествами, возомнившими себя распорядителями и вершителями не только не только книжных, но и человеческих судеб? Между тем канва, подкладка которой зиждется, несомненно, на полной драматизма истории смирновского бунта, представляет собой небезынтересную сторону несчастного романа, судьбой которого стало безвестно кануть в бесполезный океан подобных, если не худших, еще сквернейших, творений. И в один прекрасный день мне, заинтересовавшемуся и встревоженному, пришло в голову переписать роман, поработать над ним засучив рукава, внося, видит Бог, существенные изменения, все сделать для того, чтобы не покладая рук достичь великолепных результатов в перелицовке того, что раньше, по большому счету, и лица-то не имело. Друг, к тому времени утративший надежду совершить карьеру криминального литератора и практически переставший писать, сказал, что я, если мне не лень, могу пользоваться его романом по своему усмотрению и что в общем-то я задумал, на его взгляд, неплохое, полезное для литературы дело.
* * *
Знаете, не губошлепам разным, не критикам-самозванцам и не сильно сдавшим девам, некогда увивавшимся за мной, судить и рядить на предмет моих свойств, возможностей и намерений, не им решать, сознаю ли я сам, кто я такой, откуда пришел и куда иду. А вот непредвзятых людей, истинных ценителей добротного человеческого материала, знатоков физиогномистики, психологии, художественных качеств и душевных наклонностей – о-о! – их еще поискать нужно, их, может быть, днем с огнем не сыщешь. Тема это горячая, насущная и, можно сказать, отчаянная, трагическая. Так вот, возвращаясь к бунту… Множество голов с жадно и весело поблескивающими глазками кучерявилось и плешивилось в окнах. Довольно узенько смотрели, словно в щели или как что-то хитро свое соображающие животные. Сколь ни ясно вижу я эту картину, мысли и чувства украшающих ее персонажей остаются вне моего понимания. Штурм давно отслоился от моей нынешней действительности и ушел в прошлое, однако ничто не мешает мне восстановить его в подробностях, деталях и даже красках и составить о нем довольно сильное представление, а вот что испытывали и, как говорится, переживали тогда его участники и зрители, это теперь может служить для меня разве что областью догадок и домыслов. Я даже готов подивиться, что в этом прошлом, все еще недавнем, многие находили правильным и умным и о столь значительных событиях, как штурм смирновского лагеря, рассказывать и писать тесно, голо, убого, с нарочитым упрощением и нарочитым же потаканием дурному вкусу, в общем, так, словно тогдашние властители дум учились не у Грибоедова, Розанова или Ремизова, а у пещерных людей. Иначе сказать, те самые господа, которым, если верить Якушкину, выпало жить и развиваться исключительно по Марксу, Фрейду и Эйнштейну, ловки были спекулировать в какой угодно сфере и под каким угодно спудом, а приоткрылась щель в книжную индустрию, они и нырнули в нее со всей своей мышиной прытью. Мне кажется, момент ныне подходящий, чтобы сказать, что с таким положением дел уже покончено, а если нет или не до конца, не до предела, то нет более важной задачи, чем та, которая ясно указывает, что покончить следует как можно скорее.
Между тем журналисты, мурлыча что-то себе под нос, пожимаясь и смущенно усмехаясь, когда неожиданно материализующиеся солдаты будто брали их на испуг всей своей бравой и грозной статью, заметно продвинулись к очагу, к тому, что можно назвать гущей событий. С полнотой вымученной серьезности, раздаваясь в нескончаемую ширину, облепили стены близлежащих домов полипы, прижимались к стеклам мутных окон узкие мордочки каких-то трогательных зверьков. Это и есть картина прошлого – в объеме доступности к тогдашним мелочам жизни и шанса на уразумение сути бурных всплесков более или менее драматических явлений. Пропихивались в дверные проемы пузаны в вылинявших майках, Бог весть куда поспешая; зависали на крошечных балконах грудастые бабы. У дебелых баб этих круглое светофорное свечение глаз поглощало лоб, даже височные доли, нарушая тем самым давно принятый порядок вещей, нарушение которого в обычные дни повлекло бы за собой крушение всего круга домашних обязанностей. Колонна машин характерно военного вида тянулась от самого кордона до ворот лагеря, и между ними сновали солдаты в черных блестящих комбинезонах и круглых, похожих на шляпки грибов, касках. Судьба моего друга, пытавшегося снискать славу бойкого сочинителя криминальных фарсов, и судьбы этих готовых вступить в решающий бой воинов не переплетались, но что его перо смехотворно пятилось перед их вполне задорной мощью, сомневаться не приходится.
Дежурившие у входа в штаб солдаты наотрез отказались пропустить журналистов: у них четкий приказ препятствовать проникновению на территорию лагеря посторонних, тем более гражданских лиц, не задействованных в операции. Внезапно расхрабрившийся Орест Митрофанович позволил себе организовать полемику. А вот в небезызвестной декларации прав… Нет, давайте разберемся! Что, имеются-таки задействованные гражданские лица? Так почему бы не задействовать и его, известного ничуть не менее упомянутой декларации господина? Орест Митрофанович любил поспорить; с удовольствием бросал он слова на ветер. Мимо с озабоченным видом пробегал офицер, и Якушкин, вспомнив, что видел его в кабинете начальника лагеря, принялся не без горячности апеллировать к нему. Офицер поднял голову, грустно посмотрел на Якушкина и Причудова и хотел было притвориться, будто не узнал их, но сообразил, что это только отнимет у него драгоценное время. С удалением зачатков притворства он как будто посветлел, но сколько-то высокого искусства его жизнедеятельности это не прибавило, и в конечном счете его лицо выразило ожесточение, недовольство: вечно эти штатские путаются под ногами и отвлекают от важных дел!
– На ваш счет инструкций нет… Не знаю… Думаю, вам ни хрена не светит, не пройти… – бросил он почти что на ходу, как будто все еще усердствуя в своем целеустремленном движении. – Но попробую навести справки…
– У нас аккредитация, – измыслил Орест Митрофанович.
Офицер недоуменно сморгнул, несколько времени, застыв на месте, вовсе без всякого смысла хлопал глазами. Он забормотал, глядя себе под ноги и монотонно покачивая головой:
– Аккредитация… Ампутация, профанация… Опция дельная и опция никудышная… Аккредитация в свете соломоновых решений… Абракадабра, она же аккредитация… Аннигиляция и в то же время инсинуация… Ей-богу, просто бездна глупости и больше ничего… А хода нет! – вскричал он. – Шлагбаум! – Штабист вытянул руку, поднял ее вверх и вдруг резко опустил прямо перед хищными клювиками ставших в его глазах дутыми журналистов.
Благополучно выпутавшийся из сетей, расставленных штатскими, офицер скрылся за дверью штаба. Между тем, что делалось, и пониманием, зачем это делается, разверзлась бездна.
– Ждать бесполезно, – объявил Орест Митрофанович, – офицерик уже выкинул нас из головы.
Оресту Митрофановичу и не хотелось в штаб. Там опасно, скользко. Вдруг попадется на глаза прокурору? Вдруг прокурору взбредет на ум арестовать его?
Словно в безвоздушном пространстве Якушкин и Причудов побрели куда-то, объятые унынием. Выкинуты из головы незначительного военачальника. Или в остро и резво, круто складывающихся обстоятельствах любой значителен? Решили взойти на холм неподалеку, но едва удалились от лагерных ворот, как маленькая, бойкого вида старушка, разгадав их намерение, посоветовала подняться на крышу нового девятиэтажного дома. Она и сама не прочь была бы оказаться на крыше, ибо ей очень хотелось посмотреть, как будут бить «проклятых душегубов», но древний возраст отказывал ей в этом трудном восхождении.
* * *
Не берусь пока судить, вполне ли я захватил нить повествования в свои руки и позволительно ли мне уже без обиняков говорить о накипевшем и наболевшем, прямо излагать варящееся в уме. Тем не менее рискну заявить бесспорную для меня истину, что тюремная конституция, восхвалением которой после своей отсидки пробавлялся Филиппов, выеденного яйца не стоит. Не может быть хорошей конституция, если она хороша только для придумавших ее, а вне тюрьмы представляет собой мыльный пузырь или даже откровенное злоумышление, и если сидящие под стражей законодатели сами по себе, скорее всего, отпетые мошенники, злодеи, прохиндеи, плуты и, по большому счету, шуты гороховые. Разумеется, я и не думаю бросить тень на всю массу узников, исключения возможны и даже обязательны, не все там пропащие души.
Добрейший и абсолютно гениальный Достоевский (а в исправляемом тексте проставлено лишь имя-отчество, что выглядит, согласитесь, слишком уж фамильярно, и это – не по Сеньке шапка) в «Записках из мертвого дома», описав умиление каторжан на театре, – их самодеятельность дала несколько простеньких постановок, – намекает, что когда б меньше давить на этих «бедных людей», они выказали бы себя куда более добродетельными, сами стали бы гораздо благополучнее, по-своему счастливы и даже, может быть, решились бы на исправление. А давили, понятное дело, «образованные», власть предержащие, бюрократы из благородных, отстранившиеся от народа и не желающие ничего знать о его нуждах. Но сто лет спустя что-то не видать особо добродетельных ни в лагерных клубах, ни в бараках, ни на тюремных нарах, ни в отхожих местах, которые нередко служат местом отдохновения и похожих на клубные сборищ для лагерной ущемленной публики, для тамошних униженных и оскорбленных. Тот самый народ, который в основном и производил каторжан, совершил пресловутое восстание масс и некоторым образом приблизился к вершинам власти, претворив ее нервные окончания в некую пародию на самовладение, в комические ужимки самообладания; сам занялся организацией и содержанием тюремного дела – и «мертвые дома» стали куда тяжелее и гаже. В книжке Федора Михайловича каторжане только посмеивались над собратьями, исполнявшими в спектаклях женские роли, и опустить их им и в голову, видимо, не приходило. Нам же не отстранить уже, не изъять из оборота дикую, на первый взгляд, тему «петухов», участь которых на воле, может быть, даже по-своему и завидна, чего не скажешь о лагере, где условия их существования выдержаны в чудовищно мрачных тонах. Они множатся, когда триумфально, а когда и с треском, число их теперь вряд ли поддается учету, но оно безусловно велико, – факт это знаменательный, многое говорящий. Глаз у нас не замылен, и мы ясно видим, что катастрофически ужасной тюрьму сделали, действуя как сверху, так и снизу, все равно как огуляли, раскрепощено и необузданно тычась во все дыры. Наверх, в чиновники, заодно с двумя-тремя недалекими идеалистами, мечтательными творцами революционного дела обильно пошли не чуждые дурных, помеченных, если можно так выразиться, сугубо демократическим клеймом замашек людишки, оставшиеся внизу на ролях трактористов, лесорубов, кассиров, «ментов», веселых ребят, скупых на слова прозаиков, вечно хмельных поэтов, по-своему празднуя снятие прежних сдержек и скреп, неумеренно опростились и обездумели. А гуляли все, бесшабашно отплясывали на прахе веков, прожитых в более или менее разумной обстановке. Казалось бы, касается оброненное нами ироническое замечание о гульбе лишь тюремного вопроса, поскольку в остальном было не до плясок, и далеко не все распотешились; ирония допустима, но распускаться на ее почве, ударяясь в нечто гомерическое, нечего, это стало бы тревожным сигналом для совестливости и попросту скверно, как в известном «анекдоте» того же Федора Михайловича. Бог мой, даже этот «анекдот» можно интерпретировать и «передать дальше» так, что станет тошно и жизнь потеряет смысл, а ведь юмор у Федора Михайловича первостатейный, непревзойденный, и в высшей степени глупо не пользоваться им как отлично прочищающим мозги средством. На нем выезжать бы всяким проповедникам, миссионерам и наставникам, просветляет вернее, чем под сенью культовых сооружений и возле знаменитых достопримечательностей. Но, спрашиваем мы, до веселья ли в большевицкой неволе было тем, кто отнюдь не по собственной воле, а то и без всякой вины виноватым, очутился на каторге? И вот уже задачка, похоже, решена: коль демократический люд, на словах взявшись за устроение светлого будущего, на деле превратил тюрьму в нечто совершенно отвратительное, мы вправе придти к определенным и, можно сказать, далеко идущим умозаключениям. Умиление умилением и благодушно предполагать некое лагерное довольство можно сколько угодно, а все же тюремный мрак этому люду милее, ближе и роднее мирного счастья и добродетельной жизни. Зло у большинства этих людей в крови, и, попадая в тюрьму, они обязательно смотрят волками, менее всего заботясь об исправлении, – вот к какому выводу мы приходим.
Положим, тут не обошлось без влияния Якушкина, даже проглядывает некоторое скрытое цитирование его сумбурных и пустеньких софизмов о всесветной темнице. Сам он и не до таких соображений уже дотянулся, насмотревшись, пусть и со стороны, на лагерную жизнь и много чего о ней услыхавший, и его жесткие, подловатые мнения разделил бы, наверно, и Причудов, когда б случилось ему получше разобраться с творящимся в собственной душе. Не обделен и не обездолен московский журналист нашим не принимающим протестов потрошением, не посягнули мы на его сокровенное и ничего не украли, не жалко его. Поднялись, следуя доброму совету старушки, на крышу. Там Орест Митрофанович удовлетворенно потер руки, окидывая взором панораму родного города. Давненько не приходилось ему обозревать Смирновск вот так, почти с высоты птичьего полета. Грудь смирновского демократа наполнилась воздухом свободы, и он, радуясь, тихо вскрикнул; на мгновение ему представилось, будто он большой гордой птицей парит в чистом солнечном небе. Заметив, что Якушкин смотрит на него с удивлением, безрадостно, толстяк, смущаясь, но не ослабляя порыва души, проговорил с глубоким вздохом:
– Ну, сегодня все будет кончено и останется позади, и мы сможем, наконец, отдохнуть. Я бы даже рискнул, знаете ли, предложить… А не выпить ли нам водочки? Я знаю тут неподалеку приличный и недорогой бар. А можно и с собой прихватить…
– Все будет позади? – переспросил Якушкин, суровая отчужденность которого не растаяла среди веселых и простодушных мечтаний Ореста Митрофановича. – Вы о бунте?
– О бунте и о том, каков он в народном восприятии. А что мы об этом восприятии знаем? Много любопытствующих, праздных зевак, любителей острых ощущений, попадаются и сердобольные, но сколько, спрашивается, способных по-настоящему принять близко к сердцу? Чей тут легион – тех или других? Легион ли добросердечных, добропорядочных, совестливых тут перед нами? Или всего лишь бесов, мелких, как шелуха? Да, я о бунте, о нем самом, я из-за него чувствую себя постаревшим, сильно сдавшим, и если он наконец… А о водочке я говорю потому… Поверьте, не грех снять напряжение…
– Как же все позади, если Филиппов в тюрьме?
– Ох, об этом я не подумал, – признал Орест Митрофанович и тотчас изнемог в застенчивом покаянии, сжался, бросая на собеседника жалобные взгляды. – Бес попутал, оттого и не подумал! Не забыл, не могу забыть… А вот не подумал… Вот что радость делает с человеком. А выходит, рано обрадовался. Глуп я становлюсь, стар и глуп… Масштаб личности как-то выбыл вдруг из строя. Ну и дела!..
Я готов согласиться с мнением этих двоих, что тюрьма далеко не лучшее место на земле и есть не что иное, как ад, но их неумение замечать исключения и придавать им особый, даже высший смысл что называется неприятно изумляет. Право слово, указанное неумение подразумевает и некое порицание народа, если оно само собой не вытекает из него, а я так полагаю, что вытекает, и шибко. Возникает клевета, и наверняка сыщутся чудаки, которые за выдуманное ими право поливать народ грязью будут стоять горой, даже с готовностью к самопожертвованию, тогда как существенно, по-человечески мыслящий человек за это право не только не ляжет костьми, но и посмеется от души над его певцами.
Страна у нас большая, неохватная, и в ней, естественно, творятся порой вещи удивительные, совершенно неожиданные и попросту непонятные для кое-кого из обитателей тесных городских жилищ, для людей узких взглядов, закосневших в готовых формулах и въевшихся, а порой и откровенно навязанных извне представлениях. Дело в том, что я не верю, будто ничего не осталось, не уцелело от былой романтики народных сект, а все то, что можно было отнести к манифестациям народной мифологии, превратилось в подлый набор убогих слухов и сплетен. Сейчас, положим, не кинешься в народную мистику, как поступил поначалу водившийся с декадентами поэт Добролюбов, впоследствии теоретик, сочинитель темных текстов духовной направленности. Не побежишь в московский трактир, где собирались мудрецы, этакие народные мудрователи, а высоколобый и даже у взыскательного западного читателя снискавший известность философ Бердяев, между прочим, описывал этот трактир с восторгом, как место, где испытывал небывалое удовольствие от общения с людьми. Сейчас, конечно, и сами повсеместно распространившиеся нравы и вкусы оставляют желать лучшего. Загадочные, овеянные тайной, окутанные странно воплотившейся небывальщиной деревни с подземными, хорошо замаскированными ходами от дома к дому пропали из виду, ушли в некую смутную легендарность. Однако неожиданные и твердые, на редкость значительные явления бывают. Чтобы их различать в общей текучке, нужно не замыкаться в себе и тем более в тошном «ну, мы-то знаем, нас на мякине не проведешь!», а некоторым образом верить в их вероятие, с торжеством при этом отмечая, что перво-наперво обличители как раз смотрятся куда серее и бездарнее упомянутой текучки, уступая даже и многим разносчикам слухов и сочинителям сплетен, иные из которых вполне способны предстать людьми изобретательными и даровитыми. Так, я принимаю на веру слух о лагерном самородке Степе, который накануне переговоров между мятежниками и представителями администрации не то пал от руки Дугина-младшего, не то был зверски избит по его приказу. Не град Китеж, конечно, этот Степа, чтоб о нем много думать и говорить, но все же… Степе принадлежит уйма творческих идей, это он знатно, с выдумкой оснастил обороняющихся редчайшими видами вооружений, и не удивительно, что вождь, готовясь к переговорам, призвал Степу с тем, чтобы он придумал и изготовил этакую штучку, которая в случае надобности одним махом перебьет всех переговорщиков, «паля налево и направо». Велико же было изумление вождя, когда он услышал от Степы следующий ответ:
– Уймись, брат, и не бравируй неуместным желанием всех перебить. Я вооружаю наших людей в защиту от неоправданного насилия со стороны солдат и их разъяренных командиров. Но на переговоры идут с настроем на то, чтобы разрулить и урегулировать. Зачем же стрелять, жечь там или хотя бы пальцем кого-то тронуть? Как не подумать о высшей правде? Я в нее верю, и ты моей веры, как ни бейся, не поколеблешь. Скажу, не утрируя, что у нас здесь в обстоятельствах, как они складываются в связи с предстоящими переговорами, намечается гуманизм, а не кровавое месиво, и это, парень, не шуточки тебе, не игры пустопорожнего ума. Ты подумай об этом, как и о той правде, на высшее значение которой я все пытаюсь открыть тебе глаза. А чтобы предотвратить внезапный обвал с высоты правильных размышлений в глупости соблазнов и непоправимых выходок, я не дам тебе страшного оружия. Очистись, брат, от зловещих помыслов и подобрей. Сделай правильный ход.
Говоря все это, Степа не подбоченивался, не складывал руки на груди, не принимал высокомерный и напыщенный вид, не становился в позу бросающего вызов человека. Он как будто даже немножко шутил, во всяком случае, какая-то усмешка блуждала на его губах, а в глазах плясали лукавые огоньки. И в то же время он был непреклонен, тверд, как кремень, несгибаем, и могло показаться, что сама вера, в его случае туманная, совершенно не разъясненная им до конца, легла на его тщедушную фигурку несокрушимой броней или накрыла облаком, попав в которое такой легкомысленный и пошлый человек, как Дугин, мог разве что потеряться и, обеспамятев от страха, сдуреть, как зашибленный пес. Сказать, что Дугин рассердился, значит ничего не сказать.
– Правильный ход? – закричал он.
Негодяй пригрозил пытками, изощренным мучительством, и даже был готов вступить в продолжительную, способную переубедить непокорного и своенравного Степу полемику. Но Степа сразу определил, что будет прочно стоять на своем и ни пытка, ни полемический задор никак не повлияют на его окончательное решение отправить Дугина на переговоры безоружным и добрым. Его дальнейшая судьба неизвестна, понятно только, что он с честью вытерпел все мучения, прописанные ему зашедшимся в ярости узурпатором, и вере своей не изменил. Собственно говоря, подлежит сомнению сам факт существования этого Степы, и не исключено, что он придуман сторонними праздными людьми для создания видимостей красы лагерной повседневности, унылой и злой. Но я верю: Степа был, – а раз уж примешивается опора на веру, не лишне присовокупить утверждение, что он не только был, но есть и будет. Неизбежны и в определенном смысле естественны вопросы, за какие грехи попал он в лагерь и не безмерно ли тяжек лежащий на его совести грех, но первым делом напрашивается все же соображение, что Степа – герой и мученик, подхвативший и понесший на своих плечах мифологию, способную порадовать, ободрить: протри только глаза, человече, и тебе легче станет дышать, ибо сразу сыщешь, откуда черпать вдохновение. О, не всякая сплетня и измышление служат святому делу создания мифа. Не будем забывать, что профанация нынче в фаворе и гуляет вовсю. Но Степина история, независимо от того, что коренится в ее основе, не просто тянет на миф, но является тем драгоценным зерном, из которого, как можно предполагать, даже и без всякого Степы вырастет, в конце концов, прекрасный мир исключительной, возвышающейся над обыденностью, исполненной таинственности и светлой веры в чудеса действительности.
Спросят: кому это нужно? чем это важно? Так ведь лишь подобные «нововведения» способны вернуть нас в область творческих подвигов, снова одарить нас жаждой великих свершений. Я всегда хотел заниматься разумным делом, а не сидеть в тюрьме, пить водку или беспокоиться о биржевых котировках. Не всегда, конечно, получалось, жизнь не так проста, чтобы идти на поводу у желаний даже заслуживающего этого человека. Человек заслуживает памятника, а ему – кукиш! – это фактически в порядке вещей, сплошь и рядом случается. Да, так вот, литература… куда еще серьезнее, и есть ли что-нибудь полезнее и великолепнее ее на свете, и я занимался ею, разумеется, не слепо и доверчиво, а с разбором и принципиально, с исключающим ошибку подходом. А можно ли говорить о серьезности подобных занятий, если они не подогреваются такой загадочной силой, как вдохновение?
Повторяю, этого Степу, возможно, просто выдумали, но значит ли это, что его и не могло быть? Да разве же сам факт такого измышления, таящий в своей сердцевине возможность мифологизации, не указывает, что Степа нужен и мир стал бы лучше, если бы он был? Есть действительность, в которой Степа присутствует, хотя на самом деле его нет; и есть действительность, в которой его нет, хотя он все же зовется Степой и некоторым образом присутствует, живя как все. Причудовым и Якушкиным, а они люди вовсе не скверные, но внутреннего огня лишены, недоступна первая действительность, и они вынуждены отдавать все силы второй, мучаясь и Бог весть какие цели преследуя в ее тесноте. А у счастливых обитателей первой случаются высокие порывы, как раз совершение заветных творческих подвигов и предполагающие, но штука в том, что эта действительность требует веры в ее существовании, а без такой веры не только она никого и не подумает приютить и обогреть, но вообще все бессмысленно, бесполезно и никчемно. И если бы не вера, не ощущения таинственности и великолепия, даруемые ею, – эту веру многие наверняка назовут простодушной, жалкой, предосудительной, глупой, – разве смог бы я скудной писанине, какой был этот роман в его прежнем виде, придать облик более или менее достойного в литературном отношении произведения? Поэтому я, разделяя, между прочим, многие выводы известного мыслителя эстетического направления Ортеги, говорю, что жизнь Степы или, скажем, походя выдумавших его, может быть, не заслуживает большого внимания, тогда как сам вымысел о нем, хотя бы только вероятный в этом случае зародыш мифа, – вот это-то дорогого стоит. Примерно те же соображения высказывал и великий Леонтьев.
В этот напряженный и, как нередко бывает, переломный момент Орест Митрофанович глянул вниз. Лагерь перед ним, как и перед журналистом, лежал словно на ладони. На крыше появлялись все новые и новые зрители. Об этом стоит упомянуть прежде всего потому, что один из зрителей, востренький, замечательно увенчанный сединой, распространявшейся и на подбородок, старичок, подойдя к самому краю, смотрел вдаль, махал рукой и не без удивительной при его хилом и как бы нежном телосложении зычности кричал:
– Степа, как ты там?
Орест Митрофанович подался корпусом вперед, вытянул шею и воззрился глубоко вниз с высоты девятиэтажного дома.
– А не упадем, не сорвемся? – спросил он озабоченно.
– Филиппов, может, плачет, сидя на нарах, – ответил Якушкин.
Орест Митрофанович воскликнул с чувством:
– Да вы что! Плачет? С чего бы это? Он мужественный и неистовый, и он умен как не знаю кто, ему плакать не пристало!
Как и ночью, заключенные, ощетинившись палками и мечами, толпились у решеток, повернув встревоженные лица к воротам, которые вот-вот должны были открыться. «Ракетчики» бегали по крышам, где были расставлены баллоны, и издали их намерения могли показаться до чрезвычайности опасными. Но ни те, кто командовал настоящими солдатами, ни те, кто возбужденно, в приподнятом настроении ожидали начала представления на улице, в окнах и на крышах домов, как будто и в расчет не принимали боевые приготовления лагерников.
Солдаты, опустив на лица прозрачные щитки, построились в колонну, которая спереди и по бокам вдруг красиво очертилась ровной линией поднятых на уровень груди щитов. Ворота медленно, с угрюмой торжественностью раскрылись. Солдаты, одновременно ударяя громко по щитам дубинками, четким шагом вступили в зону.
«Ракетчики» отступили, едва первый ряд этого похожего на рыцарский строя – незабываемое зрелище! – пересек границу еще мгновение назад мятежной территории. Отступление тотчас превратилось в паническое бегство. Несостоявшиеся защитники со всех ног неслись по крышам, прыгали вниз и бежали к своим баракам. Толпа у решеток выставила перед собой деревяшки, собираясь принять бой, но в то же время пятилась, помаленьку отступала, а затем, когда колонна солдат приблизилась к ней почти вплотную, обратилась в бегство и она.
Солдаты по всем направлениям легко превозмогали сопротивление бегущей массы. Многие бросали палки, прижимались к стенам или падали на землю, стараясь показать, что они никак не замешаны в бунте и ждали солдат как избавителей от гнета затеявших опасные игры лагерных политиков. Направления сначала зримо диктовало устройство лагеря, но вскоре все смешалось, солдаты побежали уже небольшими группами или даже поодиночке, преследуя бросившихся врассыпную заключенных. Пошли в ход дубинки, и вот тут-то зрителям открылось, что со стороны понять солдатскую логику непросто. Рисунок взмахов и ударных падений, образуемый дубинками, как будто ясно говорил, что ничего сложного и тайного в ней нет, а загадка между тем росла, как облако, начинавшее с малого. Бегут как одержимые, и словно торопясь куда-то, – подвернувшийся узник отделывается почти что легким испугом, огреют на ходу, отпустят крепкую затрещину, может, пнут коленкой под зад. Живи дальше! Но вот уже в солдатском горячем кольце некий парень, может быть, и в самом деле мирный, отнюдь не бунтующий, – следует жесточайшая расправа, дубасят за милую душу; лежит потом человек на земле в беспамятстве. Много таких случаев произошло, то есть как одних, так и других, и неужели что-то там зависело от настроения, образно выражаясь – от психологии, того или иного солдата, каждого в отдельности?