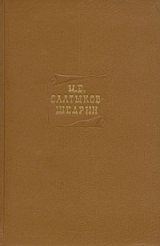
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 56 страниц)
Когда я по временам раздумываю о моих отношениях к Алексею Степанычу Молчалину, то невольно прихожу к заключению, что в них есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекотит мою совесть. Или, выражаясь точнее, я должен сознаться перед самим собой, что отношения эти ставят меня в какой-то нелепый тупик, род порочного круга, из которого, по-видимому, нет ничего легче вывернуться, да вот поди-ка, вывернись.
Профессия Алексея Степаныча не внушает мне особенной симпатии, но в то же время личное его добродушие является для меня фактом, стоящим вне всякого сомнения. По-видимому, два существования – казенное и свое собственное – идут рядом в этом человеке; но идут особняком, не сливаясь, а ежели по временам и влияют друг на друга, то скорее в ущерб первому, нежели последнему. Вот это-то хроническое двоегласие жизни и сбивает с толку, делая возможными самые невозможные отношения.
Я знавал одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся хорошей репутацией танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно добродетельную (она была вдова какого-то экзекутора, за которого ее высватал директор департамента, и оставалась неизменно верною памяти своего покойного мужа) и отличную мать семейства. День она всецело посвящала семье и воспитанию детей в страхе божием (разве на какой-нибудь час запиралась в спальной перед зеркалом и упражнялась в стоянии на носках ног и в биении ножкой об ножку), вечером – уезжала в театр и проделывала там антраша. Даже звалась она не Земфирой и не Аспиччией, а просто Ариной Ивановной. Она не отказывалась от антраша, во-первых, потому что они составляли профессию, с которой она сжилась, и, во-вторых, потому что при помощи этих антраша она доставала обеспеченный кусок ее семейству. Тем не менее, когда она вечером надевала трико и принималась, стоя на одной ноге и подняв другую до уровня плеч, выделывать перед почтеннейшей публикой круги, – ей было не совсем ловко. Поэтому она пуще всего боялась, чтоб кто-нибудь из ее детей не зашел в театр и не увиделее (может быть, это-то и было причиной, почему она так усиленно старалась о внушении им «страха божьего»). Но вот, в один прекрасный вечер, сын ее, гимназист, соблазненный запретным плодом, урвался тайком в театр, и когда взвился занавес, то увидел следующее: какая-то роскошная женщина, впереди всех, на самом юру, покрытая, вместо платья, прозрачной тряпочкой, совсем-совсем нагая, стоит на одной ноге, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно-медленно выделывает круг. Затем, вглядываясь в эту женщину пристально, он узнал в ней свою мать…
Вот наглядный пример того, что двоегласие в жизни нисколько не препятствует правильному ее течению, даже с таким аккомпанементом, как периодически-обязательное переодевание в трико. И не примешайся тут неуместное любопытство юного гимназиста, приведшее его в театр, Арина Ивановна и доднесь, в кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименованием маменьки Арины Ивановны, причем никто бы и не подозревал, что с этим именем связывается понятие о какой-то Аспиччии.
Положение Алексея Степаныча сходно с положением этой женщины в том отношении, что оба они устраивают свою личную жизнь по возможности независимо от профессии. Но во всех других отношениях Молчалин поставлен даже выгоднее. Во-первых, Арине Ивановне все-таки приходилось надевать трико, а Алексей Степаныч трико не надевает, всенародно своих атуров не показывает и антраша не выделывает; во-вторых, Молчалин свободен и от опасения (и тоже опять потому, что место трико у него занимает вицмундир), что дети его узнают об его профессии и устыдятся ее. Конечно, может быть, настанет время, когда и он поймет и дети его поймут, что, собственно говоря, и вицмундир и трико… Тогда положение его, разумеется, значительно усложнится; но ведь когда-то еще это время настанет, а покуда…
Покуда Алексей Степаныч – только «нужный человек», сношения с которым в значительной степени облегчаются его благодушием, а еще в большей степени упрощаются таким же двоегласием, которому не чуждо и существование лиц, имеющих до него дело.
Бывают совершенно безумные условия, при которых жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно, – такие условия, когда человек, под гнетом смутного ожидания чего-то непредвиденного, приходит к сознанию, что существование его не имеет ничего ясного, определенного, что оно только терпимо, но и то лишь под условием беспрерывных, ничем не мотивированных оглядок.
Подобные неясные существования встречаются на свете чаще, нежели можно предполагать, и, говоря по совести, они мучительнее самой суровой ясности. Насколько ответствен в этом тот или другой человек персонально – этот вопрос всегда казался для меня сомнительным; но, во всяком случае, нельзя объяснить его одною приверженностью интересам собственного мамона или чересчур исключительным преобладанием чувства самосохранения. Скорее всего тут кроется целая тина мелочей, очень цепких, которая извращает все мотивы человеческой деятельности, да и самой потребности самозащиты сообщает характер изнурительной изворотливости.
Барахтаясь в этой тине, гонимый угрозой чего-то, ежели не подлинно страшного, то непредвиденного и застающего врасплох, я тем охотнее обращаюсь к Алексею Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мне удается угадывать в нем черты подлинного человеческого образа. При этом я, конечно, сознаю, что наша связь основана на недоразумении, и что не будь этого последнего, то и самому Алексею Степанычу вряд ли пришло бы в голову поддерживать эту связь последовательно и по собственному интимному влечению; в то же время – не скрою этого – я очень рад, если успеваю додуматься до чего-нибудь вроде апофеоза молчалинства, лишь бы обойти недоразумения и оправдать себя в своих собственных глазах.
По временам эта связь формулируется для меня в виде следующего вопроса: ежели общественное значение Алексея Степаныча исчерпывается носимою им фамилией Молчалиных, то твою, человече, роль в сношениях с ним – каким именем следует ее характеризовать?
Неприятны и щекотливы подобные вопросы – этого отрицать нельзя. До того щекотливы, что при упорном преследовании могут победить самое упорное чувство самосохранения. Но щекотливость эту в значительной мере охлаждает и развлекает безалаберная и неклейная сутолока жизненной обстановки. Покуда человек щекотится и раздумывает над собой, на него со всех сторон с такой быстротой надвигаются волны всевозможных жизненных мелочей, что в одно мгновение захлестывают и его самого, и все его вопросы. Счастие это или несчастие – судить не берусь; но могу засвидетельствовать, что те же самые мелочи, которые возбуждают мысль, они же и притупляют ее или, лучше сказать, представляют ей всегда готовое мерзкое ложе для успокоения. Повторяю: это – порочный круг, где один и тот же мотив служит поводом для бесконечно-блудной игры, в которой раздражение и успокоение сменяют друг друга без всякой надежды на просвет.
На днях я получил от Алексея Степаныча записку, которая порядком-таки взбудоражила меня. Записка гласила следующее:
«Любезный тезка! (Алексей Степаныч любит, при случае, подразнить меня «тезкою»: вы, дескать, хоть и рядитесь в костюм Чацких, а копни-ка вас – такими же Молчалиными, как и мы, грешные, окажетесь). Получил я от одного человека, служащего в департаменте «Возмездий и Воздаяний», цидулу, в которой идет речь об вас. Пишет, что вы, мой друг, проштрафились, и, должно полагать, штраф предстоит с вас немалый, потому что дело об ваших провинностях передано в отделение «Воздаяний по Преимуществу». А туда поступают лишь такие казусы, по которым следует ожидать, по малой мере, повреждения. Да и то, говорит, только по нынешнему снисходительному времени, а прежде – строже бывало. Однако вы не очень-то унывайте, потому что «человек» тут же присовокупляет: «так пусть приятель твой постарается сию неприятную для него будущность предотвратить; мы же, для времени продолжения, заведем по сему предмету со всеми местами Российской империи переписку». Следовательно, вы так и поступите; не откладывая дела в долгий ящик, отправляйтесь-ка около полден в департамент, подайте вид, как будто имеете дело к самому директору, и в ожидании заведите с молодыми чиновниками разговор, не предвидится ли, мол, новых реформ каких. Они – народ ветреный, очень охотно о сем говорят да, слово за словом, и об той реформе объявят, которая и для вас прописана. Тогда вы прямо и просите, чтоб вам пути указали, каким образом ту реформу устранить».
Прочитавши это известие, я призадумался. Что Алексей Степаныч не с ветру предупреждает меня о предстоящем членовредительстве – в этом я ни на минуту не сомневался. Но я так давно не был в департаменте «Возмездий и Воздаяний» * (более двадцати лет), что становилось жутко при одной мысли о предстоящем путешествии, хотя мне и сказывали, что, благодаря либеральным веяниям, департамент этот в последнее время сделался почти что департаментом «Утех». Сверх того, мне показалась несколько досадною та чрезмерная уклончивость, с которою было высказано обязательное предостережение Молчалина. Извещения о повреждении имеют слишком острый характер, чтоб не действовать на человека возбуждающим образом. Они не только порождают в его уме целую свиту вопросов, вроде: за что? в какой форме проектировано возвещаемое повреждение? и т. д., но и заставляют искать немедленного их разрешения. А записка об этом-то именно и умалчивала. Я согласен, что это – вопросы не особенно лестные для человеческого самолюбия и что в известном возрасте (доживши до седых волос) даже несколько конфузно предлагать их себе, но ежели жизнь так складывается, что обмен мыслей представляется возможным только на почве «виноват» и «помилуйте!», то, как ни гоните от себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся в ваше существование и не дадут покоя, пока вы не сыщете для них разрешения, хотя бы даже мнимого.
Но, независимо от всего этого, разрешение упомянутых вопросов необходимо было и потому, что относительно повреждений практика выработала целую систему или, лучше сказать, философию, обходить которую – тоже дело рискованное.
Мне нужно знать: за что? – совсем не ради праздного уяснения себе состава и характера содеянного преступления, а для того, чтобы составить план кампании и определить со всею точностью, какие я обязываюсь приносить оправдания. С тех пор, как я живу на свете, мне так часто приводилось выслушивать восклицания (даже от людей положительно мне благожелательных), вроде: «ах, да как это вы!» или: «подумайте, что вас ожидает за это!» – что я и сам уж пришел к убеждению, что вся моя жизнь есть не что иное, как непрерывная цепь чего-то неключимого, и что, стало быть, я не в том, так в другом – виноват. Но дело не в том, что я виноват, а в том, что, несмотря на «темную свиту преступлений» – я все-таки жив. Жив бог и жива душа моя! благодарно восклицаю я, и, как мне кажется, восклицаю именно благодаря довольно сложной и отлично соображенной системе оправданий, которую я успел себе выработать. В оправданиях этих я, конечно, уже понаторел, но все-таки, прежде нежели приносить их, я должен сообразить их размеры с размерами содеянного преступления. Быть может, я виноват только в том, что, идя по улице, ввел в соблазн городового, – в таком случае я могу отделаться только искренним раскаянием. Но ежели, введя в соблазн городового, я еще позволил себе «рассуждать» – тогда вина моя уже сильнее, и, вместе с искренним раскаянием, я должен представить еще ручательство в непременном, на будущее время, «нерассуждении». Наконец, ежели бы я… но нет! со мною этогослучиться не может!.. Однако ж, паче чаяния, если бы даже я и не сделал этого, но так показалось бы… о, тогда! представьте себе сами, каковы должны быть тогдаразмеры моего оправдания!
Что же касается до вопроса о форме предстоящего повреждения, то и его разрешение необходимо совсем не ради удовлетворения праздного любомудрия, а для того, чтоб не выказать неуместной щепетильности, не зарекомендовать себя беспокойным человеком, не утруждать по пустякам. Конечно, начальство вообще снисходительно выслушивает оправдания; но мы, в качестве подсудимых, все-таки должны пользоваться этой прерогативой с осмотрительностью, то есть утруждать только в виду повреждений несомненно тяжких. Повреждения же средние принимать с доверием и безропотно.
Такова, милостивые государи, теория оправданий, сама собой выработавшаяся на почве «виноват».
Поэтому едва ли покажется удивительным, что, прежде нежели выполнить совет Алексея Степаныча буквально, я решился заявить ему о возникших во мне сомнениях. Но, к удивлению, он выслушал мои заявления не только без обычного ему благодушия, но даже почти рассердился на меня.
– Очень уж вы набалованы, мой друг, – сказал он, – оттого вам и думается, что тут диалог какой-то произойдет: вы вопросы будете предлагать, а вам будут ответы давать. Ничего не будет – вот что! Да и какая, скажите, корысть для вас знать: за что? Ведь ежели не в том, так в другом – все-таки вы виноваты. Следовательно, что уж тут! А между тем начальство не любит вопросов, закоренелость в них видит, неспособность к исправлению. Вместо того чтоб искренно, благородно: виноват, ваше превосходительство! – а вы все с азартом да наступя на горло!
– Помилуйте, Алексей Степаныч! человек хлопочет только об том, чтоб как-нибудь поумнее предстоящее ему повреждение устранить, а вы какие-то азарты да «наступи на горло» тут припутываете!
– Ну, положим… ну, не так я выразился! А все-таки… Прежде всего, я и сам ничего не могу на ваши вопросы ответить, кроме: «не знаю!» Знаю, что нехорошо пахнет – вот и все, и будет с вас! Да и у тех, которым доподлинно известно, что и как, – и у них осведомляться вам не советую. Пользы нет – вот в чем главное. Во-первых, на ваш вопрос вы рискуете получить в ответ: здорово живешь! – будете ли вы этим удовлетворены? Во-вторых, если даже и снизойдут к вашей немощи – лучше ли вам будет, если свиток-то этот перед вами развернут, в котором, как в требнике * , против всех заповедей все грехопадения записаны, да скажут: читай! Да каяться велят да приговаривать станут: ежели не действием, так словом, а не словом – так помышлением? Да в заключение спросят: а теперь, мол, сказывайте сами, какому вы за сие возмездию подлежать должны?
– Полноте! этого нынче уж не бывает! ведь ежели и вас по требнику экзаменовать начать, так и для вас, пожалуй, на каторге места не найдется!
– Так-то так: кто богу не грешен, царю не виноват, а все-таки и эту случайность предусмотреть не мешает. Не бывает, не бывает, а вдруг и вот он-он! Прихоти-то, мой друг, оставить нужно да проще на дело смотреть!
– Так, по-вашему, лучше не любопытствовать?
– Не любопытствуй, мой друг!
– Ну, хорошо. Стало быть, и вопрос о форме повреждения тоже праздный… прекрасно! Но согласитесь, что с моей стороны все-таки никакого «наступя на горло» в этом случае не было, и что в тех условиях, в которых я нахожусь, не только позволительно, но и вполне естественно…
– В том-то и дело, голубчик, что об естественности-то об этой забыть надо. Все естественно знать: и за что, и что за сие ожидает? да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивостью называется. А вы просто, без естественности… доверьтесь! К тому же, вы сами видите, что и начало «обстановочки» уж сделано: со всеми местами Российской империи переписка заведена. Покуда справки да ответы идут, а потом пойдут выборки да соображения – смотришь, человек-то и жив! Может, и оправданий совсем приносить не придется – так, измором все дело кончится, а вы себя загодя сомнениями да вопросами изнуряете!
– Хорошо; но как же все-таки сделать? ведь я ни одного знакомого лица в департаменте «Возмездий и Воздаяний» не имею – с какого повода, как и к кому я туда явлюсь?
– А это уж и совсем просто. Нынче, мой друг, везде свободно: всякий может прийти, даже просто с прогулки. Прийти, выкурить папиросу и уйти. Вы, как придете, спросите у сторожа, скоро ли директор будет – этого и довольно. Затем, хотите – в приемной сидите, хотите – по коридору ходите; папироску закурите – сторож и спичку даст. Покуда вы курите, около вас молодежь тамошняя соберется – сейчас и разговор промеж вас пойдет. Сколько, мол, реформ мы уже видели, а сколько таковых еще под сукном состоит! Слово за слово – и сами не заметите, как вам и об вашей реформе объявят. Да кстати и уму-разуму научат; и не просите – научат!
Советы Алексея Степаныча были настолько ясны и определительны, что на этот раз я решился последовать им слепо. На другой же день, часов около одиннадцати утра, я забрался под арку к площади * и стал ожидать чиновничьего хода. Передо мною расстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякого рода присутственными местами, которые как-то хмуро, почти свирепо глядели на меня зияющими отверстиями своих бесчисленных окон, дверей и ворот. При взгляде на эти черные пятна, похожие на выколотые глаза, в душе невольно рождалось ощущение какой-то упраздненности. Казалось, что тут витают не люди, а только тени людей. Да и те не постоянно прижились, а налетают урывками: появятся, произведут какой-то таинственный шелест, помечутся в бесцельной тоске и и опять исчезнут, предоставив упраздненное место в жертву оргии архивных крыс, экзекуторов и сторожей.
Чиновничий ход начался только через полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою плотною массой, что улица, дотоле казавшаяся пустою, вдруг ожила. Гольцы и пискари шли резво, играючи; плотва брела сонно, словно уверенная, что крючка ей не миновать. Потом движение перемежилось, и уже в одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бель. Воображение мое было так возбуждено, что я намеренно вглядывался в эти физиономии, думая уловить в них какие-либо неизгладимые черты, свидетельствующие о страсти к повреждениям. Но, к удивлению, я встретил только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномыслие. Точно передо мной прошел ряд швабр, которыми уж так давно трут полы, что они утратили даже характер швабр и получили форму тощих и совершенно нецелесообразных мочалок.
Когда для меня сделалось ясным, что административная машина пущена в ход, я тоже юркнул в одну из зияющих дверей серого здания – и пропал. Но и тут воображение обмануло меня. Я думал, что и стены, и лестница, и передняя – все будет «вопиять». Ничуть не бывало! На лестнице чувствовался сильный запах упраздненности – и только; в департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запах которой проникал сюда из канцелярии.
Сторожа приняли меня как родного. Их было двое, и, по-видимому, жилось им тут отлично. Не только предупредительно, но почти с ликованием бросились они снимать с меня пальто, и глаза их смотрели при этом так ясно, как будто говорили: сейчас-с! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался от верхнего платья, мимо меня бойко проследовал курьер его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрел отлично. Он отнюдь не давил высокомерным сознанием своей высокопоставленности, но весело поигрывал серебряной цепочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темно-зеленого казакина, и с какою-то чрезвычайно милою загадочностью, казалось, говорил: сегодня его превосходительство изволили утром меня спрашивать – угадайте, об чем?
– Его превосходительство… – начал было я, но один из сторожей, помоложе, даже не дал мне продолжать.
– Пожалуйте! сейчас-с! сейчас они будут! – заторопился он, словно боялся упустить меня, – уж и курьер с портфелем приехал. Полчаса, много час… А покуда не угодно ли посидеть, – продолжал он, широко растворяя передо мной дверь в приемную, – вот здесь, на диванчике… здесь покойно будет!
Новое разочарование! Я думал, что на меня со всех сторон налетят сбиры, как в «Лукреции Борджиа» * , а меня принимал в свои объятия добродушный русский солдатик, который даже шпицрутеном хлестнуть не может без того, чтоб не произнести предварительно: «господи-владычица! Успленья-матушка!»
Я встал у окна и от нечего делать начал смотреть на площадь. Налево от меня была затворенная дверь, ведущая в кабинет его превосходительства, направо – отворенная дверь, через которую виднелась обширная анфилада комнат, занимаемых канцелярией. Кабинет сурово безмолвствовал, словно боялся выдать тайну; напротив, из канцелярии доносился до меня непрерывный шум – вестник начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской деятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, щелканье замков, выдвигание ящиков, чирканье спичками; в нескольких местах раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнил, что накануне Надежды были именинницы). Словом сказать, происходило все то, что обыкновенно происходит во всех публичных местах, вроде кофеен, трактиров, кафешантанов и проч. в те неясные минуты дня, когда «деятели» уж проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малейшего намека ни на то, что «здесь стригут, бреют и кровь отворяют», ни на «бараний рог», ни на «Макара, телят не гоняющего» * – ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь из окна четвертого этажа представлялась какою-то нелепою пустынею, на поверхности которой там и сям двигались, словно на одном месте топтались, крохотные черные точки; по ту сторону площади, на подоконниках казенного здания, токовала несметная масса голубей, как будто понимали умные пернатые, что нужно же какое-нибудь развлечение этому стаду праздномыслящих людей, тоскливо выглядывающих из окон всех четырех этажей.
– Покурить не желаете ли? – спросил меня тот самый сторож, который отворил мне дверь в приемную.
– А можно?
– Даже мы курим… сторожа! Может, у вас огоньку нет? И огоньку достать можно (он чиркнул спичкой об обшлаг своего рукава и дал мне закурить). Курите с богом. А через час, много через полтора, и «они» будут… это беспременно. Вы просить об чем-нибудь?
– Да, придется, может быть…
– Так вы, когда они приедут, в канцелярию схоронитесь. Я вам в то время шепну… можно ли, значит…
Сделавши это наставление и снабдив меня на всякий случай еще двумя спичками (он даже показал, как нужно чиркать ими о подоконник), сторож оставил меня. Я сел у окна, взяв со стола старый лист газеты, и, в ожидании событий, начал читать. В газете описывалось открытие сезона в театре Берга * , причем выражалось мнение, что, пригласив г-жу Бекка̀ («а не Бѐка, как пишут в некоторых газетах»), г. Берг тем самым доказал, что относится к своей задаче серьезно. Через минуту в дверях канцелярии показался один чиновник, разлетелся до половины комнаты, потом вдруг встал как вкопанный, словно об чем-то вспомнил, искоса взглянул на меня и возвратился вспять. Вслед за ним разлетелся другой чиновник и повторил тот же маневр. Наконец появился третий чиновник, который неслышными шагами, как будто у него сапоги на суконных подошвах были, проскользнул уже прямо в кабинет. Впрочем, он пробыл там лишь несколько секунд, пошуршал бумагами и, возвращаясь через приемную, остановился против меня. Я было думал, что он вынесет из кабинета, по крайней мере, хоть одно оторванное ухо, но и тут действительность не оправдала моих ожиданий.
– Вы – по делу? – услышал я обращенный ко мне вопрос.
Передо мной стоял небольшого роста человек, еще не старый, но уже поблекший и как будто надорванный. Голос у него был мягкий, слегка надтреснутый, грудь почти совсем пропала, большие карие глаза отливали какою-то грустною ласковостью. Болезненная потребность «послушания» виднелась н них – потребность, не обусловленная никаким корыстным побуждением и не отступающая даже перед загнанностью. Наверное, этот человек и побежит куда следует, и дело в одну минуту разыщет, и в отсутствие других делопроизводителей бумажку (разумеется, не очень сложную) напишет. Его и из-за обеда внезапно вытащить можно, и ночью разбудить, и он никогда даже внутренно не поропщет. Это – тоже Молчалин, но Молчалин-аскет, Молчалин, окончательно освободившийся и от всяких расчетов преднамеренной угодливости и пламенеющий наголо и беззаветно. Казалось, в нем где-то далеко теплится какое-то очень отвлеченное убеждение, не имеющее ничего общего с его ежедневною деятельностью, но дающее ему силу усмирять в себе всякий позыв на протест. Убеждение вроде того, например, что земля есть юдоль скорбей, в которой люди должны «терпеть». Оно подкралось к нему, по-видимому, очень давно, когда еще он не понимал себя, и оттого не получило даже ясной формулы, а просто являлось естественным законом его жизни. Такие личности всего чаще встречаются в монастырях, но попадаются и в чиновничьем быту, где спрос на загнанность и беззаветность еще далеко не перестал существовать. Они неслышно, как тени, снуют по всем направлениям укрепленного лагеря, в котором им предназначено бодрствовать, разговаривают с мирянами ласково, но почти с состраданием, и глядят как-то чудно̀, словно взор их глаз уходит дальше видимого предмета, стоящего перед ними. Игумены-начальники дорожат подобными подчиненными, но не дают им сильного хода, а отделываются так называемыми знаками доверия. Не потому, чтоб они были неспособны, а потому, что нет в них ни настоящей чиновничьей цепкости, ни той веселонравной готовности во всякое время сочинять проекты о всеобщем обездолении, которая в многообещающих личностях уже с молодых лет позволяет провидеть будущую «способнейшую бестию».
– Да, по делу и, кажется, довольно неприятному, – ответил я.
– Все дела не особенно приятны, – вздохнул он с видимым сочувствием ко мне, – но не следует отчаиваться. Так вы уж потрудитесь подождать: через час они будут. Папироску, может быть, желаете выкурить… от скуки? – прибавил он, как бы желая побаловать меня.
– Благодарю вас, я сейчас курил.
– А еще? посидите, покурите. Или вот газету… Пишут, Бѐку какую-то привезли (лицо его осветилось при этом улыбкой, вероятно, ради доставления мне удовольствия мирским разговором)… Так потрудитесь уж подождать, – прибавил он, поощряя меня ласковым взглядом и делая движение, чтоб удалиться.
Но я вспомнил совет Алексея Степаныча, что нужно об реформах завести разговор, и решился остановить ласкового чиновника.
– А у вас, кажется, довольно-таки дела? – приступил я стороною.
– Нельзя сказать. Вот у его превосходительства – точно что много дела. Ведь от них все исходит и к ним же опять все возвращается. Ну, а у нас… нынче начальство у нас снисходительное: сверх сил не требует!
– Однако ж все-таки… Помилуйте! сколько реформ мы уж видели, а скольких еще не видали… то есть несомненно увидим в ближайшем будущем!
– Теперь – мы отдыхаем; внутрь обратились. Внутри разбираемся, – сказал он, вовсе, по-видимому, не стыдясь и не желая делать тайны из временной приостановки реформаторской деятельности. – Так вы уж будьте так добры, подождите!
Высказавши это, маленький человек тою же неслышною поступью удалился от меня. Начиналась таинственность. Вот я и об реформах заговорил, думалось мне, а он даже внимания не обратил! – видно, не так-то легко в этом месте завязываются разговоры об реформах, как предсказывал мне Алексей Степаныч. Что ж я, однако ж, буду делать? Неужто ж так-таки прямо и попаду во чрево кита * ? А ну, как он (не этот, а уж настоящий он, он самый), вместо того чтоб входить со мной в объяснения, прямо огорошит меня вопросом: а позвольте, скажет, узнать, каким образом вы об этомпроведали? Что я отвечу ему? Отвечу ли, что самая совесть моя подсказала мне, что я заслужил, или же, просто-напросто, запутаюсь в противоречивых разъяснениях? И я с беспокойством следил глазами, как маленький человечек скользил по анфиладе, постепенно умаляясь в пространстве, и наконец совсем исчез, смешавшись с другими черными точками, мелькавшими в отдалении.
– Это – экзекутор! – сказал мне, вновь появляясь, прежний сторож, покуда я таким образом размышлял.
– Кто? вот этот чиновник, который сейчас со мной говорил?
– Да; генерал их страсть как любят!
И сторож опять исчез, оставив меня одного с газетою. «Г-жа Бекка̀, – читал я в газете, – внесла совершенно новый элемент в исполнение французских шансонеток. Она не поет их, а передает говорком, сопровождая эту передачу гримасами, не лишенными своеобразной грации…» Но в эту самую минуту, когда я вместе с автором приступил к сравнительной оценке достоинств г-ж Бекка̀ и Жюдик, в передней послышалось движение, и вслед за тем в приемной комнате появилось новое лицо. Это был Молчалин-жуир, мужчина замечательно большого роста, утробистый, сильный, с веселым и крупным лицом и с раскатистым голосом, валившим из него, как из протодьякона. Совершенно круглые и чересчур выпуклые глаза показывали, что он не чуждается даров Вакха, но что последним не легко достается победа над ним. Одним словом, это была одна из тех замечательных и ныне уж исчезающих личностей, которые когда-то проводили дни за делами, а ночи в беспробудных кутежах и о которых во времена оны складывались в канцелярском мире целые легенды, переходившие от одного поколения коллежских регистраторов к другому. Проходя мимо, он, как мне показалось, внимательно взглянул на меня и остановился.
– К директору? – спросил он у меня.
– По делу… тут дело есть у меня.
– На цугундер потянули… ха-ха!
– То-то, что не знаю…
– И знать не нужно. Знаете, как Кузькину мать зовут – и довольно с вас! – ха-ха!
– Однако ж все-таки…
– Ступайте в курительную комнату – там видно будет! А здесь вам дожидаться нечего. Вы от Алексея Степаныча?
– Да, я знаю его.
– Так ступайте в курительную – теперь некогда. Сейчас наше зелье приедет, так с докладом еще разобраться надо… Стойте! А ну, как я возьму да и доложу ваше дело теперь же… ха-ха!
– А вы не докладывайте!
– Не докладывать… ха-ха! Бедокуры вы, господа! Начуделесите там, а для вас обстановочки придумывай… ха-ха! Ну, с богом!
Напутствовавши меня таким образом, он сделал быстрый полуоборот и, грузно ступая, направился к анфиладе, на всем протяжении которой, покуда он шел, раздавался шум отодвигаемых стульев.
– Да у вас где дело-то, у кого в отделении? – раздалось над самым моим ухом.
Я обернулся: около меня стоял тот же сторож, который, по-видимому, решился быть моим ангелом-хранителем.
– В отделении «Воздаяний по Преимуществу», кажется…
– Так это они самые и есть.
– Кто «они»?
– Иван Семеныч. У них ваше дело.
– Гм… он мне в курительную советовал идти.
– Так что же… и с богом! в курительной, позвольте вам сказать, даже поваднее будет. Там и прочие просители собрались… пожалуйте!








