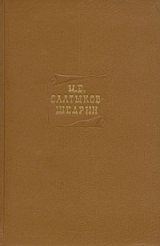
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 56 страниц)
Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия «обстановки». Русские матери (да и никакие в целом мире) не обязываются рождать героев, а потому масса сынов человеческих невольным образом придерживается в жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «Лбом стены не прошибешь». И так как пословица эта, сверх того, в практической жизни подтверждается восклицанием: «В бараний рог согну!» – применение которого сопряжено с очень солидною болью, то понятно, что в известные исторические моменты Молчалины должны во всех профессиях составлять не очень яркий, но тем не менее несомненно преобладающий элемент.
По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд элемент, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как, по условиям времени, главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты…
С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, излагая мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:
– Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вот бы вы посмотрели на мученика, так уж подлинно – мученик! Я, например, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его, почти руками осязаю – ну, стало быть, какова пора ни мера, и оборониться от него могу. А он, мученик-то, об котором я говорю, даже и преследователя-то своего настоящим манером назвать не может, а так, перед невидимым каким-то духом трепещет.
– Кто ж это такой?
– Да тезка мой, тоже из роду Молчалиных (так расплодился, уж так расплодился нынче наш род!) и Алексеем же Степанычем прозывается. Только я – чиновник, а он – журналист, газету «Чего изволите?» издает * . Да, на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, а кому в мысль и в какую мысль – и сам того не ведает.
– Да, это не совсем ловкое положение. Что ж это, однако, за Молчалин? Я что-то не слыхал о таком имени в русской литературе. Литератор он, что ли?
– Литератор не литератор, а в военно-учебном заведении воспитывался, так там вкус к правописанию получил. И в литературу недавно поступил – вот как волю-то объявили. Прежде он просто табачную лавку содержал, * накопил деньжонок да и посадил их в газету. Теперь за них и боится.
– Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхал.
– Что мудреного, что не слыхал! Говорю тебе: они нынче все из золотарей * . Придет, яко тать в нощи * , посидит месяц-другой, оберет подписку – и пропал. А иному и посчастливится, как будто даже корни пустит. Вот хоть бы мой Молчалин, например: третий год потихоньку в своей лавочке торгует – ничего, сходит с рук!
– А шибко он боится?
– Так боится, так боится, что, можно сказать, вся его жизнь – лихорадка одна. Впал он, грешным делом, в либерализм, да и сам не рад. Каждый раз, как встретит меня: уймите, говорит, моих передовиков! А что я сделать могу?
– Да, передовики, особенно наши, это – я вам скажу, народ!.. начнет об новом способе вывоза нечистот писать – того гляди, в Сибирь сошлют!
– Да если бы еще его одного сослали – куда бы ни шло. А то сколько посторонних через него попадет – вот ты что сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели – сколько наименований-то есть! Ах, мой друг! не ровен час! все мы под богом ходим! Да, не хотите ли, я познакомлю вас с ним?
– Что ж, пожалуй!..
– И не бесполезно будет, я вам скажу. Может быть, грешным делом, фельетончик настрочите – он ведь за строчку-то по четыре копеечки платит! Сотню строчек шутя напишете – ан на табак и будет!
Мы условились, что в следующее же воскресенье, в первом часу утра, я зайду к Алексею Степанычу, и затем мы вместе отправимся к его тезке.
В условленный час мы были уж в квартире Молчалина 2-го.
Нас встретил пожилой господин, на лице которого действительно ничего не было написано, кроме неудержимой страсти к правописанию. Он принял нас в просторном кабинете, посередине которого стоял большой стол, весь усеянный корректурными листами. По стенам расположены были шкафы с выдвижными ящиками, на которых читались надписи: «безобразия свияжские», «безобразия красноуфимские», «безобразия малоархангельские» и проч * . Ко мне Молчалин 2-й отнесся так радушно, что я без труда прочитал в его глазах: пять копеек за строчку – без обмана! – и будь мой навсегда! К Алексею Степанычу он обратился со словами:
– Да уйми ты, сделай милость, моих передовиков! *
– Бунтуют?
– Республики, братец, просят!
– А ты бы их заверил, что республики не дадут!
– Смеются. Это, говорят, – уж ваше дело. Мы, дескать, люди мысли, мы свое дело делаем, а вы – свое делайте!
– Да неужто ж им, в самом деле, республики хочется?
– Брюхом, братец! вот как!
– А я так позволяю себе думать, – вмешался я, – что они собственно только так… Знают, что вам самим эта форма правления нравится, – вот и пишут.
Молчалин 2-й приосанился.
– Ну да, конечно, – сказал он, – разумеется, я… Само собой, что, по мнению моему, республика… И в случае, например, если бы покойный Луи-Филипп… * Однако согласитесь, что не при всех же обстоятельствах… Да и народы притом не все… Не все, говорю я, народы…
– Та-та-та! стой, братец, – прервал Алексей Степаныч, – сам-то ты нетвердо говоришь – вот они и не понимают. Народы да обстоятельства… Какие такие «народы»? Води их почаще на Большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочиния: * вот, мол, она!
– Так-то так, Алексей Степаныч! – счел долгом заступиться я, – да ведь нельзя редактору так просто выражаться. Редактор – ведь он гражданское мужество должен иметь. А между тем оно и без того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это – те самые народы… Впрочем, я уверен, что и сотрудники газеты «Чего изволите?» очень хорошо понимают, чем тут пахнет, но только, для своего удобства, предпочитают, чтоб господин редактор сам делал в их статьях соответствующие изменения.
Молчалин 2-й горько усмехнулся.
– Да-с, предпочитают-с, – сказал он, – да сверх того, на всех перекрестках ренегатом ругают!
– Так что, с одной стороны, ругают сотрудники, а с другой – угрожает начальство? – подсмеялся Алексей Степаныч. – Да, брат, это, я тебе скажу, – положение!
Молчалин 2-й на минуту потупился, словно бы перед глазами его внезапно пронесся дурной сон.
– Такое это положение! такое положение! – наконец воскликнул он, – поверите ли, всего три года я в этой переделке нахожусь, а уж болезнь сердца нажил! Каждый день слышать ругательства и каждый же день ждать беды! Ах!
– И, как мне сказывал Алексей Степаныч, неприятность вашего положения осложняется еще тем, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?
– И не знаю! ну, вот, ей-богу, не знаю! Еще вчера, например, писал об каком-нибудь предмете, писал бесстрашно – и ничего, сошло! Сегодня опять тот же предмет, с тем же бесстрашием тронул – хлоп! А я почем знал?
– «А я почем знал»! – передразнил Алексей Степаныч, – а нос у тебя на что? А сердце-вещун для чего? Коли ты – благонамеренный, так ведь сердце-то на всяк час должно тебя остерегать!
– Рассказывай! Тебе хорошо, ты своегопроник – ну, и объездил! А вот худо, как и объездить некого! Поди угадывай, откуда гроза бежит!
– Да неужто ж нет способов? – вмешался я, – во-первых, как сказал Алексей Степаныч, у вас есть сердце-вещун, которое должно вас остерегать; а во-вторых, ведь и писать можно приноровиться… ну, аллегориями, что ли!
– То-то и есть, что на аллегории нынче мастеров нет. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишут сплеча, периодов не округляют, даже к знакам препинания холодность какая-то видится. Да вот, позвольте, я прочту, что мне тут один передовик напутал. Кстати, вместе обсудим, да тут же и исправим. А то я уж с утра мучусь, да понимание, что ли, во мне притупилось: просто, никакой аллегории придумать не могу.
Мы согласились. Молчалин 2-й взял со стола корректурный лист и начал:
– «С.-Петербург, 24-го июля.
На этот раз мы вновь возвращаемся к вопросу, который уже не однажды занимал нас. Пусть, впрочем, читатель не сетует за частые повторения: это – вопрос животрепещущий, вопрос жизни и смерти, вопрос, от правильной постановки которого зависит честь и спокойствие всех граждан. Одним словом, это – вопрос о распространении на все селения империи прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений, вопрос, по-видимому, скромный, но, в сущности, проникающий в сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить…»
– Гм… кажется, это можно?
– По моему мнению, не только можно, но и… ах, боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствие граждан зависят от распространения прав и преимуществ, изложенных в уставе о предупреждении и пресечении преступлений… Помилуйте! Я сам сколько раз порывался… сколько раз сам думал: от чего бы это, в самом деле, зависело?.. и вдруг такой ясный и вполне определенный ответ! – восклицал я в восхищении.
– А по-моему, так и тут есть изъянец, – расхолодил мой восторг Алексей Степаныч, – кажется, и всего-то одно словечко подпущено: «граждан», а сообразите-ка – чем оно пахнет! Какие такие, скажут, «граждане»? Откуда такое звание взялось? У нас, батюшка, всякий – сам по себе! Ты – сам по себе, я – сам по себе! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конец, признаюсь, мне не нравится: «проникающий гораздо глубже, нежели можно с первого взгляда предположить»!.. Какой такой «первый взгляд»? И что тут еще «предполагать»? Припахивает, братец, припахивает!
– Чем же бы, ты, однако ж, заменил слово «граждан»?
– А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенно гнусного ничего нет. «Честь и спокойствие обывателей» – чем худо?
– Гм… да… вы как думаете? – обратился Молчалнн 2-й ко мне.
– По-моему, «граждане» возвышеннее; но коль скоро общественная безопасность этого требует, то отчего же не припустить и «обывателей»!..
– Так уж я…
Он помуслил карандаш, поскреб им на полях корректурного листа и продолжал:
– «Что селениям нашим необходимо предоставить те же благодеяния полицейского надзора, которыми уже пользуются их старшие собратья по табели о рангах, то есть города и местечки – насчет этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сих пор еще никто и никогда не позволил себе проводить в русской печати мысль, что полиция вредна. Да и мудрено проводить что-нибудь подобное, во-первых, потому, что это противоречило бы историческому опыту всех народов, а во-вторых, и потому, что, с принципиальной точки зрения, само начальство высказалось насчет пользы, приносимой полицией, настолько твердо и решительно, что сразу поставило этот вопрос вне всяких пререканий».
– Хорошо! очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубил: вместо «вне всяких пререканий», написал бы: «вне всяких неуместныхпререканий». Вернее! – посоветовал Алексей Степаныч.
– Можно и усугубить! Ну-с, далее!
«Стало быть, если в нашей печати и существуют по этому предмету разномыслия, то они касаются не решенного уже начальством вопроса о пользе полиции, но лишь практических его применений. «Полицейское воздействие безусловно полезно и необходимо, – в один голос вопиют все органы русской литературы, – следовательно, оставим этот вопрос в стороне, а будем спорить лишь о том, в какой форме должно выразиться полицейское воздействие, дабы иметь силу действительную, а не мнимую». И действительно, спорят; спорят горячо, с увлечением, почти с жгучестью… Так что многим приходит на мысль: уж не потому ли так шумят наши народные витии * , что, за невозможностью обсуждать дело по существу, они хотят отыграться на подробностях?»
– Ничего… это? – как-то робко спросил нас Молчалин 2-й.
– Ничего-то ничего, а ты вникни, однако, что он тут нагородил, передовик-то твой!
Молчалин 2-й вопросительно взглянул на меня, как бы призывая в свидетели своей невинности.
– Нечего, нечего лебезить… Лиса Патрикеевна! – безжалостно оборвал его Алексей Степаныч, – словно и не понимает, в чем тут суть! Ишь ты! сначала как и путный: «нельзя, говорит, не быть согласным насчет существа», а потом и пошел «невольным образом отыгрываются» да «за невозможностью»! «За бесполезностью», сударь! «за бесполезностью»! Вот как следует говорить!
Новый вопросительный взгляд на меня со стороны Молчалина 2-го, на этот раз уже положительно требующий моего вмешательства.
– К сожалению, я и сам не могу не согласиться с Алексеем Степанычем, – поспешил откликнуться я, – конечно, ни один из обыкновенных читателей не найдет во всей прочитанной вами тираде ничего, что бы свидетельствовало о неблаговидных поступках ее автора. Но запах– все-таки есть! И читатель необыкновенный, читатель, который следит за статьей, так сказать, с карандашом в руках… * не знаю! Право, даже угадать не могу, что он найдет и чего не найдет в указанных Алексеем Степанычем словах! Можно и ничего не найти, но можно и всенайти, потому что тут есть какая-то неискренность, есть экивок. Я сам люблю экивоки, но ведь экивок – это что такое? Пройдет он – хорошо! а не пройдет – тогда что? Вот почему я полагал бы, что, с точки зрения безопасности, надежнее было бы, если бы всю фразу, начиная со слов: «так что многим» выкинуть совсем.
– И так можно! – согласился Алексей Степаныч.
– Потому что слово – серебро, а молчание – золото! – присовокупил я.
– Да, если бы можно было этим золотом на рынке расплачиваться – богат бы я был! – вздохнул Молчалин 2-й и как-то задумчиво уперся карандашом в корректуру, как бы решаясь и не решаясь исполнить мое замечание.
– Стойте! нашел! – воскликнул он наконец, – вместо того чтоб совсем выкидывать фразу, я заменю ее следующею:
«Так бывает всегда, когда печать становится лицом к лицу с настоящим, реальным делом, а не с пустою и бессодержательною идеологией»… Ладно?
– Прекрасно! прекрасно! прекрасно! – похвалил Алексей Степаныч, – похеривай и продолжай.
– «Положение наших селений исключительное. Полиция в них, можно сказать, не существует вовсе. Вотчинная полиция упразднена; мировые посредники, в обязанности которых отчасти входили атрибуты вотчинной полиции, тоже сочтены излишними; * волостные правления и суды ведают лишь дела крестьян; сотские и десятские * – но кто же не знает, что такое наши сотские и десятские? Мировые судьи или больны, или находятся в отпуску, занятые приискиванием других, лучших мест, и притом рассеяны по лицу земли в таких гомеопатических порциях, что бесполезно даже рассчитывать на их защиту. Так что ежели у вас пропал грош, то вам некому даже попечалиться об этом. Понятно, что такое двусмысленное положение, затрогивающее коренные основы, на которых зиждется общество, должно было встревожить нашу печать».
– Печальная картина! – вздохнул Молчалин 2-й и как-то нелепо пригорюнился.
– Смотри не заплачь! Нечего тут! Валяй! валяй дальше! – поощрил его Алексей Степаныч.
– «Но раз занявшись им, она должна была встретиться с множеством вопросов, которые существенно на него влияют и которые, следовательно, предлежало разрешить во что бы то ни стало. Что полиция не существует – это ясно; что ее следует восстановить, возродить, создать – это тоже ясно; но каким образом, из каких материалов и с помощью каких сил предстоит воздвигнуть величественное ее здание – вот что неясно и что требует неотложного разрешения. В ком, то есть в каких лицах, должна найти воплощение идея, выражаемая уставом о пресечении и предупреждении преступлений, в применении ее к селениям? Кто наиболее заинтересован как в назначении сих лиц, так и в наблюдении за правильностью их действий? В каком количестве должны быть назначаемы эти лица и каких желательно ожидать от них качеств? Какие необходимо им присвоить права как по прохождению службы, так и по мундиру и пенсии? В каких пределах должна быть заключена их власть, а равным образом в чем должны состоять их обязанности по наблюдению, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, с одной стороны – не принимала характера увеселительного заведения, а с другой – не служила угрозою для выполнения прихотливых требований и не отвлекала граждан от их обычных занятий и невинных забав?
Все это, как видит читатель, – вопросы нешуточные; и потому совершенно понятно, что они волнуют в настоящее время лучшие умы в русском обществе и в русской литературе».
– Прекрасно! – продолжай, братец, продолжай! «Граждан», «граждан»-то только похерь!
– «Одним из самых рьяных противников нашей газеты по всем этим вопросам является газета «И шило бреет» * , которая, в одном из последних своих нумеров, даже посвятила нам по этому случаю обширную статью. По своему обыкновению, почтенная газета находится в веселом расположении духа. Она заигрывает с нами, она охотно извращает наши слова и мысли и, разумеется, прибегает к отборнейшим выражениям своего полемического жаргона, чтоб выставить нас, в глазах своих неприхотливых читателей, в самом уморительном виде. Нас самих она называет «недоумками», «тупицами» и «барскими прихвостнями», а газету нашу «гнойным нарывом», в котором нашли себе последнее убежище паскудные остатки отживающего русского холопства».
– Однако, брат! – как-то испуганно воззрился Алексей Степаныч при последних словах.
– Да, братец! – подтвердительно ответил Молчалин 2-й, но, как малый уже поседелый в литературных боях, только махнул рукою и продолжал:
– «Мы не последуем за уважаемой газетой в ее полемических приемах. Мы едва ли не с бо̀льшим основанием могли бы назвать ее сотрудников «паршивыми либералами», а ее саму – «гниющим продуктом современного общественного разложения», но не делаем этого, ибо знаем, что с словом следует обращаться честно * . И, конечно, не оголтелые казаки «Бреющего шила» заставят нас отступиться от этого правила…»
– Однако, брат! – вновь изумился Алексей Степаныч.
Но Молчалин 2-й даже не ответил на этот перерыв, а только машинально отмахнулся рукой, как бы отгоняя надоедливую муху.
– «Действительно, разница между нашими воззрениями и пустопорожними разглагольствованиями «Бреющего шила» до такой степени существенна, что ничего нет удивительного, ежели почтенная газета выходит из себя и доводит свою полемику до крайних пределов неприличия. Она понимает, что в порыве прапорщичьего экстаза зашла в трущобу, и сердится на нас уже не за то, что мы расходимся с нею, а за то, что мы не подаем ей руку помощи и не делаем ни малейшей уступки, которая позволила бы ей прилично и без позора отступиться от легкомысленно высказанных ею мнений. Сделай мы это – и она давно бы простерла нам свои объятия, если бы, впрочем, не воспользовалась этим обстоятельством, чтоб обвинить нас же в малодушии и непоследовательности. Но потому-то именно мы и не сделаем ничего в этом смысле; мы ни в каком случае не подадим «Бреющему шилу» требуемой им руки помощи и не поступимся ни одним золотником, ни одним скрупулом * из своих убеждений. Мы не сделаем этого, во-первых, потому, что ведем свое дело начистоту, а во-вторых, и потому, что поставили себе задачей во что бы то ни стало раскрыть публике глаза и выставить перед нею в надлежащем свете истинные достоинства того гнилого либерализма, которым щеголяет «Бреющее шило».
– Ничего? – остановился Молчалин 2-й.
– Ничего, братец! цапайтесь, подсиживайте друг дружку! С точки зрения благоустройства, это даже лучше!
– «Прежде всего, мы выходим из принципов диаметрально противоположных. «Бреющее шило» исходною точкой для своих разглагольствий ставит нагое единоначалие * ; мы же, как читателям это достаточно известно, не имея ничего против единоначалия, как принципа дисциплинирующего и дающего нашей жизни правильный устой, с своей стороны, в виде корректива, присовокупляем к нему излюбленное и вполне почтительное народосодействие. Вот это-то, с одной стороны, благосклонно-внимательное, а с другой – почтительно-любовное взаимодействие двух взаимно друг друга оплодотворяющих сил, которое, по нашему мнению, составляет основу нашей общественной жизни, вот оно-то и служит поводом для полемики. И ежели «Бреющее шило» ведет ее с нахальством и даже ненавистью, то тем хуже для него; мы же никогда до этого не унизимся, а будем на все обвинения и инсинуации отвечать с спокойствием и достоинством, полными презрения».
– Вот «единоначалие»… ужасно меня это слово беспокоит! – задумался Молчалин 2-й.
– Что ж, слово… ничего! – разуверил его Алексей Степаныч, – коли у места, так даже украшением служит! Ведь ты «против единоначалия ничего не имеешь» – ну, и Христос с тобой! А что касается до «народосодействия», так и закон, братец, не препятствует… Содействуйте, батюшки, содействуйте!
– Так-то так, а все-таки… Все как будто против единоначалия… Тогда как, видит бог, я…
– Ну-ну! ничего! не слишком уж робей! И на начальство, брат, тоже надеяться надо: поймет! Читай дальше.
– «Как ни непререкаем принцип единоначалия, какие бы заслуги он ни считал за собой в прошедшем и в настоящем, тем не менее нельзя отрицать, что, отрешенный от народосодействия, он скоро извращает свой благодетельный характер и в самом даже благоприятном случае является как бы вращающимся в пустоте. Лишенный здоровой известительной пищи, которою только народосодействие и может снабжать его, он скоро не будет знать и сам, над чем ему единоначальствовать предстоит, а так как единоначальствовать все-таки необходимо, то будет удовлетворять этой потребности, истощая свои силы в единоначальствовании над самим собою. Поручики будут без надобности угнетать корнетов, штабс-ротмистры – поручиков, ротмистры – штабс-ротмистров и т. д. Вот почему мы думаем, что единоначалие, предоставленное одним своим силам, не только ничего не достигает, но нередко приводит на край гибели, да и само при сем погибает жертвою непризнания иных руководящих начал, кроме собственного критериума, ограничиваемого лишь внезапностью. Это – общее правило, которое…»
– Ого! – прервал чтение Алексей Степаныч, – ну, этого, брат, сам Мак-Магон и тот к обнародованию не одобрит!
– А! что! Я вам говорил! – почти криком крикнул Молчалин 2-й, – всегда они у меня так! начнут о бляхах городовых, а сведут на единоначалие!
– Я бы, на твоем месте, всю эту тираду похерил, а вместо нее легонькую бы похвалу начальникам края пустил!
– Как так?
– Да так вот. Известно, мол, что в подобных делах многое зависит от начальников края * , которые, дескать, просвещенным вниманием… А потому: обращаем взоры наши! В надежде, мол, что скромные наши заметки будут приняты не яко замечания, но яко дань… Словом сказать, замеси, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь в легкий дух, благословясь!
– И я вполне разделяю это мнение, – сказал я, – только одно бы я в редакции Алексея Степаныча изменил. Он говорит: многоезависит от начальников края, а я бы сказал: все!
– А что вы думаете! Мысль-то ведь недурна! Потому что хоть и пыжатся господа наши передовики: единоначалие да единоначалие! а чего, например, каких результатов они в пресловутой своей Франции достигли?! Тогда как у нас…
Он не договорил и быстро начал бегать карандашом по корректуре.
– Ну, слушайте, как оно у меня теперь вышло:
«Бесспорно, что принцип единоначалия непререкаем; бесспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицам просвещенным и согреваемым святою ревностью к общественному благу (а кто же, кроме бесшабашных писак «Бреющего шила», может отрицать, что именно эти качества всегда в совершенстве характеризовали наших начальников края, в особенности же тех, кои удостоились этого назначения в последнее время?), не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их несокрушимости. Но это нимало не должно охлаждать наше рвение в смысле содействовательном, ибо сам закон требует от граждан содействия и в противном случае даже угрожает карою, как за попустительство. Вот что мы имели в виду, настаивая на совместном действии принципа единоначалия с принципом любовного и почтительного народосодействия, и вот почему мы и ныне еще раз решаемся посвятить наши столбцы всестороннему обсуждению вопроса о распространении на селения империи тех прав и преимуществ полицейского надзора, которыми уже пользуются города. Мы делаем это не в видах поучения, ниже совета, а лишь в форме скромного и благопочтительного мнения, принять или не принять которое будет, конечно, зависеть от усмотрения. Примется наше мнение – мы будем польщены; не примется – мы и на это сетовать не станем!»
– Хорошо, что ли, так будет?
– Уж так-то хорошо, что даже я не ожидал, – похвалил Алексей Степаныч, – и подлости прямой нет – потому, ты никого не назвал, а между тем в нос ведь, братец, бросится!
– Ну, а вы что скажете? – обратился ко мне Молчалин 2-й.
– Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имею сделать небольшое замечаньице, которое, по мнению моему, нелишнее будет принять к сведению. В новую редакцию вы перенесли из прежней слова: «не только не приводит государств на край гибели»… Конечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтоб по возможности сохранить труд наборщика; но людям, не посвященным в тайны корректуры, эта фраза может показаться сомнительною. Могут спросить себя: с чего это вдруг пришли ему на ум «государства, приводимые на край гибели»? Нет ли иронии тут какой-нибудь, – иронии, которую наружная восторженность похвалы делает еще более едкою и чувствительною?
– А ведь замечание-то справедливое! – согласился со мною и Алексей Степаныч.
Молчалин 2-й задумался.
– Справедливое-то справедливое, – произнес он наконец, – а жаль! Фраза-то уж больно ловка!
– Стой! Я придумал! – нашелся Алексей Степаныч, – фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить так: «как думают некоторые распространители превратных идей» – вот и все.
– Отлично! – согласился Молчалин 2-й и тут же, сделав надлежащее исправление, продолжал:
– «Токвиль говорит * : единоначальники, доводящие свое властолюбие…»
– Марай! – вскричал Алексей Степаныч, – и читать дальше не нужно! Марай!
Молчалин 2-й, даже не возражая, провел крест на корректурном листе.
– «Гнейст, подтверждая это мнение, * с своей стороны, присовокупляет: «Единоначальник, который…»
– То – Гнейст, а то – русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!
– «Людовик XVI недаром со слезами на глазах собственноручно набирал знаменательные слова Тюрго * : pauvre France! Pauvre roi! [11]11
Бедная Франция! Бедный король!
[Закрыть]. Этот добродушный самодержец инстинктивно чувствовал, что он – последний прирожденный король Франции и Наварры и что отныне имя Бурбонов всецело перейдет на главы тех русских офицеров, которые выслужились из кантонистов и сдаточных * ».
Молчалин 2-й умолкнул. Мы тоже молчали. Никто из нас ничего не понимал, но все мы находились под гнетом какой-то неожиданности.
– Марай! марай! марай! – первый опомнился Алексей Степаныч.
Но, к изумлению, Молчалин 2-й заупрямился.
– Позволь, однако, тезка! – сказал он, – ведь ежели все-то марать, так, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будет. Все эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоят ломаного гроша; однако попробуй без них статью выпустить – голо будет!
Он вопросительно взглянул на меня.
– Если вы желаете знать мое мнение. – сказал я, – то оно резюмируется в одном слове: марайте! Конечно, анекдот об Людовике Шестнадцатом очень хорош, но ведь, собственно говоря, при тех переменах, которые вами сделаны выше, он уж как-то и не подходит.
– Гм… да, вот это так. Действительно, оно… Но согласитесь, что это тяжело. И каждый ведь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!
Он вздрогнул, но взял карандаш и твердою рукой начертал крест на корректурном листе. Затем он продолжал: «Все это мы припоминаем здесь с тою целью, чтоб читатель понял нашу мысль вполне. Мы – не только не противники единоначалия, но именно потому и присовокупляем к нему, в виде придатка, народосодействие, что последнее нимало не подрывает первого, а, напротив того, действуя с ним вкупе, даже подкрепляет его. Святая песнь спрашивает недаром: «се что красно, что добро?» и отвечает: «воеже жити, братие, вкупе». Этого же и мы желаем. Мы говорим обществу: остерегись! стань само на страже своих интересов! спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушным к таким вопросам, как, например: от кого должно зависеть заготовление провианта и обмундирования для полицейских чинов в селениях? какой системы следует держаться при организации так называемых чижовок * ? и проч. И ежели ты ответишь на этот вопрос отрицательно, то есть отнесешься к делу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а не на нас! пеняй на себя, ежели ты впоследствии увидишь себя под гнетом морально-полицейского давления! Пеняй на себя, если ты сам выпустишь из рук такие плодотворные статьи, как, например, расходы по обмундированию нижних чинов и по содержанию в исправности чижовок!»
– Однако дались ему чижовки! – не воздержался заметить Алексей Степаныч.
– Ну, это уж я сам, – молвил Молчалин 2-й и, тут же исправив, прочитал: – «Все это… Святая песнь»… ну, и так далее, по-старому… «Мы говорим обществу: доверься, но доводи до сведения! Предоставь, но смотри в оба! Не для того, чтоб неуместною критикой произвести замешательство в единоначальственных распоряжениях, а для того, чтоб оправдать почивающие на тебе надежды и упования! Начальство воодушевлено наилучшими намерениями, но оно, ежели позволительно так выразиться, не всевидяще! И хотя известный куплет:
замечательно хорошо выражает положение вещей, но безусловно верен все-таки лишь последний его стих. Начальство желает всем угодить, но иногда – мы говорим это со скорбию – не угождает никому! Поэтому, о, общество! ежели ты пренебрежешь предстоящими тебе в сем случае обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на нас! Пеняй на себя, если начальство, после тщетных ожиданий твоей известительной инициативы, наконец воскликнет: валяй по всем по трем * ! Пеняй на себя, ежели чижовки, в которых ты от времени до времени будешь проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами и ежели вопрос об устранении сего недостатка будет передан на обсуждение особой комиссии, которая сочтет за нужное издать по этому поводу сто один том «трудов», дабы и затем не прийти ни к какому заключению».








