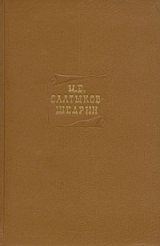
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 56 страниц)
Прошел месяц, в продолжение которого я не видал Молчалина. В начале сентября, идя по Невскому, я почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к моему плечу. Оглядываюсь – Алексей Степаныч.
– Забыли? грешно, сударь! – молвил он, – а не худо бы проведать старого сослуживца!
– И то сколько раз собирался к вам в департамент зайти, да совестно: все думается, как бы вас от занятий не оторвать! – оправдывался я.
– Как будто только и света в окне, что департамент! чай, и квартира у нас есть. Свой дом, батюшка! На Песках, в Четвертой улице! Хорошо у нас там – тихо. И в Коломне тихо живут * , да та беда – место низкое, того гляди, наводнение в гости пожалует. Пятнадцатый год домовладельцем и прихожанином в своем месте состою… ничего! ни в чем не замечен!
– Непременно! непременно! как-нибудь утром в праздник…
– Зачем утром! прямо к обеду в будущее воскресенье милости прошу! По воскресеньям мы в три часа обедаем. В прочие дни к седьмому часу вряд по службе исправиться, а в воскресенье – мой день!
– Неужели вы каждый день в департаменте до седьмого часа сидите?
– А то как же! Вот теперь половина двенадцатого, а я только еще на службу ползу, да и тут, пожалуй, разве писарька какого-нибудь заблудящего на месте застану. Это ведь прежде водилось, что чиновники в департамент с девяти часов забирались и всем, бывало, дело найдется. А нонче, велика ли птица столоначальник, а и того раньше половины первого не жди, а не то так и ровно в час. Идет, это, каблучками стучит, портфель под мышкой несет, всем корпусом вперед подался… Ну, ни дать ни взять либо сам директор, либо его курьер!
– Удивительно, как они дело делать успевают!
– Чего «удивительно»! Коли по совести-то говорить, так ежели бы он и в три часа пожаловал, хуже бы не было!
– Что так?
– Да так. Дел совсем нет. Обегать нас как-то стали. Кажется, кабы сами мы дел не придумывали, а жили бы себе полегоньку, так и в департамент совсем бы ходить незачем!
– А что вы думаете! ведь не худо бы это было!
– Чего лучше!.. небось ты первый обрадовался бы! А знаешь пословицу: бодливой корове бог рог не дает? Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-есть надо! Ты сообрази, сколько в Петербурге чиновников-то – и вдруг всю эту ораву, за неимением дел, упразднить! нет, пусть лучше хоть и без дела, а в департамент похаживают!
– Да для чего же?
– Бога пусть помнят, от страха не отвыкают!
– Чем же вы занимаетесь, ежели дела так мало?
– Я-то найду чем заняться. Нет дела – газету почитаю, перья починю, все как следует приготовлю… А там, смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ее сообразишь да пометишь, да к исполнению передашь – ан через полчаса она и опять к тебе с исполнением воротится! Ну, и опять сообразишь, поправишь, переделать отдашь – смотришь, и к Вольфу пора кофей пить. Да я всегда дело найду, а вот молодежь, хоть бы господа столоначальники – те совсем заниматься перестали!
– Что ж они делают?
– Что ему делать! Придет в первом часу – с полчаса очнуться не может: потягивается да позевывает, потом папироску закуривает, спичками чиркает; потом на стол сядет, ногами болтает; потом свистать начнет… Прежде, бывало, из «Елены Прекрасной», а нонче «Мадам Анго» откуда-то проявилась. * Покуда он все это проделает, глядишь, уж четвертый час: скоро и «чадушке» время прийти. Ну, тут он действительно на часок присядет да что-нибудь и поскребет пером.
– А «чадушко» рано ли приходит?
– Неровно. Иногда в пятом в исходе, а иногда и в шестом в половине. Ну, и пойдет тут у нас беготня. Сильно он нас, стариков, этим подъедает. Веришь ли, хоть и дела нет, а домой придешь весь словно изломанный! Так как же? до воскресенья, что ли?
Я дал слово, и мы расстались.
В следующее воскресенье, ровно в три часа, я уже был у Молчалина. Деревянный одноэтажный домик Алексея Степаныча снаружи казался очень приличным и поместительным. Приветливо глядел он своими светлыми семью окнами и трехоконным мезонином на улицу, словно приглашая взойти на чисто выметенное крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились запертые ворота с неизбежною калиткой; поверх ворот виднелось пять-шесть дерев, свидетельствовавших, что в глубине двора существует какая-то садовая затея.
Из передней я вошел прямо в зал, где уж был накрыт большой стол человек на двенадцать. Тут же находился и Алексей Степаныч, хлопотавший около стола с закуской.
– Вот и отлично! – встретил он меня, подавая обе руки, – три часа ровнехонько. Аккуратность – вежливость царей, как говаривал покойный Александр Андреич; [6]6
Чацкий. ( Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]ну, а мы хоть с коронованными особами знакомства не водим, но и между своими простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаем!
– Позвольте вас перебить, Алексей Степаныч. Вы сказали: «покойный Александр Андреич» – разве он скончался?
– Скончался, мой друг! Пять дней тому назад от Софьи Павловны телеграмму получил: «Отлетел наш ангел»! А сегодня по ранней машине и нарочный от нее с письмом приехал. Представь себе! и недели не прошло, а уж Загорецкий процесс против нее затевает!
– По какому случаю?
– Да просто по тому случаю, что подлец. Это настоящая причина, а обстановку он, конечно, другую отыскал. Вот видишь ли, Александр-то Андреич хоть и умный был, а тоже простыня-человек. Всю жизнь он мучился, как бы Софья Павловна, по смерти его, на бобах не осталась – ну, и распорядился так: все имение ей в пожизненное владение отдал, а уж по ее смерти оно должно в его род поступить, то есть к Антону Антонычу. Только вот в чем беда: сам-то он законов не знал, да и с адвокатами не посоветовался. Ну, и написал он в завещании-то: «а имение мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерть ее»… Теперь Загорецкий-то и спрашивает: какой такой «мой друг Сонечка»?
– Гм… а ведь дело-то ее, пожалуй, плохо!
– То-то, что некрасиво. И ведь какие чудные эти господа филантропы! Вот хоть бы Александр Андреич – это Софья Павловна мне пишет, – и умирая, все твердил:
Будь, человек, благороден! *
Будь сострадателен, добр! —
да и ей, жене-то, не переставаючи говорил: «Верь людям, друг мой Сонечка! Человек – венец созданий божиих!» С тем и умер. А самого простого дела сделать не сумел! «Другу моему Сонечке» – на что похоже? Теперь над ней самый ледащий адвокатишко – и тот измываться будет. «Так это вы, скажет, друг мой Сонечка!.. Очень приятно с вами познакомиться, друг мой Сонечка!» Каково ей будет при всей публике эти издевки-то слушать? А ведь они, адвокаты-то, нынче за деньги какие хочешь представления дают. Читал, чай, процесс игуменьи Митрофании? *
– Читал-таки.
– Да, удивительное это дело, мой друг. Вот нас, чиновников, упрекают, что мы, по приказанию начальства, можем в исступление приходить… Нет, вот ты тут подивись! Чиновнику-то начальство приказывает – так ведь оно, мой друг, и ушибить может, коли приказания его не исполнишь! А тут баба приказывает! – баба! А как он вцепился из-за нее – кажется, железом зубов-то ему не разжать. На Синай всходил! каких-то «разбитых людей вопь» поминал! * Скажи ты мне на милость, как это в них делается, что он вдруг весь, за чужой счет, словно порох вспыхнет?
– Не знаю, право; одни говорят, что тут происходит психологический процесс, другие – что процесс физиологический.
– А я так, признаться, думаю, что они себя дома исподволь к этому подготовляют. Изнурительное что-нибудь делают. Вот я намеднись в театре господина Хлестакова видел, так он тоже разжигался: то будто он директор, то будто министр! И ведь в таком азарте по сцене ходит, что никак ты не разберешь: понимает ли он, что лжет, или взаправду чертики у него в глазах ходят! Должно быть, и тут так, в адвокатском этом ремесле!
– Да; какая-нибудь тайна тут есть…
– Знаешь ли что! я бы такую штуку сделал: я бы присяжным заседателям предоставил: о подсудимом – само собой, а об обвинителях – само собой мнение высказывать. Подсудимый, мол, виновен, а обвинителя, за публичное оскорбление подсудимого, сослать в места не столь отдаленные!
– Да, это поостепенило бы!
– Еще как бы остепенило-то! А то вот мы часто присяжных заседателей обвиняем, что они явных преступников оправдывают! А как ты его обвинишь? Иной присяжный и понимает, что подсудимый кругом виноват, да как вспомнит, как его на судоговорении-то кастили – ну и скажет себе: будет с него! – невиновен. Как ты полагаешь?
– Да, недурно бы подсудимому эту льготу предоставить!
– А покуда этого нет, я за Софью-то Павловну и опасаюсь. Думаю: выпустит плут Загорецкий на нее целую ораву оскорбителей, а они и начнут на ее счет почтеннейшую публику утешать.
– Что же вы предполагаете делать?
– Клин клином выбивать надо – адвоката ищу. Пишет ко мне Софья-то Павловна, со слезами просит: ради Христа, адвоката! Не знаете ли кого?
– Есть-то есть один, да чудак он…
– А как, например?
– Да так вот: придет к нему клиент – он его выслушать выслушает, а потом сейчас за звонок: «гони его в шею!»
– Ну нет, нам таких не надо! Нам дошлого нужно! Дошлых у тебя нет?
– Нет; я ведь, Алексей Степаныч, боюсь!
– Денег, верно, накопил; боишься, чтоб не отняли?
– Нет, не то, а вообще к гражданскому судопроизводству вкуса не имею. А ведь и я смолоду баловался, даже диссертацию написал «О правах седьмой воды на киселе в порядке наследования по закону». Да забраковали – с тех пор я и баста. Да у вас у самих-то неужто нет знакомого из адвокатов?
– Как не быть – целых двое. Только люди-то… У одного я даже сегодня был: в десять часов утра к нему забрался, а его уж и след простыл! Ну, оставил записку, просил откушать приехать, жду вот… Да нет, не надеюсь я на него!
– Кто он таков?
– Балалайкин, а по имени и по отчеству как звать – не умею сказать. И на дверях у него просто написано: Балалайкин, адвокат * . Ведь он Репетилова сын побочный; помнишь, Стешка-цыганка была – так от нее… Да не пойму я его: не то он выжига, не то пустослов!
– А может быть, и то и другое вместе?
– Нет, скорее, думаю, пустослов, потому отец его все на водевильных куплетах воспитывал. Ну, и цыганская кровь эта… хвастуны ведь они, цыгане эти! А другой адвокат – Подковырник-Клещ, Иван Павлыч, Павла Иваныча Чичикова сын.
– Побочный тоже?
– Да. Помнишь, Чичиков у Коробочки-то ночевал? Ну вот, после того она и поприпухла… А впрочем, я этого Клеща и сам боюсь. Отец – пройдоха, мать дотошница; какому уж тут плоду быть!
– Да, и по моему мнению, лучше уж Балалайкина попробовать!
– Я так и решил. А если уж на этом основаться нельзя, пойду по Надеждинской * либо по переулкам, стану на окна поглядывать, не заманивает ли кто. Однако четвертого половина, а Балалайкина нет как нет. Чуяло мое сердце, что заставит он меня лишний час прождать! Что делать – надо для Софьи Павловны потерпеть! Сегодня и обед, ради него, особенный приготовил, и за вином сам к Елисееву ходил, клубничный пирог у Лабутина купил… * Ведь он, пожалуй, простых кушаньев-то есть не станет!
– Разве он у вас прежде не бывал?
– Нет, бывал, да все по большим праздникам. Забежит, поцелует у Анфисы Ивановны руку – и был таков. А однажды, сударь, он меня на обед к себе зазвал, так вот, доложу вам, чудес-то я насмотрелся! В марте месяце – клянусь честью! – земляники фунтов пять скормил! Груши – по кулаку! Спаржа – наипристойнейшая! Вина! сигары! ликеры!
– Верно, большое общество было?
– Нет; я да еще двое шематонов * каких-то. Наелся я, мой друг, да и наслушался же! Такие разговоры тут происходили, что, кажется, лучше бы я в сортире все время просидел! Все про конкурсы, да про дутые векселя, да про дисконты… * А потом пошли про камелий… Один говорит: я двадцать пять тысяч на нее просадил, зато знаю, что она мне верна! А другой говорит: а хочешь, говорит, я тебе скажу, где у нее родимое пятнышко есть? Чувствую я, знаешь, что они врут, а остановить или уличить не могу – потому не знаю. Шестьдесят пять лет мне стукнуло, а я между ними, между молокососами, ровно младенец сижу! Однако я легонько-таки пригрозил им тут: быть, говорю, вам, господа, в местах не столь отдаленных!
– А они что?
– Смеются. Да скажи ты мне, пожалуйста, неужто и взаправду такие девушки есть, на которых в один месяц двадцать пять тысяч ухлопать можно?
– Говорят, будто есть. В театре однажды даже показывали мне.
– Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивал, только он, вместо ответа: «охота, говорит, вам, папенька, к шалопаям на обеды ездить!»
Алексей Степаныч взглянул на часы: сорок минут четвертого.
– Наверное еще с полчаса проморит! – пробрюзжал он. – Да и мои куда-то запропастились: верно, в саду аппетит нагуливают перед хорошим обедом. Да, мой друг! не роскошно я устроился, а ничего – жить можно. А главное – садик есть… Немудрящий, а для детей – полезная штука. Летом у нас здесь смехи да крики – соседям, может быть, и скучно покажется, а родительскому-то сердцу как ведь приятно! Своих у меня шестеро, да товарищей приведут – и пустятся взапуски! Сидишь, что, в сторонке, чтоб им не помешать, и думаешь: и с чего только господин Катков тревогу поднял? Молодежь как молодежь! Ну точно, есть в них… есть этот душок… вот хоть бы насчет прародителей-то наших… Так ведь не всяко же лыко в строку!
– Ну, бог милостив!
– Знаю, что велика божья милость, а все-таки не раз и не два подумаешь! Ну, как он, Павел-то Алексеич мой, что ни на есть сболтнет? Ну, как да у меня его за это отнимут? Неужто ж и плакать-то мне об нем нельзя?
Алексей Степаныч вдруг как-то съежился и отвернулся к окну. Через минуту он, однако ж, вновь овладел собой.
– Впрочем, утро вечера мудренее, – сказал он голосом, еще не утихшим от волнения, – еще накличешь, пожалуй! Лучше пойдем-ка, я тебе, в ожидании Балалайкина, логово свое покажу, а потом и в сад зайдем, жене представлю. Только ты смотри: насчет Фамусовых будь осторожен. Жена-то у меня Анфисы Ниловны Хлестовой воспитанница была – в честь ее и Анфисочкой названа, – так и до сих пор за Фамусовых горой стоит. Обидела ее старуха Хлестова: обещала пять тысяч на приданое, а отъехала на двух. Однако жена зла на ней не помнит!
Мы прошлись по всем комнатам: везде было опрятно, светло, хотя несколько голо. Старинная, прочная, но не совсем удобная мебель расставлена была в симметрическом порядке и ровно в таком количестве, чтоб комнаты не казались пустыми. Полы – крашеные, с узенькой полоской дешевенького ковра вдоль всех комнат; на окнах – простые белые сторы и никакого признака драпри или портьер. Из всей анфилады так называемых парадных комнат только в кабинете Алексея Степаныча замечалось некоторое поползновение к баловству, выразившееся в виде мягкого дивана и двух таких же кресел. Главное удобство квартиры заключалось, по-видимому, в том, что у каждого члена семьи был свой угол, чему много способствовал мезонин, в котором было три комнаты. Наконец мы вошли в узенькую комнату, из которой створчатая стеклянная дверь вела в садик.
– А вот и наши! – сказал Алексей Степаныч, указывая на отворенную дверь, – в этой комнате мы обедаем запросто, а летом, в хорошую погоду, и в садик трапезовать переходим. Да милости просим! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?
Мы сошли несколько ступенек и очутились в крошечном огороженном пространстве, не больше двадцати пяти – тридцати квадратных сажен. Две клумбы, засаженные георгинами, резедой и душистым горошком, большой куст сирени и пять-шесть тополей, ютившихся около забора, – вот все, что давало этому пространству право на наименование сада. Сентябрьская свежесть воздуха давала себя чувствовать здесь довольно сильно, потому что садик был совершенно затенен домом, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не проникали. Но молчалинская молодежь, по-видимому, была совершенно довольна, сознавая себя на вольном воздухе, среди живой, хотя и тощей, растительности. Кроме детей Алексея Степаныча, тут было еще двое товарищей их: один – студент-медик, другой – гимназист. Лица молодежи не отличались ни красивостью, ни здоровьем, но не были лишены той симпатичности, которую придает лицу присутствие мысли. На противоположной стороне садика, там, где кончалась тень, бросаемая домом, и где там и сям по деревянному забору прорывались полосами робкие, словно колеблющиеся лучи солнца, сидела на зеленой скамейке Анфиса Ивановна, закутанная в старинную приданую шаль.
Последовало обычное представление.
Насколько Алексей Степаныч был сановит и внушителен, настолько же скромно и просто выглядела Анфиса Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесятилетняя женщина с кротко светящимися голубыми глазками, с румяными щеками и с бесконечно добродушным выражением в лице. Из-под приданой шали виднелась светло-лиловая тафтяная блуза с полосками, вероятно, подарок Алексея Степаныча в момент рождения его первенца; на голове был старинный чепец, из-под которого выбивались на лоб две серебряные букольки. Она смотрела мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсем прижилась к этому месту и вполне удовлетворилась теми радостями, которые обрела тут. Иногда мне чудилось, как будто на лице ее нет-нет да и промелькнет: «Вот у Хлестовой, в пронском имении… ах, какой был парк!» – но ежели эта мысль и появлялась, то она мгновенно и исчезала, чтоб вновь сосредоточиться на скромной действительности, которая всецело поглощала ее сердце. Она смотрела на детей, но не вмешивалась ни в разговоры, ни в игры их, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видят появление посторонних лиц в их семье, но они понимают, что ни любимый муж, ни любимые дети не могут довольствоваться замкнутою жизнью, что для них необходимы связи с внешним миром, в виде друзей, нужных людей и даже посторонних посетителей. Анфиса Ивановна никого не любила, кроме семьи, но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сглаживать существование любимых людей, и потому всегда и со всеми была приветлива. Всем одинаково она, по старинной московской привычке, подавала руку горбиком, как для поцелуя. Разумеется, я с удовольствием поспешил исполнить этот невинный обряд.
Старший сын Молчалиных, Павел (в честь Павла Афанасьевича Фамусова), был несколько бледноват и худощав. Мне показалось, что он как-то неохотно подошел к нам на голос отца, посмотрел на меня исподлобья, небрежно взял мою протянутую руку и, почти не пожав ее, сейчас же воротился к своему товарищу-студенту. Еще меньше приветливости высказала Соня (в честь Софьи Павловны Чацкой): она подбежала, сделала издали книксен и мгновенно исчезла в глубь садика, где расхаживали молодые гости ее брата.
– Неприветливы они у меня, – выразился Алексей Степаныч по поводу этого представления – бирючками смотрят. Не то что в хороших домах: придут дети, ножкой шаркнут и смотрят в глаза: не угодно ли, мол, приказать, я сейчас «Попрыгунью Стрекозу» прочту * . А впрочем, и у меня ребята добрые, только молоды очень. А в молодости, знаете, это бывает. Ни до кого человеку дела нет; самого себя ему довольно, да вот еще с товарищем он радуется, с которым у него сердце одно!
– Со всяким это, мой друг, было! – вздохнула Анфиса Ивановна, не отрывая глаз от детей.
– Знаю, что было, и не в укор это говорю. Я просто говорю: бывает это. Бывает, что молодому ни до кого и ни до чего, кроме себя и присных по духу, дела нет! Знаю тоже, что многим из стариков обидно это кажется, и за грубость почитают, что молодые люди не ищут их общества, а я говорю: никакой грубости тут нет, а просто молодое сердце играет! Не так ли, сударь?
– Конечно, так. И по моему мнению, роль стариков, в особенности же близких, именно в том и состоит, чтоб как можно осторожнее относиться к этому молодому эгоизму и не раздражать его.
– Вот это так! вот с этим я согласна! – живо отозвалась Анфиса Ивановна и так хорошо взглянула при этом на меня, что я сразу почувствовал себя в числе ее друзей.
Сильный звонок, раздавшийся в эту минуту, прервал наш разговор.
– А вот и Балалайка явилась! – воскликнул Алексей Степаныч, – ишь ведь, как нагло звонит! Ну-с, идемте обедать! Господа молодежь! обедать милости просим! – хлопнул он в ладоши.
Действительно, Балалайкин уже расхаживал по столовой в ожидании нас. Это был молодой человек среднего роста, но уже несколько тучный, с наружностью, которая могла бы быть названа приятною, если бы ее не портило томно-самодовольное выражение лица и какая-то минодирующая * женственность во всех движениях. Одет он был в легкую коричневую жакетку и в светлые панталоны; подбородок был тщательно выбрит, волосы на голове расчесаны удивительно; в одном глазу был вставлен монокль, другой – прищуривался с легким оттенком презрения; ходил он с развалкою, напевая себе под нос французский куплет и поматывая головой из стороны в сторону, как будто чего-то ища.
– А я к вам на минутку, многоуважаемый! – приветствовал он Алексея Степаныча.
– Как так! а обедать?
– Не могу, милейший! дело есть!
– Да ведь и у меня есть дело! Я, собственно, за этим и приглашал! Знаю, что вам, молодым, неинтересно со стариками.
– Не могу, мой ангел! Впрочем, если у вас есть до меня дело, то я имею перед собой…
Он вынул из кармана великолепный хронометр, неизвестно для чего заставил его прозвонить, затем открыл крышку, взглянул на циферблат и сказал:
– Да, именно; я имею перед собой четверть часа… да, так! четверть часа! На эти четверть часа я к вашим услугам!
– Ну, Христос с тобой! Коли у тебя больше четверти часа нет свободного времени, так идем в кабинет… Эй! Кто там! скажите, чтоб погодили подавать на стол! – крикнул он в переднюю.
– Но я вас не стесняю! Пожалуйста, без церемоний; мы и во время обеда переговорить можем!
– Нет, сударь. Не люблю я при праздных свидетелях есть. Все кажется, что ты на юру сидишь и что в рот тебе смотрят.
Мы перешли в кабинет.
– Вот видишь ли, господин Балалайкин, зачем я к тебе приезжал, – начал Алексей Степаныч. – Софью Павловну Чацкую помнишь?
– Да, помню.
– Так вот с ней случился пассаж…
Молчалин в кратких словах рассказал сущность дела и вопросительно взглянул на Балалайкина. Последний некоторое время молчал и напевал себе под нос.
– Вы, конечно, желаете, милейший, чтоб я этим делом занялся? – наконец произнес он.
– Ну да, сам займись или на кого-нибудь укажи!
– И вы намерены употребить на это дело…
Балалайкин остановился и томно посмотрел в глаза Молчалину. Но тот не понимал и таращил глаза.
– Я говорю о сумме вознаграждения за труд по ведению дела, – объяснил Балалайкин. – Извините, голубчик, что я так прямо… Time is money [7]7
Время – деньги.
[Закрыть], говорит хорошая пословица, а для адвоката – в особенности. Я уж сказал вам, что имею перед собой только четверть часа; следовательно…
Он снова вынул из кармана хронометр, опять позвонил и положил на ладони перед собой, очевидно намереваясь следить за ходом минутной стрелки.
– Да ты прежде обдумал бы, возможное ли это дело или невозможное!
– На этот счет я должен сказать вам следующее: в современной адвокатской практике выработалось такое убеждение, что невозможных дел не существует. Вот почему адвокаты редко останавливаются на соображениях этого рода, но прямо приступают к вопросу о вознаграждении.
– Ну, насчет вознаграждения она ничего не пишет… Полагаю, что не оставит… Поймет, чай, что с твоей стороны беспокойство было…
– Гм… да… «не оставит»! А знаете ли, мой милейший, что выражения вроде «не оставит», «беспокойство» и так далее несколько запоздали для нашего просвещенного времени? Во времена крепостного права, действительно, бывали такие ходатаи, которые «беспокоились» и относительно которых можно было без риска употребить выражение: «Ты уж побеспокойся, мой друг, а я тебя не оставлю». Но мы совсем другое дело. Мы не «беспокоимся», а ведем дело в пределах законности; нас нельзя ни «оставить», ни «не оставить», потому что закон дает нам право на вознаграждение…
– Ну, извини, мой друг! я не хотел тебя обидеть! я ведь новых ваших порядков не знаю… Так как же бы ты думал насчет вознаграждения-то!
– А как велика ценность имения?
– Да тысяч на полтораста, на двести будет!
– Положим, полтораста. В современной адвокатской практике выработалось убеждение, что норма вознаграждения за веление дела, без обременения для клиента, может быть определена в размере десяти процентов с цены иска. Следовательно, в настоящем случае надлежало бы принять цифру в пятнадцать тысяч рублей, как вполне обеспечивающую интересы обеих сторон: и доверителя, и доверенного. Но, принимая во внимание, что имение отыскивается госпожою Чацкою не в собственность, но лишь в пожизненное владение, я нахожу справедливым и возможным остановиться на следующих цифрах: в случае выигрыша – восемь тысяч, в случае проигрыша – две тысячи.
– Да ты выспался ли?
– Я не только выспался, почтеннейший Алексей Степаныч, но уже в десяти местах успел быть сегодня утром. Да-с, дело адвоката – дело не легкое-с. Надобно походить около тех двадцати пяти – тридцати тысяч, которые составляют мой годовой бюджет! Их надо достать-с.
Балалайкин произнес эти слова так убедительно и глаза его блестели при этом таким холодным блеском, что я как-то инстинктивно приложил руку к левой стороне сюртука, как бы ощупывая, тут ли мой бумажник. По-видимому, подобное же чувство испытывал и Алексей Степаныч, потому что он вдруг забегал глазами по комнате, очевидно высматривая, не лежит ли что-нибудь плохо.
– Ну, да Христос с тобой, доставай, похаживай! никто тебе не препятствует, – сказал он голосом, в котором еще слышались изумление и испуг, – а все-таки не мешало бы и об том подумать, что Софья-то Павловна ведь не чужая тебе! хоть с левой стороны…
– Эти левые и правые стороны уместны в банке и в ландскнехте * , а в гражданских делах они только запутывают… Однако позвольте! четверть часа, которую я имел к вашим услугам, уже истекла… Извините, милейший! ей-богу, ни одной минуты дольше оставаться не могу!
– Да бог с тобой! Уходи, сделай милость, если так уж тебе приспичило!
– Прекрасно-с. Но в заключение я хочу сказать еще одно слово. Шесть тысяч – в случае выигрыша, полторы – в случае проигрыша. C’est à prendre ou à laisser [8]8
Хочешь – бери, хочешь – нет.
[Закрыть].
– За что ж в случае проигрыша-то?
– За труд-с, почтеннейший Алексей Степаныч! за труд-с!
– Какой тут труд, сделай милость! Ты с утра до вечера рыскаешь да языком отбиваешь, так для тебя даже лучше, если за дело малость присядешь! Может, язык-то у тебя и поостепенится маленько!
– Это уж мое дело. Штука не в том, велик или мал мой труд, а в том, что на него существует требование. Я вчера два дела взял, сегодня утром одно наклюнулось; кроме того, у меня на руках два конкурса, да в десяти коммерческих домах я юрисконсультом состою… стало быть, мой труд ценится-с! Однако pardon [9]9
простите.
[Закрыть], я заболтался. До обеда мне еще в пяти местах побывать нужно. Ежели надумаете – пожалуйте. Каждый день утром, кроме праздников, у меня от десяти до двенадцати прием. Au revoir [10]10
До свиданья.
[Закрыть].
Он подал Молчалину руку ладонью вверх, почти неприметно кивнул мне головой и поплелся развальцем в переднюю. Алексей Степаныч последовал за ним, и я слышал, как на прощание он сказал ему:
– Говорил я тебе, Балалай Балалаевич, что быть тебе в местах не столь отдаленных… и будешь!
Я взглянул в окно: у подъезда стояла великолепная пара серых, запряженная в коляску. Балалайкин вскочил в экипаж, разлегся на подушках и помчался.
– Каков? – обратился ко мне Алексей Степаныч.
– Недурен. Но воля ваша, он на Репетилова не похож!
– А кто их знает, мой друг. Говорили, будто тут и Удушьев вкладчиком был… Ведь и в наше время бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслия! А вот ты бы на Клеща взглянул! Того я – боюсь!
– А что?
– Да то, что вот хоть бы в настоящем случае; уж он бы не уехал, как Балалайка! Он бы заставилс собой покончить!
– Как так «заставил» бы?
– Да так вот: глаза бы отвел. Тот и обедать остался бы, и у Анфисы Ивановны руку поцеловал бы, и с Павлинькой насчет «родов и видов» поговорил бы * , и Леночке табакерку с музыкой подарил бы, да и насчет вознаграждения не стал бы спорить…
– Так что ж вы! – обратитесь к нему!
– То-то и есть, что он взять-то дело возьмет, да сейчас же с ним – к Загорецкому! Тот у него Софью-то Павловну и купит!
– Ах, боже мой!
– Да, мой друг, в распутное времечко пришлось нам век доживать. Ходишь, это, по белу свету ровно оплеванный. По улице идешь – к сторонке жмешься, в общество попадешь – в уголку на стульце сядешь. И смотрят на тебя все как-то дико, словно совсем ты не туда попал, где тебе быть надлежит. А впрочем, ведь нам с тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгорит, коли дольше болтать будем. Обедать! – крикнул он в дверь.
Через пять минут мы уже сидели за обедом. За едой дурное впечатление, произведенное Балалайкиным, изгладилось совершенно. За столом было шумно, свободно и весело. Алексей Степаныч ел очень исправно, что не мешало ему, однако, и беседу вести; дети тоже кушали с большим аппетитом, но при этом ни одной минуты не сидели смирно: шептались друг с другом, делали друг другу таинственные знаки и громко-громко смеялись. Разговор сначала вертелся около хозяйственных вопросов, а потом мало-помалу перешел и на почву современности.
– А помните, Алексей Степаныч, вы обещались вразумить меня насчет современного направления? – напомнил я.
– Вразумить – отчего не вразумить! Только я, признаться, и сам в нынешних делах мало понимаю!
– Что ж так?
– Да так уж… Ведь ты писатель?
– Гм… что это вам вздумалось напомнить?
– А отчего бы и не напомнить! Стыда тут нет. В наше время в писателях-то даже славу отечества видели… Помнишь Грибоедова, Александра Сергеича, – ведь тоже писатель был! Конечно, не всякому Грибоедовым быть, а все-таки… Впрочем, я не к тому веду речь, чтоб тебе о твоем писательстве напомнить, а вот к чему: знаешь ты, что такое «период»?
– Конечно, знаю.
– Ну, так вот я тебе что скажу. Коли затеял ты период написать, то, конечно, так уж и пригоняешь, чтоб его как следует в конце закруглить. Начнешь, например, с «так как» – дальше у тебя непременно будет «то»; начнешь с «хотя» – дальше будет «но». Так ли, сударь?
– Кажется, что так…
– Ну, вот видишь ли! А в современном-то нынешнем направлении вот этого именно и нет. «Так как» и «хотя» – в полной силе состоят, а «то» и «но» – в умалении, а не то так и совсем в отсутствии!
Определение это, на первый взгляд, показалось мне настолько остроумным, что я и сам поддался ему. А ведь и в самом деле, и «то» и «но» в умалении! невольно подумалось мне. Однако, вникнув в дело ближе, я нашел, что в мнении Алексея Степаныча кроется известная доля односторонности, которую я и решился исправить.








