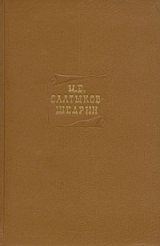
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 56 страниц)
Но что делает эту старость еще более мучительною – это то, что, при всей своей немощи, я все-таки «желаю». Да, экскурсии в область униженных и оскорбленных не прошли для меня даром. Они населили мое существо известными вкусами и предрасположениями, которые даже на бессилие мое наложили своеобразную печать. Сколько раз жизнь пыталась растоптать эти предрасположения, а я все-таки возвращался к ним. И я не только не сожалею об этих возвратах, но даже горжусь ими. Горжусь!! после всего, что только что сейчас вылилось из-под моего пера, – не правда ли, как странно звучит это слово? Но в том-то и дело, что прошлое, составленное из обрывков, и в результате дает только обрывки. Сейчас – горжусь, и сейчас – презираю. По наружности, жить таким образом (то есть без усилий переходя от самовозвеличения к самобичеванию) кажется очень легко, но вглядитесь попристальнее: право, ведь это целая мученическая эпопея!
Иногда мне даже думается, что если бы я переделал свой жизненный девиз наоборот и вместо: «хочу, но не могу», написал на своем знамени: «могу, но не хочу», – мне жилось бы лучше. По крайней мере, тогда я был бы уже совсем скотиною. Не думал бы ни о прошедшем, ни о настоящем, ни о будущем, а производил бы нужные физические отправления и съедал бы свою порцию печатных пряников. Но в том-то и дело, что, когда увлеченное воображение начинает живописать целый ряд свойственных «совсем скотине» наслаждений, – вдруг изнутри словно толкнет что: да разве это бог весть какое счастие – быть «совсем скотиною»? И вслед за тем опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-помалу, разрастаясь и разрастаясь, переходят наконец в негодование. А негодование – само по себе целый клад. Оно поднимает нравственный и духовный уровень человека; оно утешает, очищает его в собственных глазах. Я чувствую себя просветленным; я негодую на самого себя, что мог хотя минуту увлечься мечтами о счастии быть совсем скотиною; я берегу и лелею святое волнение, охватившее меня… и опять-таки горжусь! Горжусь – чем? тем, что негодую один на один с самим собою, среди четырех стен, которые даже сфискалить на меня не могут! Ужели есть пытка более невыносимая и унизительная, нежели эта?
Да, тут несомненно собрана целая коллекция пыток, достойно увенчивающаяся последнею: одиночеством. Несмотря на болтливо проведенную молодость, несмотря на то, что в основе этой молодости все-таки лежал призыв к общению, к любви, в результате ее все-таки оказалось одиночество полное, несомненное. Пустыня, на поверхности которой мелькают два-три родственные и столь же одинокие индивидуума, и в центре – пустыни – бесприютное, оголтелое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену экскурсий, нас было видимо-невидимо. И все мы были полны надежд, все представляли единое стадо и единую неразрывную цепь, все одинаково пламенели и одинаково верили, что и там, «у пристани», наша цепь окажется такою же плотною и неразрывною, какою мы видели ее при отправлении. Все, все множество наше, все вдохновенно клялись, что ни время, ни испытания, ничто… А в конце пути, вместо «пристани», оказалась – пустыня!
В растительном царстве встречается нечто подобное. Посмотрите на дерево весною – какая на нем могучая, чистая, незапятнанная листва! И какое множество этих листьев, как они теснятся друг к другу, точно хотят из своей совокупности сделать непроницаемый оплот. Летом листья уже потемнели, перепутались и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрепляющая их к ветке, постепенно подсыхает, и в воздухе носятся оторванные ветром дезертиры, сначала редкие, а потом все чаще и чаще. Наступает осень; дезертиры уж не кружатся в воздухе, а просто сыплются дождем на увлажненную землю; таинственный шепот листьев умолкает, и воздух наполняется зловещим свищущим шумом, производимым хлестанием оголенных ветвей. Перед глазами не дерево, а безжизненный и насквозь светящийся остов его. И вдруг, среди наготы и опустошения, вы замечаете два-три засохшие листка. Они случайно защемились между ветками, но издали кажется, что в них удержалась какая-то загадочная сила, которая не дает над ними власти ни ветрам, ни непогодам. Тем не менее существование их – безнадежное. Жалобно жмутся эти остатки роскошной весны к родному дереву и не переставая трясутся, точно чувствуют, что вот-вот налетит шквал и погонит их… И хотя случается, что такие забытые листья переживают всю зиму, но никогда не бывало, чтобы листва новой весны не вытеснила их.
То же было и с нами. Весной мы вышли, и нас было много; но весна была недолгая, а лето промчалось уже до того быстро, что настоящего солнца мы даже не видели. Осень наступила разом, и так как по бокам дороги, на которую нас поставила судьба, на каждом шагу встречались всякого рода увеселительные заведения, то большинство соблазнилось и застряло там. К зиме нас осталось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали, однако ж, неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество не подкосило наших ног, но в результате, вместо желанной пристани, очутились перед пустым пространством. Вот в нем-то мы и дрожим и стонем, как те засохшие листья, случайно ущемленные между сплетшимися ветвями. Унесет ли нас шквал или пощадит? Ежели унесет, то нас смоет весенней водой вместе с прочею ветошью; ежели пощадит, то мы так и будем дрожать всю зиму, а весной на том месте, где мы дрожим, пробьется новая почка и вытеснит нас совсем неизвестно куда…
Отыщите дилемму более горькую: в обоих случаях – исчезнуть! * Право, только у нас, только среди нашего оголтелого общества, могут происходить подобные загадочные исчезновения.
Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы целью наших жизненных перегринаций * были не праздные экскурсии, а конкретное дело. Дело, уже само по себе (в какой хотите форме, даже в форме хищничества), непременно оставляет след, но, сверх того, оно дает деятелю силу и снабжает его средствами обороны. Даже таких несомненных поганцев, как современные подрядчики и паразиты войны, и тех не так-то легко погрузить в пучину забвения. И они не исчезнут без борьбы (если только исчезнут) и уж во всяком случае оставят по себе след в разнообразнейших формах обездоления, тяжесть которых долго будет давать себя чувствовать героям ревизских сказок и окладных листов * .
Как бы то ни было, но мы, не соблазнившиеся попутными увеселительными заведениями, все еще крепимся и живем. Нас немного, но узы, соединяющие нас, с годами как будто даже окрепли. Во внешних жизненных сношениях мы исключительно довольствуемся ветшающим, но избранным кружком нашей уцелевшей семьи и почти никого из посторонних не видим. Внутренне мы также остались неприкосновенными: по-прежнему увлекающиеся, восприимчивые, одаренные богатыми художественными инстинктами и по-прежнему же робкие и стыдливые. И те же экскурсии в область униженных и оскорбленных продолжают преследовать нас.
Но увы! отсутствие разнообразия уже заметно подтачивает нас. Нельзя жить, не выходя из очарованного круга трех-четырех личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержания, не имея иных исходных пунктов, кроме тех, от которых мы уже пришли прямехонько к пустому пространству. И вот, в результате – бешеная скука, почти отчаяние. Ибо хотя мы и не расстаемся друг с другом, хотя мы непрерывно беседуем, обмениваемся мыслями, критикуем и даже негодуем, но я убежден, что не только я лично, но и каждый из нас очень хорошо понимает, что он беседует, обменивается мыслями, критикует и негодует, в сущности, один на один с самим собою, в четырех стенах * . Да и это, пожалуй, еще слишком много: не сознает ли каждый из нас, что он, в сущности, уже давно умер и только забыли его похоронить?
По привычке мы сходимся и по привычке же заводим обмен мыслей. Но самое собеседование наше имеет какой-то подневольный характер, как будто собеседники предприняли его только для того, чтобы мистифицировать друг друга. Не было настоящего дела – нет и настоящих воспоминаний, нет настоящего сюжета для обмена мыслей. Предмет спора не формулируется, а как-то подозревается; на каждом шагу чуется множество невымолвленных слов, недосказанных речей. Очевидно, что разговаривающие смотрят в одну и ту же точку, одну и ту же мысль в голове держат, что им даже сообщать друг другу нечего, но зачем-то понадобилось тянуть праздную канитель, щеголять друг перед другом диалектическими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тридцатилетнюю давность, и проч.
Об чем мы разговариваем? – да обо всем. О пользе стыда, о том, что мы ничего не знаем, ничего не можем, о том, что жить опасно, а пожалуй, и довольно – это ли не безгранично растяжимые темы?
Один говорит:
– Существовать и постыдно, и незачем. Ни в лагере торжествующих, ни в лагере толкущихся – мы одинаково не у места. Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться в строгом смысле слова, а только жалкие слова говорить. Но ведь это наконец и постыдно, и надоело. Ясно, что выход для нас предстоит один: уйти.
Другой возражает:
– Нет, это неясно. Мы уже по тому одному имеем право не исчезать, что в нас воплощается традиция сочувственного отношения к развивающимся запросам жизни. Мы выработали привычку опрятности и благодушия, а среди общего направления умов в сторону травли это качество – далеко не лишнее.
Но третий опять становится на точку зрения безнадежности и развивает такую мысль:
– И все-таки, как ни кинь – везде будет клин. К кому бы мы ни обратились – одни нам скажут: уйдите! вы своим унылым видом только в смущение приводите! Другие: эге! да вы, никак, сочувственные слезы проливать собрались! умирать надо – вот что! *
И так далее.
На разговорах этих мы зубы съели. Каждый день мы их начинаем и, по-видимому, даже кончаем; каждый день, по наружности, разнообразим их подкладку задачами самой животрепещущей современности и в то же время внутренно сознаемся, что новы тут только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и дотла выветрившаяся ветошь.
Понятно, что подобные разговоры ни к чему не приводят, ни с чем не примиряют, а только достаточно раздражают…
Под веселую руку мы называем эти беседы «дворянскими мелодиями». А друг мой Глумов при сем присовокупляет:
– И что в особенности дорого в этих мелодиях, и почему самое начальство всегда смотрело на них снисходительно, это то, что в них, в одно и то же время, слышится и несомненный гуманизм (начало неблагонамеренное), и несомненное молчалинство (начало во всех статьях благонамеренное). Как будто был такой момент, когда древняя Лаиса * почувствовала себя до того уже слабою, что даже Алексея Степаныча удостоила ласкою.
Я знаю, что самое выражение: «дворянские мелодии» – в настоящее время анахронизм; но что оно вполне подтверждается свидетельством недавнего прошлого – в этом сомневаться нельзя. Сверх того, для меня лично это выражение имеет еще особую цену. С ним неразрывно связаны мои лучшие воспоминания, и им же исчерпывается ежели не вся моя жизнь, то, во всяком случае, ее деятельнейшая пора.
Хотя мелодии эти зародились очень давно, в самом начале сороковых годов, но память о них до сих пор так жива и так полна, что мне чудится, что они раздались только вчера. Это было время, когда крепостное право царствовало в полном разгаре, обеспечивая существование избранных и доставляя все удобства для украшения их досугов. И между тем – странная вещь! – молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обеспеченные, не без пользы для ума и сердца исколесившие всю Европу, они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищем общих симпатий к угнетенным и обделенным, которыми обуревались тогда лучшие умы Запада, и в особенности Франции * , этого неугасающего очага, на котором преимущественно загораются все зачатки, подвигающие человечество вперед. И в этом-то умиленном виде возвращались домой к своим домашним пенатам.
Но тогдашние пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво охраняли крепостное логовище * от какого бы то ни было «разврата», кроме строго плотского, и беспощадно отметали дерзновенного, который мечтал внести двоегласие в действия бесчисленных Прошек и Палашек, наполнявших своею безгласною суетливостью всероссийскую пустыню от хладных финских скал до пламенной Колхиды * . Нельзя сказать, чтоб в то время было строже насчет «разврата», нежели теперь (с точки зрения начальственных воздействий), но самые свойства пенатов были таковы, что мысль о «разврате» просто не шла в голову. Здание стояло так прочно, и с солидностью его сопрягалось столь многое (и слава, и страх врагам, и процветание), что самый решительный поборник «разврата», и тот смирялся под подавляющим игом своеобразной крепостной гармонии, которая со всех сторон охватывала его. И ум, и чувство, которые даже иностранцев, во время заграничных перегринаций, поражали чуткостью и подвижностью, разом утрачивали всю восприимчивость и цепкость при виде девиза, нигде прямо не написанного, но несомненно и подлинно горевшего на всех лбах: здесь, в этом солидном здании, никакие попытки разврата успеха иметь не могут!
А между тем сердца молодых дворян уже растворились и, следовательно, требовали пищи. Этой пищи не могла им дать ни плотная масса Прошек, потому что к ней даже подступиться было нельзя, ни несложные утехи стариков-отцов, потому что они были чересчур уже грубы, ни литература того времени, потому что воркование школы Карамзина и Жуковского казалось уже смешным, а более современный байронизм поражал своей беспричинностью и неприложимостью к крепостной среде. Почувствовалась потребность в пище более пряного свойства, в такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы с крепостною действительностью и в то же время не слишком компрометировала бы тот общедворянский жизненный склад, отказаться от которого совсем и не предполагалось. Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялись в этом смысле пищею почти идеальной. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда – дворянские мелодии.
Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного объекта. И, как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе, – неуловимость. Можно заслушаться их, можно вздохнуть под их переливы, но сжать и формулировать точный их смысл – невозможно.
Мелодии эти раздаются и поныне, хотя с каждым днем все реже и реже. Правда, что в большинстве случаев дворянские мелодии довольно свободно превратились в дворянские же рычания, но все-таки существуют рассеянные по лицу земли стыдливые единицы, которые упорствуют и доднесь. Только мне кажется, что со времени упразднения крепостного права мелодии эти сделались еще тоскливее.
Да, раздаются еще наши мелодии и даже имеют представителей в литературе. Произведения этой дворянско-литературной школы и теперь читаются охотно, потому что читатель находит в них отличный слог, искусную обстановку (в противоположность наготе современных реалистов) и даже последовательность (в сущности, эта последовательность есть плод умения целесообразно пользоваться частицами речи: между тем, так как, за всем тем и т. п.). Как бы то ни было, но ежели читатель берется за книгу, главным образом с намерением убить праздное время, и при этом исполнит еще одно условие, совершенно необходимое при чтении подобных произведений, то есть остережется от восстановления прочитанного в своей памяти, то цель его будет достигнута несомненно. И время пройдет занятно, и особенной тяжести в голове не останется.
Но благодарить ли за это?
На днях я этот самый вопрос предложил приятелю моему Глумову.
– Любезный друг! – сказал я ему, – ввиду прекрасных намерений, которыми проникнуты были дворянские мелодии, осуждать нас за них было бы, конечно, несправедливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благодарность предполагает услугу, в какой бы форме, материальной или духовной, она ни была оказана, но непременно услугу. Какую же услугу может представлять собой благородная смутность чувств, сопровождаемая сладкозвучным словесным журчанием, вся прелесть которого в том именно и заключается, что оно – журчание, не поддающееся даже законам сжимаемости? Ведь мы до того изжурчались, что вот теперь, когда со всех сторон зарождаются всякие запросы, то мы не только не можем установить связи между этими запросами и нашим прошлым, но даже едва ли в состоянии формулировать точное определение существа современных явлений!
Глумов, по обыкновению, сочувственно отнесся к моему заявлению (тем более что оно уже само по себе представляло не что иное, как продолжение тех же дворянских мелодий), но, прежде нежели ответить на мой вопрос, он как-то уныло, почти безнадежно взглянул на меня.
– Хворы мы, брат, – вот что! – наконец произнес он.
– Да и не теперь только хворы, а всегда были! – подхватил я с жаром. – Ведь, коли по совести-то говорить, помянуть нечем прошлого… Эти экскурсии в область униженных и оскорбленных – ах, я забыть об них не могу!
– А это еще лучшее, что было!
– Но ведь это разврат! это сонное любострастие – вот это что! Как вспомнишь теперь, что по временам я лишал себя настоящего обеда, питался колбасой да вареной ветчиной… ты думаешь, для чего? А для того, любезный друг, чтоб на сбереженные от обеда деньги в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ Сеня Бирюков * носил! Ах, даже кровь в голову бросится! Ведь я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видавши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал! Я стихи Лермонтова: «Как мальчик кудрявый, резва» * , на всех перекрестках, с пеною у рта, декламировал!
– И в то же время отдавал часы досуга сочувствию униженным и оскорбленным… было, брат, это! было!
– Разве это – не сонное любострастие? Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного последовательного шага, ни одного связного поступка не было – ничего, кроме нервной искренности, то есть искреннего лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видит! И странное дело! Все ведь знали и понимали, что мы лжем, лжем и лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал: молодые лгуны! подумайте, какую вы себе готовите старость!
– Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует. И дамочки тогдашние такое направление имели, что только перед лганьем и полагали оружие. Ручательство страстности и пылкость в лганье видели.
– И вот теперь мы старики – и никому до нас дела нет. Даже самим себе… да, и самим себе мы опостылели и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своим углам!
Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:
– За что!
– А вот за то за самое, в чем ты сейчас сам себя уличал! за лганье! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг – за что!
– Да, но ведь все-таки… Не все же умерло… например, хоть бы во мне! ведь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека, – все это уж давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь…
На этом слове я осекся и покраснел.
– Что же «теперь»? – спросил меня Глумов угрюмо.
– Зла я не делаю! зла!
– Христос с тобой! на что делать зло?
– Да, но ведь и это… Нельзя же не принять в расчет… Потому что, в противном случае, при чем же мы состоим? И что же, наконец, нам делать?!
– Жить – вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя – ну и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Не пиши преднамеренных романов с переодеваниями, но и от гимнов воздержись, потому что в самые гимны твои, помимо твоей воли, непременно проникнет водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в своих четырех стенах, благо ты уж обжился в них, и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования и, буде чего не поймешь в них, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!
В сущности, в виду такого решения вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живем. Я думаю, что нас спасает в этом случае та общая смутность представлений, которая необыкновенно облегчает самые внезапные переходы от одного тезиса к другому, совершенно противоположному. Противоречия останавливают нас только в таком случае, когда они уже чересчур явно заходят в область представлений, прямо оскорбляющих нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, как скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная с мыслью, стоявшею на очереди за минуту перед тем) настраивает нас на тон великодушия, негодования и других праздничных чувств. Так, например, кончить вчерашний день самобичеванием, а завтрашний день начать с самооправдания, близкого к самохвальству, не представляет для нас никакой трудности. Ибо и самобичевание, и самооправдание равно допускают участие великодушия, негодования и проч. и одинаково представляют лишь результат нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что под ее давлением самый контроль разума обращается в ничто. Повторяю: только наличность конкретного дела или, по малой мере, ясное об нем представление могли бы оградить нас от нервной распущенности и сопровождающих ее противоречий, но именно этих-то отрезвляющих условий мы и были всегда лишены.
Согласившись со мной накануне, что наша деятельность (если не рискованно употребить в настоящем случае это выражение) всегда страдала двоегласием и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нет никакого основания, Глумов очень недолго остался при своем показании и на другой день уже развивал передо мною мысль, что благодарить – следует.
– Нас следует благодарить уж за то одно, – говорил он, – что одним из главных результатов нашего существования был стыд. Почему современное хищническое ликование до того оскорбляет, например, хоть тебя, что тебе сдается, будто ты вращаешься среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости? – потому что ты смолоду воспитал в себе стыд! Почему сознание твоего бессилия в виду этой атмосферы не побуждает тебя покоряться ей, но загоняет в тесное пространство четырех стен и наполняет твое сердце горечью? – опять-таки потому, что в тебе есть стыд! Не будь стыда, ты нюхал бы миазмы современности и говорил бы, что пахнет розами. Не будь стыда, ты даже бессилием своим воспользовался бы только для того, чтоб подписать удовольствие приговору современности. Ты сказал бы себе: я до того затерян в безыменной толпе, что всякая возможность заявить о своей личности, об ее симпатиях и антипатиях, для меня бесповоротно утрачена, а потому буду жить смирно и в мире с самим собой и окружающей средой, довольствоваться званием скотины, которое одно для меня доступно. И так как скотина ни о каких заявлениях помышлять не должна…
– Послушай, однако! – остановил я Глумова, – да сам-то ты воистину ли убежден, что в наших «заявлениях» чувствуется надобность? *
– Все-таки, друг мой. Положим, что и не бог весть какие заявления мы с тобой сделать можем, но и за всем тем потребность в их формулировании не только не претенциозна, но и вполне естественна. Ты находишь, что наши заявления ничего существенного дать не могут – прекрасно! но тем стыднее, что даже это несущественное находится под замко̀м. Вот мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то поистине неистовое положение, в которое мы фаталистически поставлены.
– И благодаря которому мы, не имеющие сказать ничего существенного, в общественном мнении считаемся чуть не опаснее бешеных собак. Но ведь это – целая роль, голубчик! ею кичиться можно, а не стыдиться ее.
– Да, бывают и у нас минуты духовного распутства, когда мы кичимся ролью бешеных собак. Мы легкомысленны и тщеславны – это правда; но, к счастию, распутство проявляется в нас только вспышками, а главным жизненным регулятором все-таки остается стыд. Мы ничего не можем! ничего не знаем! – вот восклицания, которые не сходят у нас с языка; восклицания сами по себе не важны, но важно в них то, что они не дозволяют краске стыда сойти с наших лиц. Не за себя одних стыдимся мы, но и за других – за всех. Вот в этом-то смысле я и утверждаю, что стыд – хорошее и здоровое чувство.
– Особенно когда люди стыдятся в четырех стенах… ах, мой друг, ведь мы и стыдимся-то как-то своеобразно!..
– Втихомолку, в четырех стенах – это верно. Но и четыре стены, в которых притаился подлинный стыд, могут иметь свое значение в общем развитии жизненного строя. Когда в громадном доме, сплошь горящем огнями, ты замечаешь три-четыре окна, окутанные сумраком, – это на первый раз поражает тебя только в качестве антитеза. Но когда ты, несколько дней сряду проходя мимо здания, убеждаешься, что эти три черные окна – явление не случайное, а повторяющееся изо дня в день, то оно уже заинтересовывает тебя.
– Но, может быть, эти окна принадлежат кладовой, в которую складывается ненужный хлам?
– Может быть, это и обыкновенная кладовая, а может быть, и другое вместилище, в котором материала для стыда конца-краю нет. Впрочем, я воспользовался этим уподоблением только для того, чтоб показать, каким путем люди могут заинтересовываться явлениями, по-видимому совсем не бросающимися в глаза. Пожалуй, возьмем и другой пример. Ты выходишь на улицу и в толпе людей, выпячивающих грудь и нахально несущих медный лоб, видишь человека, который не идет рядом со всеми по тротуару, а жмется к стене. Ты вглядываешься в этого человека и по наружному обзору убеждаешься, что он – не калека и не кретин, и что, следовательно, существенных внешних причин, которые заставляли бы жаться к стороне, для него не существует. И не испуг написан на его лице, а только чувство неизреченной брезгливости. Натурально, этот человек начинает интересовать тебя: ты хочешь узнать, почему у этого человека не медный лоб, как у большинства идущих по тротуару, и даже не полумедный, как у меньшинства… И узнаешь. Так точно и со стыдом, хотя бы он и скрывался в четырех стенах. Стыд, это – начало очень тонкое, друг мой; он и в самых плотных стенах найдет швы, сквозь которые пробьется наружу.
– Стало быть, по-твоему, мы в некотором роде стыдоучители? – пошутил я; но Глумов не слышал моей шутки и продолжал:
– Стыд животворит. Бессильному он помогает нести бремя жизни, сильному внушает мысль о подвиге. Но, сверх того, он и прилипчив. Хотя ты, бессильный, стыдишься только в четырех стенах, но и это келейное стыдение не пройдет без следа, ибо непременно отыщется другой, более сильный, который, заинтересовавшись тобой, пойдет дальше. Есть тут преемственность, есть. И, по-моему, всякие опасения насчет бесплодности стыда не только ошибочны сами по себе, но и могут ввести в заблуждение честных людей. А потому: стыдись, мой друг, и не опасайся быть в тягость ни себе, ни другим! Верь, что твой стыд зачтется тебе и за клетчатые штаны, для приобретения которых ты лишал свой организм правильного питания, и за прокламации, в форме стихотворения: Как мальчик кудрявый, резва! Не только не бесполезно, но даже положительно необходимо, чтоб сколь возможно большее количество людей почувствовало стыд. Чтоб люди стыдились не только неудач, но и удач, чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи – две. Потому что только тогда определится вполне ясно, что нравственный уровень общества настолько распутен, что пощечина сделалась единственно возможным мерилом для оценки поступков и действий. И только тогда получится непременная решимость во что бы то ни стало уйти. Так-то, душа моя!
Глумов, очевидно, был доволен, что высказался. Он протянул мне руку и даже обнял меня. В этом виде, то есть обнявшись, мы сделали несколько туров взад и вперед по кабинету. «Еще одна дворянская мелодия канула в вечность!» – мелькнуло у меня в голове, но я воздержался высказать эту мысль, потому что Глумов на этот раз наверное огорчился бы ею * .
– Я знаю, голубчик, – начал опять Глумов, после непродолжительного молчания, – что в стыде нашем нет ничего героического, но настаиваю на том, что один вид стыдящегося человека, среди проявлений бесстыжества, уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы – и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из массы бездельников и глупцов. Поэтому они так и стараются загнать его в темный угол, откуда совсем бы его не было видно. А сколько субъектов не вполне закоснелых, сколько таких, которые заразились бесстыжеством или по малодушию, или по недоразумению! Все это люди колеблющиеся, в которых напоминание о стыде может пробудить не только опасение возмездия, но и действительные мерцания совести. И я убежден, что как ни робки эти позывы к стыду, но и они не останутся бесследными. Вот во имя чего стыд должен быть зачтен даже такому существованию, которого кондуитный итог формулируется словами: ни зла, ни добра!
На этот раз Глумов умолк окончательно. Мелодия была закруглена, закончена и, словно гармонический аккорд, замерла в четырех стенах моей квартиры…
Нет, она не вполне замерла, потому что на другой день Глумов опять посетил меня и возобновил беседу на ту же тему.
– И не за одно стыдение должно благодарить нас потомство, – говорил он, – но и за то, что мы пустили в ход мысль о безнадежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить страшно, а пожалуй, и довольно. Все наше существование представляло собой непрерывную цепь тревог, страхов и трепетов, не особенно лестных для самолюбия, но замечательных в том отношении, что на последнем звене этой цепи совершенно явственно можно было прочитать слово: безнадежность. И при этом мы так неотступно и так искренно вопияли: нельзя жить, нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть! что только глухой или преднамеренно закоснелый мог не слышать этих воплей. Теперь представь же себе такую картину: какое множество на свете существует людей, которые, ничего в себе не заключая, кроме праха, все-таки карабкаются и хватаются цепкими руками за колеблющиеся нити срамного существования – и вдруг рядом с ними выделяется небольшая кучка иных людей, в которых это жадное ловление жизненных нитей производит только отвращение, которые прямо провозглашают: жить довольно! Ужели это зрелище не достаточно поразительно, чтоб заинтересовать многих и многих?








