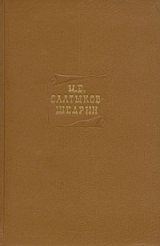
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 56 страниц)
Культурные люди *
I. Культурная тоска
Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституций, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. * Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове; ободрать, да и в сторону. Да по-нынешнему, так, чтоб ни истцов, ни ответчиков – ничего. Так, мол, само собою случилось, – поди доискивайся! А потом, зарекомендовавши себя благонамеренным, можно и об конституциях на досуге помечтать.
Будет ли при конституциях казначей? – вот в чем вопрос. И вопрос очень существенный, ежели принять в соображение, что жизненные припасы с каждым годом делаются дороже и дороже, а потребности, благодаря развитию культурности, увеличиваются не по дням, а по часам. Черта ли и в конституциях, ежели при них должности казначея не полагается! Ободрать… вот это – бесподобно! Вот при «Уложении о наказаниях» нет казначея * – поэтому оно ни для кого и не лестно. Но, может быть, поэтому-то именно оно и дано нам.
Я человек культурный, потому что служил в кавалерии. И еще потому, что в настоящее время заказываю платья у Шармера. И еще потому, что по субботам обедаю в Английском клубе. Приду в пять часов, проберусь в уголок на свое место и ем, покуда не запыха̀юсь. Прежде, бывало, я разговаривал, а нынче – только ем.
Нынче в Английском клубе * чиновники преобладают. Длинные, сухие, прожженные. Шепчутся друг с другом, судьбы, по секрету, решают, а на лбу между тем написано: чего изволите? Не раз случалось заговаривать: а принеси-ка, любезный… Посмотришь – ан у него звезда сбоку пришпилена. Настоящих культурных людей, утробистых, совсем мало стало, * да и те, которые остались, вконец развратились. Едят рассеянно, за чиновниками глазами беспокойно следят, словно думают: что̀-то они с нами сделают? И глаза какие-то подлые, ласковые у всех делаются, когда с ними какой-нибудь чиновный изверг невзначай заговорит…
Говорят, будто утробистые люди частью в Москву перебрались, частью у себя, по своим губернским клубам, засели. Там будто бы они не только едят и пьют, но и разговаривают. Только об губернаторах говорить не смеют, потому что губернаторы строго за этим следят. А о прочих предметах, как-то: об икре, о севрюжине и даже о Наполеоне III – говори сколько угодно. Говорят, был даже такой случай: один утробистый взял да вдруг ни с того ни с сего и ляпнул: конституций, говорит, желаю! Туда, сюда – к счастью, губернатор знал, что малый-то выпить любит, стало быть, человек благонамеренный.
– Пьян, старик, был?
– Точно так, ваше превосходительство, заставьте богу за себя молить!
– Ну, бог простит – ступай! Только вперед, коли чувствуешь, что пьян, сейчас беги домой и спать ложись!
– Рады стараться, ваше превосходительство!
И таким образом, вся эта история измором кончилась. А будь-ка губернатор построже, да взгляни на дело с точки зрения «внутренней политики» – ну, и быть бы бычку на веревочке! Фюить * !
Уж не удрать ли, в самом деле, в губернский город Залупск? Хорошо там. Утром встал, не торопясь умылся, не торопясь чаю напился – гляди-ка, уж двенадцать часов на дворе. Походил, посидел, покурил, посвистал, в окошко поглядел: выкупные-то свидетельства, кажется, еще не все в расходе? – Завтракать подано! – гудит сзади холопский бас. Позавтракал, опять походил, покурил – одурь взяла: эй, кто там! тройку велеть заложить! И – ох! у – ах! эх вы, соколики!.. бесподобно! Воротился – ха! да никак уж обед на столе! В комнатах тепло, светло; щи, солонина с хреном, поросенок с кашей… по-русски! И как только ложкой стукнул – сейчас и гость на пороге. Ежели настоящий человек не наклюнулся, так секретарь какой-нибудь забежал. И все-то он тебе расскажет: кто кому рукой плюху дал, кто кого калошей по лицу смазал. Заслушаешься и не заметишь, как на часах девять пробьет. В клуб, сударь, в клуб! А там уж все в сборе, и все об давешних плюхах рассказывают. И один по одному – в буфет да в буфет. Постепенно да постепенно – и вдруг… конституция! А что̀ ж такое, что конституция! Коли ты пьян да благонамерен – Христос с тобой! Ступай домой, ложись спать – сном все пройдет.
Ах, хорошо!
Хорошо-то, хорошо – да полно, так ли? Было такое времечко у нас в Залупске, было – да не прошло ли оно! Недаром мой друг, капитан Копейкин, * пишет: «Не езди в Залупск! у нас, брат, столько теперь поджарых да прожженных развелось – весь наш культурный клуб испакостили!» Да; развелись-таки и там. Ищут, нюхают, законы подводят. В преферанс с тобой играют и через час у тебя же в квартире поличного ищут. И в клубы заползли: сперва один, за ним другой, а потом, глядишь, и в старшины попадать начали. Брякни-ка при нем: «конституция!» – а он тебе: вы, кажется, существующей формой правления недовольны?.. А мне что! Форма правления – эка невидаль! Я так… сам по себе… проваливай, брат, проваливай!
То-то! «проваливай»! Язык-то храбр, коли заочно, а как до дела дойдет – пожалуй, он и не всякое слово выговорит. Иное ведь слово прямо к отягчению служит, – попробуй-ка, выговори его! Да коли при этом ты еще не пьешь, да на дурном счету состоишь, сколько тебе, ради этого слова, слез потом пролить нужно будет, чтоб прощенье себе испросить!
И надо сознаться, * что во всем мы сами, утробистые, виноваты. Еще в то время, когда «прожженные» только что нарождаться в губерниях стали, – тогда надо было меры принимать. Явился прожженный – и с богом! Живите, сколько вас есть, промежду себя. Играйте друг с другом в преферанс, ездите друг к другу в гости, угощайтесь, упивайтесь, прелюбодействуйте! Но в наш культурный клуб – ни-ни! Валяй, братцы, им черняков, чтоб вперед неповадно было! И жили бы прожженные особняком, словно прокаженные, а не стали бы в культурные гнезда залезать и культурных птенцов оттуда таскать. А культурные люди об конституциях бы разговаривали. А то на-тко! скоро, пожалуй, и об конституциях разговаривать некому будет: по одному, по одному – всех перетаскали! *
Да, нынче утробистый человек гляди в оба, несмотря на то что ему благосклонно присвоено название культурного. Пришел ты в клуб – проходи бочком, не задеть бы вот этих двух выродков, которые по секрету об тебе между собой суждение имеют. Ты его заденешь, а он тебя смягчающих обстоятельств лишит, либо сына твоего живьем задерет. Сторонись же, иди бочком к буфету, пей молча водку и молча закусывай, потому что ежели ты разинешь рот – это может вон тех двух выродков оскорбить, которые, тоже по секрету, рассуждают, какому роду истребления тебя подвергнуть! И таким образом, никого не задевши, садись, засучивай рукава и ешь. Ешь молча, и когда еда начнет одолевать тебя, то прилично вздыхай.
Много виноваты утробистые люди в печальной судьбе своей, но, с другой стороны, нельзя и осуждать их строго. Прожженные люди, именно как внутренностные паразиты, проползли в самое нутро культурных людей. Я помню, как в первый раз к нам в Залупск действительный статский советник Солитер явился. Всё благосклонности просил, всю надежду на земскую культурную силу полагал, да и об конституциях сам же первый заговорил. Да еще как заговорил-то! С хохотом, с визгом, со свистом, со слюною… В лицах форму правления представлял, песни скоромные пел, брудершафты предлагал! Ну, культурный человек и смяк. Видит, что малый разухабистый: и сплясать, и спеть, и соврать – на всё первый сорт. «Милости просим! прошу покорно! запросто! отобедать! да вечерком… к жене! Да в клуб, ваше превосходительство, в клуб!» Ну, и пустили козла в огород. А Солитер между тем, не будь прост, пошутил-пошутил, да и цап-царап! «Вы, кажется, формой правления недовольны?» Ах, прах те побери! Я так… сам по себе… а он: форма правления!
А жены наши еще больше виноваты. Легкомысленны наши жены, ах, как легкомысленны! Прожженные так и вьются около них, так и шепчут, и шепчут. У иной от этого шепота и грудочка поднимается, и глазки искрятся, и личико полымем пышет. – Ты что ж, душенька, мсьё Солитера к нам не пригласишь? – Солитера! ах, сделайте милость! Господин Солитер! милости просим! запросто! Отобедать! вечерком… к жене!
Нет, совсем у нынешних культурных людей ни esprit de corps [119]119
сословного духа.
[Закрыть], ни esprit de conduite [120]120
умения вести себя.
[Закрыть]нет. А прежних утробистых представителей культуры, с жирными кадыками и пространными затылками, которые, завязавшись по горло салфеткой, ели и «независимо» сквернословили, – нет и в помине. Бывало, соберутся в каре вокруг своих вольностей (так, в старину, крепостное право называлось), да уставятся лбами – пушками их не прошибешь! А нынче какой-нибудь действительный статский советник Солитер – и тот всё в один момент развратил. Жен и дев перепортил, птенцов расточил, старцам – показал фигу…
Поэтому нынешний культурный человек об вольностях уж не думает, а либо на теплые воды удрал, либо сам в «Солитеры» норовит. Только и слышишь окрест: да отчего же не доверяют нам? да попробовали бы! да нас только помани! да мы… Что ж, если у вас такая охота есть, – рапортуйте, любезные, друг на друга, рапортуйте!
Фу, подлость! Живешь-живешь – и все на положении грудного ребенка находишься! Мне вот пятьдесят лет, а я даже об конституциях вволю наговориться не могу! Разве я что-нибудь говорю! Переменить, что ли, я что-нибудь хочу! Да мне – Христос с вами! Я так… сам по себе… разговариваю…
Хочешь сказать ему, этому Солитеру долговязому: да вы что, в самом деле, милостивый государь! да я сам государя моего дворянин! я в кавалерии, государь мой, служил! И хотя в походах не бывал, но на походном положении, и даже в лагерях… да-с! Хочешь сказать все это – и молчишь. Потому что всюду, во все клубы, во все щели клубов – везде Солитеры наползли и везде соглядатайствуют. Смотрят и улыбаются, словно вот говорят: ты думаешь, мы не знаем, что̀ у тебя в затылке шевелится? Всё, мой друг, знаем, и при случае…
Вот это-то «при случае» и сбивает культурную спесь. Так оно ясно, несмотря на внешнюю таинственность, что даже клубные лакеи – и те понимают. Прежде, бывало, – кому первый кус? – ему, культурному человеку, кому и по всем утробным правам он следует. А нынче на культурного человека и смотреть не хотят – прямо ему, действительному статскому советнику Солитеру, несут. Ну, и опешили культурные люди. – Позвольте, я вашему превосходительству рапортовать буду? – Рапортуй, братец, рапортуй!
Подлость, подлость и подлость! Скоро мы и не то услышим. «У меня, ваше превосходительство, сын превратными идеями занимается – не прикажете ли его подкузьмить? – отрапортует культурный человек…» Фуй, мерзость!
Да, плох ты, культурный человек! совсем никуда не годишься! Никто с тобой не разговаривает, везде тебя обносят, жене твоей подлости в уши нашептывают… скучно, друг! И до̀ма у тебя тоска, и в клубах твоих тоска, а в собраниях твоих (бывших палладиумах твоих вольностей) – жгучее, надрывающее запустение царствует. Не метено, не чищено, сыро, угарно, но… рапортуй, мой друг, рапортуй!
И именно с тех пор ты и смяк, как тебя культурным человеком назвали. Культурность обязывает. Теперь и ты, и действительный статский советник Солитер – вы оба одно дело делаете. Он действует, а ты содействуешь. А ты думал – как? Ты, может быть, думал, что Солитер станет распинаться да душу за общество полагать, а ты будешь лежать да благородным манером в потолок плевать? Так разуверься, голубчик! Это в те времена такие порядки были, когда ты еще чистопсовым назывался, а теперь шалишь! – теперь ты культурный человек стал! Солитер будет действовать, а ты – содействуй! Рапортуй, братец, рапортуй!
И за всем тем никогда никто в целом мире так не тосковал, как тоскуем мы, представители русской культуры. Мы чувствуем, что жизнь уходит от нас, и хотя цепляемся за нее при пособии «содействия», но все-таки не можем не сознавать, что это совсем не та жизнь, которой бы мы, по культурности своей, заслуживали. Хотя предки наши назывались только чистопсовыми, но они многого не понимали из тех подлостей, которые нам, как свои пять пальцев, известны.
И я уверен * , что в большинстве их такие, например, слова, как «содействовать», «рапортовать» – вызвали бы во время о̀но только недоумение. Мой прадед, если б при нем употребили эти выражения, наверное, воскликнул бы: «Я, ваше превосходительство, государю моему верный слуга, но не лакей-с. Я сам бунтовал-с… в пользу законной власти-с! Я Анну Леопольдовну, регентшу-с, в одной сорочке из опочивальни вынес * – и был за то деревнею в пятьсот душ награжден-с! Извольте, сударь, идти вон!» А дедушка мой сказал бы: «Я в Ропше, государь мой, был и оттуда, на сером аргамаке, до Зимнего дворца за великою государыней следовал-с… * извольте идти вон!» Даже отец мой – и тот бы ответил: «Я сам заблуждался-с! и хотя принес в том чистосердечное раскаяние, но не содействовал… нет, не содействовал-с!» И все они почувствовали бы себя оскорбленными и будировали бы… Конечно, будировали бы до тех пор, пока им Станислава на шею не прислали бы. Но не за содействие-с, а за благородно-верный порыв чувств-с!
А я, правнук, внук и сын, – что̀ я скажу? Я могу сказать только, что я культурный человек и что в этом качестве не имею возможности даже «чистосердечного раскаяния в том принести». Ибо я даже и не заблуждался никогда – нет, никогда! Ни заблуждений, ни истины, ни превратных идей, ни идей благонамеренных – ничего я не знаю! Стало быть, я могу только содействовать. Содействовать – вот моя специальность; не делать, не производить, не распоряжаться, а только содействовать. Вот почему многие, боясь увлечься этой специальностью, бегут на теплые воды и там влачат остатки культурного существования.
Не однажды меня интриговала мысль: каким это образом русский культурный человек вдруг словно из земли вырос? Всё были чистопсовые, а теперь культурными сделались. И даже заслуги особенные выдумали, которые об культурности несомненно свидетельствуют. Я, говорит, из тарелки ем, а Иван мой из плошки; я салфеткой утираюсь, а Иван – стеклом. Вот почему я и называюсь культурным человеком!
Но едва я притрогивался к вопросу: действительно ли еда из тарелки, а не из плошки составляет непререкаемый признак культурности? – как передо мною вставал другой вопрос: да неужто это может кого-нибудь интересовать? и убудет ли от того хоть сколько-нибудь той бесконечной тоски, которая день и ночь гложет культурного человека, несмотря на то что он ест из тарелки, а не из плошки?
Тоска, тоска и тоска! С каким-то отчаянием обращаешься к прошлому: прошлое! прошлое! воротись! И знаешь, что попусту надрываешься, и все-таки кричишь: воротись! воротись! воротись!
Сознавать себя культурным человеком и в то же время не знать, куда деваться с этою культурностью, – вот истинно трагическое положение! Ну, что я с собой предприму? Куда, куда я пойду… ну, хоть сегодня вечером? Всё, что можно было, в пределах русской культурности, видеть и совершить, – всё это я уже видел и совершил. Жюдик – видел, Шнейдершу – видел, у Елисеева, и на бирже, и на Невском – был. Повторять то же самое – ну, просто противно, да и всё тут. Ведь и для культурности есть пределы, за которыми даже право «содействия» становится бессильным оживить человека. И в «содействии» – не бог знает прелесть какая: не все же «содействовать» – захочется когда-нибудь и «действовать». Где? как? * А между тем ни смерть, ни болезнь – ничто нас не берет; жить, жить надо, не потому, чтобы хотел жить, а потому, что встала у тебя жизнь на дороге, и как ты ей ни кричи: сторонись! – она все стоит да подманивает. Встанешь утром и глядишь испуганными глазами в лицо грядущему дню. А в голове так и стучит: чем? ну, чем наполню я его?
Итак, я сидел дома и не знал, что делать с собою. Впереди предстояло одно из двух: или в балаганы идти, или в тайное юридическое общество проникнуть и послушать, как разрешается вопрос о правах седьмой воды на киселе на наследование после единокровных и единоутробных.
– Господи! да ведь это отрава! – вырвался из груди моей вопль.
II. Продолжение тоски и появление Прокопа
Дело было в половине апреля, как раз в светлый праздник. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на истерическую сумятицу, происходившую в природе. Воздух был наполнен неизобразимым мельканием; густая белесоватая кашица кружилась и металась перед глазами, отделяя из себя крупные-крупные снежины, мокрые, разорванные, которые тяжко шлепались об оконные стекла. На наружных подоконниках уже образовались порядочные груды белой массы, рыхлой и источенной, как тающий сахар; мостовая, два часа тому назад серая, начинала белеть; темные ряды домов, мокрых, ослизлых, загадочно глядели, сквозь снежную сеть, своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на первый час дня, больше и больше заволокало город ранними сумерками. Но улица, наперекор стихиям, все еще усиливалась удержать праздничную физиономию. Стрелой мчались щегольские кареты, унося заключенных в них звездоносцев; между ними мелкой рысью сновали извозчичьи пролетки, с скрюченными под зонтиками чиновниками; на тротуарах дворники и мастеровые христосовались с бабами в душегрейках. Но вот, наконец, ударил такой снежный ливень, что вдруг праздничный гул смолк. Улица опустела как бы волшебством; еще раз взвизгнула дверь в кабаке напротив и захлопнулась; даже ликующие столоначальники – и те куда-то пропали.
Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день метался по улицам. Приедешь, бывало, в один дом, подаришь швейцару целковый, распишешься и что есть мочи спешишь в другой дом, где тоже подаришь целковый и распишешься. Да в мундире, сударь, в мундире! Встретишь, бывало, на улице такого же поздравителя, остановишь, выпучишь глаза:
– Были?
И он тоже выпучит глаза:
– Был; а вы были?
– Был.
И летишь дальше.
А нынче вот сижу дома и глазами хлопаю. Извозчика, пожалуй, и не мудрость нанять, да ехать-то некуда. Некуда и незачем.
Прежде я * потому ездил, что было у меня такое убеждение: в Петербурге поздравлю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и впоследствии наверстать. Ну, и меня принимали, потому что все мы в то время, от мала до велика, одним товаром – крепостным правом – торговали и, стало быть, все друг дружке поручителями были. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив – это так, но, по крайней мере, я знал, что у меня есть совершенно реальный стимул (возможность наверстывания), который двигает моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый – прекрасно! Я понял это и, волею или неволею, отказался от идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же, оставив прежние стимулы, я не усвоил себе новых? Для чего я остался жить? для того ли только, чтоб представлять собой образчик отечественной культурности – велика невидаль!
Я знаю, что езди я или не езди, поздравляй или не поздравляй, – я все-таки ничего не наверстаю, потому что наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и показывает мне вдали какие-то перспективы, но, право, мне кажется, что он и сам не сознает, в чем эти перспективы заключаются. Следуй, говорит, по моим указаниям, а куда следуй – и сам порядком растолковать не может. Эх, брат! у самого-то у тебя яичница в голове, а тоже других за собой приглашаешь!
Да ежели бы он и мог * доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать, – разве я могу тудаидти? Да и не только туда– просто никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я истца от ответчика отличить не могу – чьи же я интересы защищать или опровергать буду? По части народного просвещения я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула, или Ромул волчицу, – как же я на экзаменах баллы ставить буду? По части финансов я знаю: дери шибче, а в случае недобора – бесстрашно заключай займы! – что же касается до того, как и на какой бумаге ассигнации печатаются и почему за быстрое отпечатание таковых в экспедиции заготовления государственных бумаг дают награды и ордена, а за отпечатание в Гуслицах на каторгу ссылают * – ничего я этого не знаю. Вот разве по сыскной части… ну, нет, Солитер! этому пока не бывать! Хотя по этой части и действительно никаких познаний не требуется, а только культурность одна, да я ведь еще не забыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес! * Нет, не позабыл! Ибо ежели я самолично ничего не совершил, даже «чистосердечного в том раскаянья не принес», то прадед мой…
И откуда нынче такие действительные статские советники развелись, которые настоящего не дают, а всё перспективы показывают! И прежде бывало не мало действительных статских советников – но какая разница! Назывались они не Солитерами, а Довгочхунами, Федоровыми, Ивановыми, Семеновыми, пили, ели, по гостям ездили, сами балы делали и откупщиков балы заставляли делать, играли в клубах в карты и в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, разоряю, разоряю! *
И ничего. Разоряет – но не созидает, расточает – и сам стоит невредим, развращает – и состоит членом общества распространения нравственности. Кто эту тайну поймет?
Есть один ресурс, который выручает его. Это – лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет неуставаючи, лжет – как рязанский дворянин, когда начинает рассказывать, какие у него в оранжереях персики при крепостном праве росли. Недавняя чистопсовость и до сих пор выступает наружу в нем. Он лжет и сам нагло прислушивается к своему лганью. И верит. Верит, что со всей тройкой и с экипажем в одну прорубь провалился, а через двадцать верст, на тех же лошадях и в том же экипаже, из другой проруби выскочил.
И многие до сих пор верят показываемым им перспективам. Я убежден, что Прокоп, например, даже в эту минуту мечется, как озаренный, и всё поздравляет, всё поздравляет. И все потому, что думает: приеду домой – там наверстаю! И так, с незапамятных времен, из года в год, у него ведется: чем больше получает кукишей, тем больше надеется, тем шибче поздравляет.
Уже неделю тому назад я прочитал в газетах, что он в Петербург прибыл – а ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в Географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились – и вот! Чай, всё перспективы высматривает, связи поддерживает, со швейцарами да с камердинерами табаки разнюхивает! Чай, когда из Залупска ехал, – хвастался тоже: я, мол, в Петербурге об залупских нуждах буду разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай… с швейцарами!
Кому интересны залупские нужды, культурные и не культурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради высокоторжественного дня, подставить – ну, тогда бы мы тебя послушали. А то: залупские нужды! – ишь с чем подъехал! Есть у вас в Залупске Солитер – и будет с вас. Он вас разберет: и стравит друг с другом, и помирит, если ему вздумается. Zaloupsk! Qu’est-ce que c’est que Zaloupsk? [121]121
Залупск! что такое Залупск?
[Закрыть]
И вот, ради * бесплодных разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом собутыльнике позабыл. Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра разрешил ему Солитер за каблук своего сапога подержаться – он уже от вчерашних друзей рыло воротит. Я, говорит, нынче наверху, у самого каблука его превосходительства, стою̀ – сверху-то мне перспективы виднее! Вы, лягушки, квакайте себе в болоте, а мы с его превосходительством сидим, вроде аистов на пригорке, да и нагрянем! Ах, аист, аист! на кого нагрянешь-то ты, птица ты бестолковая! Ведь, чай, всё на своих, на чистопсовых же, от них же и сам ты! Да и болото-то, смотри, уж пустым-пустёхонько стоит: скоро и зацепить там нечего будет!
Мне сделалось и досадно, и жалко. Милый Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке – сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что̀! намеднись у нас на селе у крестьянского мальчика тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут! Милый, милый Прокоп! как сейчас вижу, как он в Залупске в клубе, завязавшись салфеткой (неопрятен он, когда ест), сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок буженины проглотит и еще слово скажет. И слова всё такие мелкие: течет что-то, плывет, барахтается – и не зацепишь. И вот этот-то человек, у которого тараканы только в кухне живут, – поздравляет, подличает, с швейцарами по душе калякает! И даже когда запросто в клубе сидит – ест, а одним глазком в соседнюю комнату заглядывает! Там, в этой комнате, действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом, по секрету, совещаются, а титулярный советник Трихина * так и кружится, так и выплясывает перед ними. И жутко Прокопу, и любопытство одолевает. «Уже от Трихины всё выведаю!» – думает он про себя. И действительно, как только Трихина показался в дверях, весь пропитанный Солитеровыми инструкциями, так по столовой уж и раздается язык Прокопа: «Человек! шампанского!»
И для чего он кланяется и поздравляет? для чего выведывает? Спросите его, – он и сам внятно не ответит на этот вопрос. «Подличать, скажет, я не подличаю, это ты врешь, а все-таки…» И так-таки и упрется на этом «все-таки», как будто и бог весть какую оно мудрость в себе заключает…
И мне вдруг так загорелось видеть Прокопа, до того захотелось на затылок его порадоваться, что не успел я как следует формулировать мое желание, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.
Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах; лицо его, напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильнейшее утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги; живот колыхался, ноги тряслись.
– Откуда, голубчик? поздравлял?
– Разумеется, поздравлял. Вот ты так и день-то нынче какой, чай, позабыл? Христос воскрес!
Мы перецеловались.
– У заутрени был?
– По обыкновению, мой друг, по обыкновению.
– То-то. В этакий день вольные-то идеи оставить надо.
Прокоп уселся против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.
– Скинул бы ты с себя форму-то, – предложил я, – вместе позавтракали бы. А какое у меня вино! по случаю… краденое!
– Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй – опивки простые. Нет, завтракать мне некогда, еще в двадцати местах расписаться нужно, а ты вот что: вели рюмку водки подать – спасибо скажу!
Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и некоторое время стоял с разинутым ртом, словно водка обожгла ему нёбо. Не знаю, почему ему показалось, что я в него всматриваюсь.
– Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны?
– Помилуй, мой друг! я рад тебя видеть – и только.
– А рад, так и слава богу. Измучился, брат, я. Погодища нынче – страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься – ну, и сидишь распахнувшись, как на выставке. Да на грех, еще происшествие нынче в одном месте случилось… препоганое!
– Что же такое?
– Да приехал я к особе к одной – ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит – и угоразди меня нелегкая в разговор с ним вступить. То да се: рано ли его сиятельство встает? в котором часу государственными делами заниматься садится? кто к нему первый с докладом приходит? не слышно ли, местов где-нибудь не открывается ли? Только разговариваем мы таким манером, и вдруг, братец, я вижу: вынимает он из кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снимает крышку да ко мне… «Это, говорю, что?» «Нюхните-ка», – говорит. «Да ты, говорю, свинья, кажется, позабыл?..»
– Так и сказал?
– Так и брякнул. Я брат, прямик! не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!
– Так-то так, а все-таки неосторожно ты поступил. Горяченек ты, брат, справляться с собой не можешь!
Прокоп струсил; казалось, он только теперь понял всю неключимость своего поступка.
– Тебе что нужно? – продолжал я, – тебе нужно Солитеру ножку подставить да самому на его место вскочить? Следовательно, так ты и должен поступать. Знаешь, что камердинер может словечко замолвить, – стало быть, и должен ты с ним ласковенько: табачку, водочки… Я на твоем месте даже к себе бы его пригласил! А теперь он тебе мстить будет.
Прокоп стоял, вытаращивши глаза; вилка, устремленная по направлению к балыку, так и застыла в его руке.
– Я, брат, и сам об этом уж думал, – наконец промолвил он.
– Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером, как станет с его сиятельства сапоги снимать, и скажет ему: был давеча такой-то, не нравится он мне, невежей смотрит! А завтра ты явишься к его сиятельству, его сиятельство посмотрит на тебя, да и подумает: а кто бишь мне сказывал, что этот человек невежа? какой, в самом деле, грубиян!
– А что ты думаешь! ведь это, пожалуй, и вправду так будет! Они, эти хамы…
– Верно говорю. Эти камердинеры да истопники… ах, как с ними надо, мой друг, осторожно! Самый это ехидный народ! Солитер-то, ты думаешь, как пролез?
– Ну, Солитер и так, сам собой… На то он и солитер!
– Нет, он сперва в камердинера влез, а потом уж и…
– Ну, так прощай! я бегу!
– Да погоди! сейчас уж и бежать! Рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?
– Некогда, некогда – чему у нас делаться! Солитер… Я было посплетничать на него приехал, да вот приключение это… завтра прием мне был назначен, а теперь, пожалуй, и не выслушает!
Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги взглянул, посмотрелся в зеркало, пылинку с носа смахнул, шпагу поправил и уж совсем на ходу закинул мне:
– Я, брат, с женой и с дочерью здесь. В Гранд-отеле стоим. За границу ехать собираемся.
– Как! И Надежда Лаврентьевна здесь! и ты ничего не говоришь!
– Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером – посидим!
Он рысцой направился в переднюю, накинул там на себя шинель и вдруг опять встревожился.
– Как ты думаешь? – спросил он меня, – ему… хаму этому… трех целковеньких довольно будет?
– Дай, брат, десятирублевую! – посоветовал я, – надо воображение ему поразить. Потому что хамы эти…
– Ну, ладно, ладно. Так ужо вечером. Кстати, я и расскажу, чем у нас с ним кончится. Жена, признаться, давно к тебе посылает – с неделю мы уж здесь – да вот всё происшествия эти…
Он исчез в дверях, а я остался опять один с своею тоскою. Я начал резюмировать разговор, который мы сейчас вели, – и вдруг покраснел. «Что я такое сейчас говорил? какие такие советы насчет десятирублевой бумажки подавал? – мучительно спрашивал я себя. – Господи! да неужто ж холопство имеет такую втягивающую силу!»








