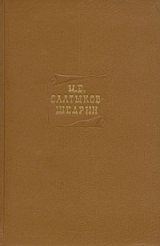
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 56 страниц)
– Не знаю… я ванны брать буду!
– Не все же в ванне будешь сидеть. Чай, и поесть захочешь! – засмеялся Прокоп.
– Нет уж, я уж…
– Уныние ты на всех будешь наводить – вот это верно. Ах, генерал, генерал! Храбрый ты какой был, сражение на Средней Подьяческой выиграл – и вдруг, что с тобой сделалось!
– Таковы плоды человеческой ненасытности!
Генерал сказал это таким безнадежным тоном, что все вдруг смолкли. Даже я, ничего не понимая, вздохнул. Этот унылый вид, это пепельное лицо, очевидно, скрывали какую-то тайну. Кто знает? Может быть, он ждал в этот день награды и не получил ее?
– Больно? – первый прервал молчание Прокоп, обращаясь к генералу.
Но генерал даже не ответил на этот вопрос. К величайшему моему удивлению и к смущению девиц, которые в одно мгновенье куда-то скрылись, он вскочил с места и начал расстегивать свой форменный сюртук. Потом расстегнул жилет, рубашку и обнажил довольно волосатую грудь.
– Смотрите, молодой человек, и да будет это вам уроком! – обратился он ко мне, неизвестно почему считая меня за молодого человека, – читайте! вот здесь, пониже левого соска, – что вы видите?
Я приблизился и действительно увидел нечто в высшей степени странное. В нижней части груди, в том самом месте, на которое сейчас указал генерал, замечалось четвероугольное пространство, усеянное беловатыми пупырышками вроде сыпи. Но когда генерал ударил по этому месту двумя пальцами, то пупырышки мгновенно покраснели, и я мог прочесть следующее:
К СЕМУ ТЕЛУ АГГЕЛ
САТАНЫ, ИВАН ИВАНОВ,
ДОМОВОЙ, ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ,
ПЕЧАТЬ ПРИЛОЖИЛ.
АНАФЕМА!
– Теперь вы знаете роковую тайну моего горького существования! – произнес генерал, покуда я, вне себя от изумления, смотрел на него, – покуда я был субалтерн– и штаб-офицером, все знали отважного Пупона, все приглашали и чествовали его, отовсюду слали ему телеграммы, во всех трактирах пили его здоровье, даже историк Соловьев, задумывая сороковой том своей истории России, чуть не упал от радости в обморок, когда я доставил ему докладную записку под названием «К истории Смутного времени». Теперь я генерал – и все вдруг изменилось. Пупон забыт, Пупон отвержен, Пупон отчислен по кавалерии, а в довершение всего, я получил сегодня от господина Соловьева свою записку обратно с надписью: «невозможно, чтобы человек, в здравом уме находящийся, мог совершить столь великое множество дел, коим даже не весьма стыдливая Клио – и та не решается верить». Скажите, ка̀к по вашему мнению: обидно это или не обидно?
– Да, конечно… Уж если даже Клио зарумянилась, так, должно быть, порядочно-таки вы в этой записке накуролесили. Ну, извините меня, генерал, меня так заинтересовала надпись, сделанная у вас на груди, что если бы вы были так любезны, объяснили ее происхождение, то я счел бы это за величайшее для себя одолжение.
– Увы! это была одна из тех роковых ошибок молодости, которые нередко окутывают всю остальную жизнь человека. Вот он (генерал указал на Прокопа) знает эту грустную историю – когда-нибудь он и расскажет вам ее.
– Ну, нет, я рассказывать не мастер, да и некогда мне, – отказался Прокоп, – а рассказывай-ка ты сам. Нужды нет, что мы знаем твою историю, – мы и в другой раз прослушаем, – всё лучше, чем так-то сидеть, А он вот узнает!
– Хорошо. Я расскажу все по совести, как было, – сказал генерал, – но беру бога в свидетели, что делаю это не ради удовлетворения пустому тщеславию, но единственно ввиду того, чтоб молодые люди, склонные к мечтательности и к благородным подвигам, знали, что даже в области пресечения и предупреждения мечтательность не всегда ведет к той цели, которой они себя предназначали.
Мы все собрались вокруг генерала и приготовились слушать.
Генерал начал:
< . . . . . . >
Глава 4. ПоехалиЧерез неделю, в одиннадцать часов утра, я был уже на дебаркадере Варшавской железной дороги. Прокоп был тоже исправен, и в ту минуту, как я подъехал к станции, он уже распоряжался с багажом. Я насчитал до двенадцати сундуков, да кроме того, у него в каждой руке было по чемодану, которые он, вероятно, надеялся провезти бесплатно.
Серая погода преследовала нас, и перед станцией стояло целое море грязи. Неподалеку виднелся закопченный остов фейгинской мельницы, около которого шныряло стадо адвокатов. Казалось, он еще дымился и дух Овсянникова парил над ним. Прокоп, поздоровавшись со мной, мигнул мне по направлению к зданию мельницы.
– Из-за полтинника какую кашу заварил! – по обыкновению, изумил он внезапностью мысли.
– Ка̀к так из-за полтинника?
– Известно, из-за полтинника. На низу помол дешевле на копейку – вот он и того… А мельница-то застрахована…
– Ну, нет, это, кажется, ты уж чересчур хватил. Миллионер да будет об таких пустяках думать!
– А ты душу человеческую знаешь?
– Нет, но во всяком случае…
– А я знаю. У нас в Залупске миллионер Голопузов живет, так извозчик у него пятиалтынный просит, а он ему гривенник дает. И разговаривает, и усовещивает: креста, говорит, на тебе нет! И так пешком до места и дойдет! Так вот оно, что душа-то человеческая значит.
В эту минуту целая масса людей из всех отверстий мельницы высыпала к наружному ее фасу со стороны Обводного канала.
– Ишь! ишь! адвокатов-то что собралось! – произнес Прокоп, – это они слам делят!
– Какой еще слам?
– Такой и слам, что один какой-нибудь возьмет себе всю тушу, примерно хоть за сто тысяч, – пятьдесят тысяч ему, а другие пятьдесят – на драку!
– Скажи по совести! ведь ты это только сейчас выдумал?
– А если и выдумал – важность какая! Не в том штука, что выдумал, а в том, что правильно выдумал. Смотри-ка! смотри-ка! остановились! глядят! Ах, чтоб им пусто было! Ишь-ишь! Белый к стене подошел, штукатурки отколупнул – это у него «совершенное» доказательство будет!
Поезд был невелик, и нам отвели роскошный вагон, в котором, кроме отдельных купе, был еще прекрасный салон. Нас никто не провожал, – нынче как-то и провожать культурных людей ни для кого не интересно, только около Прокопа терся какой-то маленький человечек, да и тот большею частью или молчал, или, по первому манию Прокопа, мгновенно исчезал в пространстве и снова, как метеор, появлялся.
– Кто это тебя провожает? – полюбопытствовал я.
– А чиновник один… из духовной консистории.
– Как он к тебе попал?
– А так… может, нужен будет.
Кроме Прокопа с семейством, меня и генерала Пупона, было еще пятеро пассажиров: молодой тайный советник, который ожидал к празднику Белого Орла, а вместо того в другой раз получил корону на святыя Анны, и в знак неудовольствия отправлялся вояжировать; адвокат, который тоже был обижен тем, что не был приглашен по овсянниковскому делу ни для судоговорения, ни даже на побегушки; старичок с Владимиром на шее (до Эйдкунена), который, по-видимому, ехал за границу лечиться; молодой литератор; пятый персонаж смотрел как-то таинственно; он был одет в восточный костюм вроде халата, а на голове у него была надета ермолка. Войдя в вагон, он занял место в противоположном углу и молча глядел в окошко в противоположную дебаркадеру сторону.
Прокоп, по обыкновению, всем интересовался и приставал ко мне с вопросами: это кто? При этом он, по привычке всех провинциялов, указывал пальцем и делал свои замечания так громко, что я каждую минуту трепетал, что он меня скомпрометирует. Прежде всего он заинтересовался адвокатом, уверял меня, что видел его, долго припоминал где и наконец-таки вспомнил, что в Муромском лесу.
– Насилу, брат, мы от него удрали! – присовокупил он в виде заключения.
Но больше всего заинтересовал его восточный человек. Он долго вглядывался в него, бормоча про себя: убей меня бог, ежели я его не видал! И наконец-таки вспомнил.
– А ведь это от Огюста татарин! – сказал он, – он! именно он! Я, брат, его знаю! Я и в костюме их видывал. В ноябре они к своему причастию ходят, так этим же манером наряжаются!
И, не дожидаясь моего ответа, обратился к восточному человеку.
– Здравствуй, саламалика! ты как сюда в первый класс попал!
Восточный человек изумленно посмотрел на нахала и чистейшим русским языком отвечал:
– Проваливай мимо.
Наконец поезд пошатнулся и тронулся. Всякий по-своему выразил при этом чувство, одушевлявшее его в эту минуту. Прокоп снял картуз и, перекрестившись большим крестом, громко произнес: с богом! старичок с Владимиром на шее тоже перекрестился, но как-то робко, словно это не входило в круг его прямых обязанностей. Пупон хотел последовать их примеру, но печать антихристова не давала ему. Несколько раз усиливался он сотворить крестное знамение, но, вероятно, «отец лжи» зорко следил за его движениями, потому что, после нескольких попыток, рука его бессильно опустилась вниз. Восточный человек, очевидно, хотел совершить омовение, но, за невозможностью, сотворил брение и помазал им себе волосы. Адвокат долго следил унылом взором за исчезающей в тумане мельницей. Наконец вынул фотографическую карточку Овсянникова и впился в нее глазами, словно заранее оплакикивая невинное его осуждение. Литератор, как только тронулся поезд, вынул из кармана газету и уткнулся в нее. Молодой тайный советник открыл окно и долго махал платком, прощаясь с провожавшими его столоначальниками. Наконец, когда поезд уже въехал в самое царство болот, сел и горько улыбнулся, словно укоряя отечество в неблагодарности. Я уверен, что он воображал себя в эту минуту Кориоланом, но, более великодушный, чем Кориолан, он не намеревался привести вольсков для отмщения нанесенной ему обиды,
Мне было не по себе. По мере того как поезд прибавлял ходу, мне казалось, что внутри у меня все больше и больше пустеет. Теперь впервые мне с особенной резкостью представился вопрос: зачем я еду? и впервые же шевельнулось какое-то смутное сознание, что я что-то за собой оставляю. Я – человек привычки, и всякое передвижение меня волнует, так что когда я переезжаю на лето из Петербурга в деревню, меня всегда беспокоит вопрос: что-то будет? и такой же вопрос беспокоит и в то время, когда я на зиму переезжаю назад в Петербург. Теперь этот вопрос беспокоил меня, так сказать, сугубо. Собственно говоря, я оставлял за собой очень мало: смутную тоску о чем-то и смутное желанье чего-то, но в самой этой смутности было что-то привлекательное. Как будто проснулся и ходишь в халате, и не хочется ни умываться, ни одеваться, ни даже к чаю притронуться: все бы ходил взад и вперед да думал. Об чем бы думал? – право, сто против одного можно пари держать, что никто даже сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос не может дать. Так что-то мелькает и исчезает, и опять мелькает, и опять исчезает. То мотив какой-нибудь раздастся и смолкнет, то вдруг образ какой-то осветится и потухнет. Ходишь-ходишь и усталости даже не замечаешь. Хорошо ли предаваться этой неумывающейся мечтательности – это вопрос другой, но, мне кажется, она представляет собой элемент современной русской жизни. Без ясных сожалений в прошлом и без ясных желаний в будущем. И ко всему этому прибавьте оторопь. Русский человек двигается нехотя, словно боится, что вот-вот нечто разверзнется и поглотит его. Как будто на каждом шагу его ждут сюрпризы, которые перевернут вверх дном его жизнь. Эту же робость, это же недоверчивое ступание по суху, яко по морю, приносит он с собою и повсюду, даже туда, где уже никаких сюрпризов не полагается. Все ему кажется, что или кондуктор его обидит, или засудят его, или вдруг… фюить!
Вот я, например. Правда, я не был за границей, но весь склад моей жизни, все воспитание, все идеалы – все было заграничное. Я и парле-франсе умею, и Наполеона III обругать могу, и об Бисмарке два-три анекдота знаю, и даже некоторые обычаи знаю. Один знакомый мне сказал: там за табльдотом семь блюд подают! другой сказал: если вы в Париже будете в ресторане что-нибудь спрашивать, то не говорите: je vous prie [162]162
прошу вас.
[Закрыть], а s’il vous plait [163]163
пожалуйста.
[Закрыть], потому что вас сейчас за русского примут. Стало быть, куда бы я ни приехал, везде как у себя дома буду. И за всем тем – все-таки берет оторопь. Вот теперь Эйдкунен через сутки, а все кажется: пройдет ли? Точно к родителям из школы едешь и за неделю дурную отметку на билете несешь. Каковы-то кондуктора там? Обходительны ли извозчики? не строги ли содержатели отелей? Вот Прокоп говорит, что там на этот счет строго: в известный час обедать иди, в известный час восхождение на Риги делай – все равно как арестант. Как я за табльдотом обедать буду? Я привык дома на просторе есть, а тут вдруг поднимешь глаза, а они в немца упрутся. Вдруг он обидится и предложит мне за погибель Франции пить? А я Францию люблю! да, люблю я тебя, Франция, люблю, несмотря на то, что ты в настоящую минуту не Франция, а Мак-Магония. Буду ли я с немцем пить!
Буду ли я вообще все те мерзости проделывать, которые проделывают русские люди, шлющиеся на теплых водах! Буду ли я уверять, что мы, русские, – свиньи, что правительство у нас революционное, что молодежь наша не признает ни авторитетов, ни собственности, ни семейства и что вообще порядочному человеку в России нельзя дышать?
Буду ли говорить? – вот странный вопрос! разве я знаю, что я буду говорить? разве я могу определить заранее, что я скажу, когда разговорюсь? Вот если бы я один обедал, разумеется, я бы молчал, да и тогда, может быть, не утерпел бы сказать немцу, что все русские – свиньи, а то за табльдотом – помилуйте! Сто немцев смотрят на тебя, и все как будто говорят: а это ведь русский! Как тут утерпеть! как тут не сказать: господа! не смотрите, что я русский! Я действительно русский, но очень хорошо понимаю, что русские – свиньи!
Покуда эти мысли толпились у меня в голове, Прокоп делал свое дело. Он расхаживал по вагону, приискивая случая завести знакомство с пассажирами. Долгое время он посматривал на восточного человека, который, по-видимому, в особенности его интриговал, но заговорить с ним, однако, не решился, а подсел к адвокату, и между ними произошел следующий разговор:
– Вы адвокат, кажется? – начал Прокоп.
– Имею честь быть таковым! – ответил авдокат.
– Фамилия ваша?
– Проворный, Алексей Андреич.
– Как будто мы с вами встречались?
– Очень может быть.
– В Муромском лесу будто. Я в саратовскую деревню, помнится, ехал.
Проворный недоумевающими глазами взглянул на него.
– Как ее, станция-то? Булатниково, что ли? Еще там ваш, для приготовления адвокатов, кадетский корпус был? – не смущаясь, продолжал Прокоп, – ну, да, впрочем, что тут! ведь вы тамошние места бросили?
– Извините… тут есть какое-то недоразумение… Муромский лес… Булатниково… Я даже никогда не бывал в тех местах…
– И хорошо сделали, что бросили. Там нынче проезжих мало: все на нижегородку бросились. В Петербурге лучше. Нынче в Петербург, на Литейную, Муромские леса переведены. Овсянниковское дело знаете?
– Был приглашаем-с.
– То-то. Я и сам давеча на вас смотрю и думаю: как этакого не пригласить! По этому делу, значит, и за границу едете?
– Нет, я сам по себе. Я в этом деле не участвую.
– В цене, что ли, не сошлись?
– В условиях-с.
– Да, бишь. Прежде спрашивали: какая ваша цена будет? а нынче: какие ваши условия?.. Благородно! А как по вашему мнению – поджег он мельницу-то?
– Это зависит-с.
– То есть, как же это – зависит?
– От взгляда зависит. Как посмотреть на дело. С одной точки зрения посмотреть – выйдет поджог, с другой – выйдет случайность.
– То есть и нашим и вашим. Ну, а по настоящему-то, по правде-то как?
– По моему мнению, истина есть плод судоговорения.
– Чай, поджог-то до судоговорения был!
– Был пожар-с, но что было причиной его: поджог, или неосторожность, или действие стихий – это тайна судоговорения-с.
– Стало быть, можно по судоговорению что хочешь доказать?
– Можно-с.
– У меня, например, в Саратовской губернии имение есть – можно доказать, что оно не мое?
– Ежели есть противная сторона – можно-с.
– Вот так судоговорение!
Прокоп испуганными глазами взглянул кругом, как бы ища, нет ли между присутствующими «противной стороны». И действительно, молодой тайный советник, до сих пор относившийся к разговору с молчаливой иронией, счел долгом и свое мнение высказать.
– По моему мнению, господа, – сказал он, – ваш спор сводится к следующему вопросу: что должен преследовать суд: осязаемую ли правду, ту, которая представляется уму в виде непререкаемого факта, или правду юридическую, которая представляется уму не непосредственно, но вооруженная указами и доказательствами? Так, кажется?
– Совершенно так, – согласился адвокат.
Прокоп взглянул в мою сторону, как бы не зная, согласиться ему или нет. Я поспешил кивнуть головой.
– Мне что ж! – сказал он, – по мне, пожалуй.
Меня самого этот вопрос занимал не мало, ибо как начальник отдельной части, я сталкивался с ним почти на каждом шагу.
< . . . . . . >
Глава 5. Продолжаем ехатьВ Луге, по дороге к вокзалу, Стрекоза подхватил меня под руку и сказал:
– Мы, кажется, с вами знакомы?
– Кажется, – ответил я.
– Мы с вами пошли разными дорогами, но надеюсь, что это нисколько не должно мешать нам взаимно уважать друг друга.
Он сжал своим левым локтем мой правый локоть, а правою рукой пожал мою левую руку.
– С большим удовольствием, – отвечал я.
Стрекоза слегка прищурился и взглянул на меня.
– Вы. кажется, это в ироническом смысле изволите?
– Нет, я без всякого смысла, а так…
– Жаль, очень жаль.
Не покидая моей руки, он засвистал какой-то мотив, и таким образом до самого вокзала мы шли рядом.
– Вы мои последние распоряжения читали? – возобновил он разговор.
– Нет, не читал.
– Не интересуетесь?
– Сами по себе они, вероятно, интересны, но для меня – нет.
– Вот если бы вы читали, вы должны были бы сознаться, что были неправы.
– В чем не прав?
– В том, что имеете на меня совершенно неверный взгляд.
– Да помилуйте! как будто вам мой взгляд нужен!
– И даже очень. Вы, может быть, забыли, но я очень, очень многое помню.
И он пожал мне локоть. Неприятно мне это было, а впрочем, с другой стороны, – что же! пожалуй, жми!
– Как хорошо было двадцать лет тому назад! – воскликнул он и даже рот на мгновенье полураскрыл, как бы вдыхая невесть какой аромат.
Я не ответил, он еще крепче пожал мою руку – что ж, жми, братец, жми.
– Вы были тогда неправы относительно меня – мы об этом когда-нибудь по душе с вами поговорим. Вы куда едете?
Я назвал ему несколько пунктов.
– Это приблизительно и мой маршрут. Скажите, что это за чудак, который вас сопровождает?
Я назвал.
– Так эти дамы – его жена и дочь?
Стрекоза надел на глаза пенсне и, сжав губы, внимательно осмотрел дам, которые в это время кушали цыпленка, словно играя им.
– Интересные особы, – сказал он, – а можно с ними познакомиться?
– Познакомьтесь.
В эту минуту я увидел, что Прокоп, совсем запыхавшись, бежит к нам.
– Ну, что! не говорил я? не правда моя? – кричал он издали, махая руками.
И, подбежавши, торжественно объявил:
– Науматуллу видел.
– Да ты, по крайней мере, говори толком, – сказал я, едва воздерживаясь от раздражения.
– Из Бель-Вю Науматуллу; он тоже с нами за границу едет, вот с этим, с нашим… ну, который у нас в вагоне сидит.
– Да мне-то, наконец, что за дело до всего этого?
– Как что за дело! ведь я от Науматуллы узнал про него. Ведь он принц, только инкогнито соблюдает.
– Душа моя! ведь это, наконец, утомительно!
– Чего утомительно? да ты взгляни, а потом и говори! вон они сидят. Науматулла-то уж камергером у него. С Бель-Вю рассчитался.
Я взглянул: действительно, восточный человек сидел за общим столом и пил шампанское, которое Науматулла, сидевший с ним рядом, наливал ему.
– Ты вот болтаешь, а потом голоден будешь, – сказал я Прокопу, – садись-ка лучше да ешь.
– Нет, я хочу тебе доказать! Хоть я и не отгадчик, а взгляд у меня есть! Псст… псст… – сделал он, кивая головой Науматулле. Науматулла встал, что-то почтительно доложил восточному человеку, потом налил три бокала и на тарелке поднес их нам.
– Прынец просит здоровья кушать! – сказал он.
Прокоп принял бокал и, выступя несколько вперед, почтительно поклонился. Я и Стрекоза тоже взяли свои бокалы. Восточный человек, улыбаясь во весь рот, посмотрел на нас. Очевидно, впрочем, что он симпатизировал только Прокопу, а нам уж так, сбоку припека.
– Да какой же, однако, принц? – спросил Стрекоза Науматуллу.
– В Эйдкунен – всё будем говорить. До Эйдкунен – всё будем молчать. Еще шампанского, господа, угодно?
– Да, может, это мятежник какой-нибудь? – усомнился вдруг Прокоп.
– Сказано: в Эйдкунен – всё будем говорить. И больше ничего! – отвечал Науматулла и исчез с подносом в толпе.
Мы остались в недоумении, из которого первый нас вывел Прокоп.
– Как же с ним обращаться? чай, титул у него есть? – сказал он, – Науматулла, признаться, мне сказывал, да ведь этих саламаляк не поймешь. Заблудащий, говорит.
– В Эйдкунене узнаем-с, – отозвался Стрекоза.
– Беглый какой-нибудь! – продолжал Прокоп, – ишь, шельма, смелый какой! и не боится! так с своим обличьем и едет! вот бы тебя отсюда к становому препроводить – узнал бы ты, как кузькину мать зовут.
– В Вержболове, быть может, так и поступят-с.
– А все-таки, принц! там как ни говори: свиное ухо – а и у них, коли принц, то видно, что есть свыше что-то. Вот кабы он к Наташеньке присватался, я бы его в нашу веру перевел. В Ташкент бы уехали, общими силами налоги бы придумывали, двор по примеру прочих содержали бы…
– Что ты? да ведь Ташкент-то теперь русский!
– А может, царь и простит, назад велит отдать. Мы против России – ничего: мы – верные слуги. Контракт такой заключим. Смотри-ка! Науматулла опять, никак, шампанского несет! Не трогай, я его расспрошу!
Действительно, Науматулла опять стоял перед нами с наполненными бокалами и говорил:
– Второй раз прынец приказал здоровье пить! Он здоров и хочет, чтобы вы, господа русские, здоровы были!
– Да кто твой принц? Татарин, что ли? – спросил его Прокоп.
– Не татарин, а заблудащий. В Эйдкунен всё скажем; до Эйдкунен – молчим.
– Пить ли? – как-то сомнительно обратился ко мне Прокоп.
К счастью, звонок прервал все эти вопросы и недоразумения. Мы наскоро выпили и поспешили в вагон, причем я на ходу представил друг другу Стрекозу и Прокопа. В вагоне мы уж нашли восточного человека, уже расположившегося на своем месте. Прокоп тотчас же подошел к нему и поблагодарил за внимание, на что восточный человек отвечал, щелкнув пальцами по подушке соседнего места, как бы приглашая его сесть рядом.
Некоторое время Прокоп пытался завести разговор и, как всегда водится в подобных случаях, выдумал даже какой-то совершенно своеобразный язык для объяснения с восточным человеком.
– Далеко? луан? – начал он, несколько раз махнув в воздухе рукой куда-то вдаль.
Восточный человек засмеялся в ответ и тоже махнул рукой.
– Дела есть? афер иль-я?
Восточный человек продолжал махать рукой.
– И я тоже туда! е муа осси леба̀! Я без дела! комса̀!
Но восточный человек, по-видимому, ничего не понимал и только смотрел как-то удивительно весело, раскрыв рот до ушей.
– Не понимаешь? Ну, нечего делать, давай так сидеть; друг на дружку смотреть будем!
И в самом деле начали смотреть друг на друга, и вдруг им сделалось до того по душе, что оба расхохотались. За ними расхохотались и другие, так что даже Надежда Лаврентьевна полюбопытствовала и высунула через дверь голову из своего купе.
– А вот это – ма фам! – как-то совсем неожиданно представил ее Прокоп восточному человеку.
– Наденька! поди к нам!
Надежда Лаврентьевна взошла к ним.
– Вот это – принц! а вот это – ма фам! – продолжал Прокоп.
Надежда Лаврентьевна ничего не понимала и конфузилась. Восточный человек быстро вскочил с места, отвернул полу своего халата, порылся в кармане штанов и подал Надежде Лаврентьевне кусок шепталы, держа его между двух пальцев.
– Бери! после выбросишь! – разрешил Прокоп недоумение жены своей. – Принц он! Ишь ведь куда, свиное ухо, гостинцы вздумал прятать! в штаны!
Но как ни весело было восточному человеку, и как ни мало требователен был с своей стороны и Прокоп насчет удовольствий, однако и ему надоело смотреть на принца и смеяться.
– Будет, брат! – сказал он, – после, коли еще захочется, давай опять!
А мне было еще тяжелее, потому что ко мне подсел Стрекоза и все допрашивал, почему я его не уважаю.
– Из чего же вы заключаете это? – оправдывался я.
– Да нет, я по глазам вижу. Скажите же, отчего вы меня не уважаете?
Я бился как рыба об лед, стремясь ежели не разуверить, то, по крайней мере, успокоить моего собеседника. Наконец, он видоизменил свой вопрос, предлагая его в той форме, какую он однажды уже высказал в зале вокзала:
– Вы мои последние распоряжения знаете?
Но, к счастию, в это время подошел к нам Прокоп, решившийся, по-видимому, расстаться с «принцем», и сказал:
– Черт их знает, эти татары! Вот и смеялся, кажется, а смерть как скучно!
< . . . . . . >








