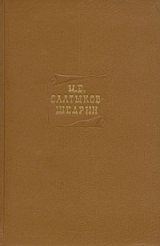
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 56 страниц)
Дело было в половине апреля. Я смотрел из окошка на улицу и любовался на сумятицу, которая происходила в природе. Воздух был наполнен каким-то невообразимым мельканием; крупные, крупные снежинки, мокрые, разорванные, словно проливной дождь, тяжело ударяли в окна. На подоконниках уже образовалась порядочная груда белого вещества, рыхлого и тающего; мостовая, еще часа два тому назад серая, начинала белеть. По улице сновали извозчичьи пролетки с пассажирами, озлобленно скрючившимися под зонтиками. Ряд домов, мокрых, осклизлых, загадочно глядели своими бесчисленными черными окнами, словно тысячами потухших глаз. Небо давило и, несмотря на второй час дня, окутывало город ранними сумерками. Гул экипажей и мельканье лошадей, которые некоторое время раздавались усиленно (был первый день святой недели), постепенно начали стихать, стихать, и наконец совсем сделалось тихо. Даже ликующие столоначальники – и те, по-видимому, успокоились.
Я стоял у окна и припоминал. Было время, когда и я в этот день летал и метался; придешь в одно место – распишешься, швейцару целковый подаришь и, нимало не медля, – в другое место, опять распишешься, опять целковый подаришь… Да в мундире, сударь, в мундире! А нынче вот сижу у окна да глазами хлопаю – на дворе праздник, а никуда глаза показать не хочется. Почему не хочется? – а потому просто, что незачем…
Прежде я потому ездил, что было у меня убеждение: здесь претерплю, зато в своем месте наверстаю. Я даже нарочно в Петербурге периодически появлялся, чтоб претерпеть и потом наверстать. Мерзок я был, низкопоклонен, податлив, но я знал, что у меня имеется стимул, двигающий моими действиями. Впоследствии обстоятельства заставили меня сознать, что это был стимул фальшивый, несостоятельный, лишенный предусмотрительности, – прекрасно! Я понял это и, может быть, даже вполне искренно отказался от тех идеалов наверстыванья, которые обуревали меня в бывалое время. Но почему же я, оставив прежние стимулы, не усвоил себе новых? Для чего я живу? Для того ль только, чтобы представлять собой образчик русской культурности… велика невидаль!
Я знаю теперь, что езди я или не езди, поздравляй или не поздравляй, все-таки я ничего не наверстаю, потому что и наверстать негде. Хотя же действительный статский советник Солитер и заставляет мелькать перед моими глазами какие-то виды, но, право, мне кажется, это он просто, ради блезиру, делает. Следуй, говорит, по моим указаниям, и будешь ты век сыт и век пьян – а куда следуй, этого он и сам растолковать не может. У самого-то, брат, у тебя яичница в голове, а тоже других приглашаешь!
Да если б он и мог доподлинно разъяснить, куда и как нужно следовать – разве я могу тудаидти? Да и не только туда– никуда я идти не могу. Все, все для меня заперто. По судебной части я могу только адвоката нанять, а сам истца от ответчика отличить не умею. Кто их знает! – там адвокат разберет! По части народного просвещения – я не знаю, кто кого кормил, волчица ли Ромула или Ромул волчицу, – что ж я на экзаменах-то спрашивать буду? По части финансов я знаю одну систему: дери и в случае недобора бесстрашно занимай! а как и на какой бумаге ассигнации печаются – ничего этого я не знаю! Вот разве по части… ну, нет, Солитер, этому не бывать. Действительно, по этой части никаких познаний не требуется, только культурность одна, но я ведь не позабыл, что мой прадедушка регентшу Анну Леопольдовну в одной сорочке из опочивальни вынес!.. Нет, не позабыл! Ибо ежели я сам лично ничего не сделал, даже чистосердечного раскаянья не принес, то прадед мой…
И откуда нынче такие действительные статские советники развелись! И прежде были действительные статские советники, назывались Довгочхунами, Ивановыми, Федоровыми, Семеновыми, ели, пили, сами балы делали и откупщиков заставляли делать, ездили по гостям, играли в клубах в карты, а в свободное от занятий время писали: утверждаю, утверждаю, утверждаю. А Солитер пишет: разоряю, расточаю, развращаю!..
И ничего. Разоряет – и не созидает, расточает – и сам стоит невредим, развращает – и состоит членом общества распространения грамотности. Кто поймет эту тайну? Есть у него один ресурс, который выручает его. Ресурс этот – лганье и показывание фальшивых перспектив. Он лжет постоянно, лжет, как рязанский дворянин, когда начнет рассказывать, какие у него, при крепостном праве, персики в оранжереях родились. В этом случае недавняя чистопсовость вся целиком выступала у него наружу. Он лжет, и сам к своему лганью прислушивается, как соловей к собственному пению. И верит. Верит тому, что он, ехавши тройкой, в одну прорубь со всем экипажем провалился и потом за двадцать верст в другую прорубь выскочил. Следуйте, говорит он, следуйте только моим указаниям, а в свое время мы – наверстаем!
И многие до сих пор верят ему. Я убежден, например, что Прокоп даже в эту самую минуту мечется как угорелый по городу и все поздравляет, все поздравляет. Домой, думает, приеду – всё наверстаю! И это он, в течение десяти лет, аккуратно из года в год так делает. Каждый год кукиш с маслом получает, и все шибче да шибче поздравляет и надеется.
Уж целую неделю, как я в газетах прочел, что он в Петербург приехал – и ко мне до сих пор ни ногой. Вместе Шнейдершу слушали, вместе в географическом конгрессе заседали, вместе по политическому делу судились, наконец, вместе в сумасшедшем доме сидели – и вот! Чай, всё перспективы выглядывает, связи поддерживает, с швейцарами да с камердинерами разговариват. Чай, когда из Залупска ехал, тоже хвастался: я, мол, в Петербург еду, об залупских культурных нуждах буду там разговаривать! Разговаривай, мой друг, разговаривай… с швейцарами!
Кому интересны залупские нужды, культурные или некультурные? Вот кабы ты сообщил секрет, как к празднику нечто заполучить или как такому-то ножку, ради высокоторжественного дня, подставить – ну, тогда мы бы тебя послушали! А то: Залупск – разве об нем кто-нибудь думает! Есть у вас там, в Залупске, Солитер – и будет с вас. Он вас там разберет: и стравит друг с другом, и помирит, если нужно… «Zaloupsk! – qu’est ce que c’est – que Zaloupsk?» [161]161
Залупск! что такое Залупск?
[Закрыть]
И вот, ради разговоров с швейцарами, Прокоп даже об старом соратнике и собутыльнике забыл! Это ли не черта русской культурности! Сегодня приятель, а завтра Солитер разрешил ему за свой превосходительный каблук подержаться – он уж и рыло воротит. Я, говорит, наверху нынче стою, сверху мне все перспективы виднее. Вы, мол, как лягушки, в болоте квакаете, а мы, аисты, на горах расселись, да как налетим оттоль… Да на кого же ты налетишь-то, птица ты бестолковая! Посмотри, и болото-то уж пустым-пустехонько стоит: нечего скоро и зацепить-то там будет!
Мне сделалось досадно и жалко. Бедный Прокоп! Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и домик есть, и палисадничек при нем, и посуда, и серебрецо, и постелька для приятеля… видно, что человек живет! А мужик что! Вон у нас на селе у крестьянского мальчишки тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне есть! Милый, милый Прокоп! Как сейчас вижу, как он в залупском клубе, за ужином, завязавшись салфеткой, сидит: буженины кусок проглотит и слово скажет, еще кусок проглотит и еще слово скажет. И слова всё – такие мелкие: текут, плывут, бегут – не поймаешь! Ест, а сам одним глазком в соседнюю залу заглядывает, потому что там действительный статский советник Солитер с статским советником Глистом о чем-то по секрету совещаются, а титулярный советник Трихина так и юлит, так и кружит около них. «Дай срок, ужо от Трихины все выведаю!» – думает Прокоп, а что выведаю, зачем выведаю… бежит, течет, плывет!
И так мне вдруг захотелось Прокопа увидеть, так захотелось на затылок его полюбоваться, что не успел я формулировать моего желанья, как в дверях раздался звонок, и Прокоп собственной персоной предстал передо мной.
Он был в культурном мундире и в культурных белых штанах. Лицо его, слегка напоминавшее морду красивейшего из мопсов, выражало сильное утомление; щеки одрябли, под глазами образовались темные круги, живот колыхался, ноги тряслись. Мне показалось даже, что он раздражен.
– Обогрей, ради Христа! – было его первое слово.
– Откуда, голубчик? поздравлял?
– Разумеется, поздравлял. Вот ты, так и день-то какой нынче, чай, позабыл?
– Ну, нет, брат, я и у заутрени был. А ты?
– Еще бы. Я еще третьего дня билет получил.
Прокоп сел против камина и протянул ноги чуть не в самый огонь.
– Да ты бы скинул с себя форму-то, – предложил я, – вместе бы позавтракали, вина бы… А какое у меня вино… по случаю! краденое!
– Это, брат, только хвастаются, что краденое, а попробуй – опивки какие-нибудь! Опивки краденые – вот это так. А ты вот что: завтракать я не буду, а ежели велишь рюмку водки подать – спасибо скажу.
– Отчего же бы не позавтракать?
– Нет, я на минуту, у меня еще двадцать местов впереди. Поважнее которые дома – у всех расписался уж, а прочие и подождут, невелики бары!
Принесли водки и балыка. Прокоп потянулся, выпил и закусил. Не знаю почему ему вдруг показалось, что я всматриваюсь в него.
– Ты что на меня смотришь? узоры, что ли, на мне написаны? – спросил он.
– Помилуй, мой друг, я рад тебя видеть – и только.
– А рад, так и слава богу. Замучился я. Погодища нынче – страсть! Ездил-ездил, штаны-то белые, замарать боишься – ну, и сидишь, как на выставке. Да как на грех, еще приключение… препоганое, брат, со мной приключение сегодня было.
– Что же такое?
– Да приезжаю я к особе к одной – ну, расписался. Только вижу, что тут же, в швейцарской, и камердинер особы стоит – и угоразди меня нелегкая с ним в разговор вступить. Рано ли, мол, встает его сиятельство? прогуливается ли? кто к нему первый с докладом является? не слышно ли, мол, что про места: может быть, где-нибудь что-нибудь подходящее открывается? Только разговариваем мы таким образом – и вдруг вижу я, вынимает он <из> кармана круглую-прекруглую табатерчищу, снял крышку да ко мне… Это, говорю, что?.. – Понюхайте-ко, говорит. – Да ты, говорю, свинья, позабыл, кажется?..
– Так и сказал?
– Так прямо и брякнул. Я ведь, брат, прямик! Я не люблю вокруг да около ходить! По мне, коли свинья, так свинья!
– Нехорошо, брат; горяченек ты, любезный друг! с страстями справляться не умеешь!
– А что?
– А то, что он теперь тебе мстить будет – вот что!
Прокоп задумался на минуту, даже вилка, направленная по направлению к балыку, словно застыла в его руке.
– Я, брат, и сам уж об этом думал, – наконец молвил он.
– Непременно будет мстить. Вот сегодня же вечером будет с его сиятельства сапоги снимать и скажет: был давеча вот такой-то – не нравится он мне, невежей смотрит. А завтра ты явишься к его сиятельству, а его сиятельство посмотрит на тебя да и подумает: кто бишь это мне сказывал, что этот человек невежа?
– А что ты думаешь? ведь это, пожалуй, и вправду так будет?
– Верно говорю. Эти камердинеры да истопники – самый это ехидный народ. Солитер-то, ты думаешь, как пролез?
– Ну, Солитер и так, сам собой пролезет!
– Нет, он сперва в камердинеры пролез, а потом уж и…
– Ну, так прощай; я бегу!
– Погоди! куда ты! рассказал бы, по крайней мере, что у вас делается?
– Чему у нас делаться! Солитер… Я было жаловаться на него приехал, да вот приключение это – пожалуй, завтра и не выслушают!
Прокоп заторопился, подтянулся, вытянул ногу, на сапоги посмотрел, поправил шпагу и уж совсем на ходу заметил:
– Я, брат, с женой и дочерьми здесь. В Гранд-отеле стоим, за границу едем.
– Надежда Лаврентьевна здесь? и ты не говоришь ничего!
– Ну, что тут! не невидаль какая! Приходи ужо вечером – посидим.
Он рысцой направился в переднюю, накинул на себя шинель и вдруг опять встревожился.
– Как ты думаешь? – спросил он меня, – ему… хаму этому… трех целковеньких довольно будет?
– Дай, брат, пять! – посоветовал я.
– Ладно. Так ужо вечером. Жена давно к тебе посылает, да нельзя было… всё приключения эти…
Он исчез в дверях, а я остался опять один с своей тоскою. Я стал резюмировать <разговор>, который мы сейчас вели, и вдруг покраснел. Что я такое сейчас говорил? мучительно спрашивал я себя, и какие такие советы насчет пяти рублей подавал? Господи! да неужели же это холопство имеет такую втягивающую силу! Вот я: по-видимому, совсем было позабыл: и мундира культурного нет у меня, и поздравлять я не езжу – так, сам по себе, глазами хлопаю! – а увидел человека с красным околышем и не вытерпел! Так и лезет-то, так и прет из тебя это проклятое холопство! И рожа осклабляется, и язык петлей складывается, как начнут про швейцаров да про камердинеров разговаривать. Да; нынче в Франции целая школа беллетристов-психологов народилась – ништо им! У них психология простая, без хитростей – ври себе припеваючи! Нет, попробовал бы ты, господин Гонкур, сквозь этот психологический лес продраться, который у Прокопа в голове засел. Ему, по-настоящему, и до самого его сиятельства горя мало, а он вот с лакеями об внутренней политике разговаривает да еще грубит им… лакеям-то! Да и я тут же за компанию вторю: отомстит он тебе; не три, а пять рубликов ему надо дать! Сказал и не почувствовал, что у меня от языка воняет, – ничего, точно все в порядке вещей! Какое сцепление идей бывает, когда такие вещи говоришь? И какова должна быть психология, при помощи которой возможны подобные разговоры? Вот кабы ты, Золя, поприсутствовал при таких разговорах, то понял бы, что самое фантастически-психологическое лганье, такое, какое не снилось ни тебе, ни братьям Гонкурам, ни прокурорам, ни адвокатам, – должно встать в тупик перед этой психологической непроходимостью.
И в то самое время, как я думал все это, вдруг, вследствие такого же необъяснимого психологического переворота, в голове моей блеснула мысль: Прокоп за границу едет, а что кабы с ним вместе удрать?
Сейчас обвинял Прокопа в холопстве, сейчас на самого себя негодовал за то, что никак не могу с себя ярма холопства свергнуть, – а через минуту опять туда же лезу! Я знаю, что Прокоп вместе с своей персоной весь Залупск Европе покажет, что он повезет Залупск в своих платьях, в покрое своего затылка и брюха, в тех речах, которыми он будет за табльдотами щеголять, во всем. И за всем тем, все-таки не могу я отвязаться от него, стремлюсь обонять залупские запахи, слушать залупские речи… И вместе со мной этим речам будут внимать Средиземное море и серые скалы, которые высятся вдоль его берегов, словно сторожат их в предвидении нашествия варваров.
Глава 3Для тех, которые позабыли о Прокопе, считаю нелишним восстановить здесь его физиономию. Это чистейший тип культурного русского человека, до последнего времени и не подозревавшего о своей культурности. В физическом отношении он шарообразен и построен как-то забавно: голова круглая, затылок круглый, брюхо круглое, даже плечи, руки, ноги – круглые, так что когда он находится в движении, то кажется, словно шар катится. Лицо у него – портрет красавца-мопса и принимает те же выражения, какие принимает морда мопса в различных обстоятельствах жизни. Когда он сыт, лицо принимает выражение беспечное, почти ласковое, как будто бы говорит: соснул бы теперь, да очень уже весело. И чувствуешь, что у него где-то должен быть хвост, которым он в это время виляет. Когда он голоден, то на лбу и на носу образуются складки, рот злобно осклабляется и углы губ плотоядно опускаются книзу. В нравственном отношении он лукав, не лишен юмора, преимущественно обращенного против него самого, легковерен, льстив, наклонен к лганью и в высшей степени невежествен. Когда он говорит, то почти всегда поражает собеседника внезапностью мыслей, в которых нет возможности отличать правду от лжи. Некоторые полагают, будто бы он зол, но это положительно не верно. Он не добр и не зол, не умен и не глуп – он так, сам по себе. Репутацию злости составили ему его инстинкты, в которых действительно очень мало человеческого и которые иногда делают его способным огрызаться и рычать. Но ежели надеть на него хороший намордник, то он сейчас же притихнет, и в Залупске совершенно справедливо заметили, что с тех пор, как упразднено крепостное право, он стал огрызаться и рычать значительно меньше против прежнего.
Имя его совсем не Прокоп, а Александр Лаврентьич Лизоблюд – из тех Лизоблюдов, которые еще при царе Горохе тарелки лизали. Прокопом его назвали на смех, в честь Прокопа Ляпунова, известного рязанского помещика и ревнителя русской славы, в то время, когда ему, после трех трехлетий, проведенных в звании представителя залупской культурности, поднесли на блюде белые шары в знак оставления в том же звании на четвертое трехлетие. Так как и Прокоп ревновал, и Лизоблюд ревновал, то и назвали Лизоблюда Прокопом, да с тех пор словно даже и забыли настоящую его фамилию: все Прокоп да Прокоп.
Прокоп гордился своими предками. Не говоря уже о том Лизоблюде, который еще в доисторические времена тарелки лизал, много было Лизоблюдов, которые лизали тарелки и во времена позднейшие, освещенные светом истории. Проводя время в этом занятии, некоторые из них приобрели себе вотчины и до такой <степени> усилились, что когда вступил на престол Гришка Отрепьев, что Кирюшка Лизоблюд был послан в Астрахань для побужденья мятежных астраханцев к скорейшей присылке икры для царского стола. Но в половине XVIII столетия звезда Лизоблюдов померкла. Никита Лизоблюд, имея наклонности пьяные и прожорливые, замешался в историю Лопухиной, и хотя сентенцией суда был приговорен к наказанию кнутом с урезанием языка и к ссылке на каторжные работы, но ради неистовой его глупости урезание языка и ссылка на каторгу были заменены ссылкой в залупские вотчины навечно. С этих пор и до наших времен фамилия Лизоблюдов делается исключительно рассадником залупской культурности и играет большую роль в той оппозиции, которую чистопсовые с такою твердостью выдерживали против местной администрации.
Семейство Прокопа состояло из жены, сына и двух дочерей уже на выданье. Жена его слыла когда-то красавицей, да и теперь, когда ей было уже около сорока, она производила в Залупске сенсацию. Это была очень добрая и до крайности жеманная женщина, как все русские провинциальные барыни, родившиеся в захолустье и привыкшие с детства играть в нем роль. Во всех культурных подвигах Прокопа она приносила ему весьма существенную пользу; никто не умел так ласково принять и так радушно накормить, как Надежда Лаврентьевна, ни у кого не подавалось таких роскошных обедов, и никто так красиво и строго не выступал в зале собрания во время балов. Даже губернатор называл ее не иначе как царицей Залупска и во всех официяльных торжествах выступал с ней в польском в первой паре. В особенности же видно выдавалась она во время выборов, когда со всей губернии съезжались в Залупск из деревень «песьи головы», как называл их Прокоп. В то время, как муж политиканил с старцами, то есть накачивал и набивал им мамоны, а некоторым даже шил на свой счет по паре платья, Надежда Лаврентьевна делалась центром, около которого собиралась молодежь. В этих кружках бывало всегда весело – тут присутствовали все представительницы залупского высшего общества, сытые, белые, полные, с сахарными плечами, охотницы и сами поврать и послушать как другие врут; тут велся пряный и щекочущий разговор, бесцеремонно бивший на возбуждение чувственности. В результате – поднесение на блюде белых шаров, которые Прокоп принимал со слезами на глазах.
Не менее полезна была мужу Надежда Лаврентьевна и в сношениях с залупскою администрацией. Прокоп был груб и не раз ставил администрацию в тупик своею бесцеремонностью, хотя после и приносил в том чистосердечное раскаянье. Однажды администрация даже не на шутку рассердилась, и уверяли, что было уже произнесено слово: фюить! Прокоп малодушествовал и плакал, но прощения не просил. Этот загадочный малый желал бы, чтоб администрация, по секрету, видела его слезы и убедилась в его раскаянии и чтоб прощение пришло само собой. Но никто слез не видел и слово «фюить» было сказано вторично. Тогда на выручку явилась Надежда Лаврентьевна, и в первый раз, как «хозяин губернии» подал ей в польском руку, она так томно вздохнула и так трепетно держала его руку, что он невольно спросил ее: а ручку поцеловать можно, ежели я к вам завтра утром приеду? – и сейчас после того сам подошел к Прокопу и заговорил с ним как ни в чем не бывало.
Единственный сын Прокопа Гаврюша похож на отца до смешного. То же круглое брюхо, те же круглые плечи, то же мопсичье лицо, забавное во время покоя и со складками на носу и на лбу во время гнева. Прокоп любит его всем нутром своим, ласково рычит во время появления его в воскресенье и праздничные дни, сам садится, а его ставит перед собой, берет за руки, расспрашивает, чем его во время недели кормили, смотрится в него словно в зеркало. Воспитывается Гаврюша в Лицее прежде всего на том основании, что оттуда титулярными советниками выпускают, а еще больше потому, что в закрытом заведении, хочешь не хочешь, а в конце концов все-таки «человеком» сделаешься.
– По себе, брат, знаю, что дома ученье плохое, – открывался мне по этому случаю Прокоп, – чего уж покойный папенька со мной ни делал – и сек, и голодом держал, и в темную сажал – не могу никуда экзамена выдержать, да и полно. До сих пор ни одного текста из катехизиса не знаю – что хорошего!
– Да ведь на собраниях из катехизиса не спрашивают, – возражал я.
– Все-таки. Разговоры бывают. Не из катехизиса, так из географии. Кабы я экзамены-то выдерживал, и я бы из географии разговаривал, а теперь только на других смотришь, смеются или нет.
– Так что ж! сходило до сих пор – и слава богу.
– Ну, брат, не всегда. Ехидные нынче люди пошли: испытывают. Иной, братец, целый разговор с тобой ведет – ты думаешь вправду, а он на смех.
– И все-таки дай бог всякому таким «человеком» быть, каким ты сделался.
– Да уж это я после человеком сделался, когда папенька за ум взялся да определил меня в полк. Надели на молодца солдатскую шинель да стали на корде гонять – ну, и сделался человеком.
– Так и с Гаврюшей ты так поступи.
– Нельзя, голубчик, не тем нынче пахнет. Нынче над юнкерами-то смеются. А в заведении в этом… а вдруг, братец ты мой, Гаврила Александрович мой министром будет!
Прокоп захохотал, но тем загадочным смехом, из которого нельзя понять, точно ли человек смеется или только в заблуждение вводит.
– Так вот я и решился. Только бы он у меня экзамен выдержал, а там уж я буду покоен. Туда только поступить нужно, а там уж доведут. Разве вот человека зарежет…
– Что ты! Христос с тобою!
– То-то, об этом-то я и говорю. А ты, впрочем, что об этом думаешь? Я брат, маленький тоже чуть-чуть человека не зарезал – да! Раз, после грамматики, секли меня, секли – ну, думаю: непременно я этого проклятого учителя зарежу!
– Так неужто же ты так-таки и зарезал?
– Эх, братец, чудак ты! Я сказал для примера, а он и поверил!
И действительно, Гаврюша третий год находился в заведении – и ничего. Жаловались воспитатели, что он во время репетиций забирается в шинельную и спит там, вследствие чего потом уроков отвечать не может, но Прокоп и не требовал от сына блеска, а просил только бога, чтоб как-нибудь его до конца довел.
Дочери у Прокопа были уж невесты: одна, Наташенька, восемнадцати лет, другая, Леночка, – семнадцати. Обе пошли в мать и наружностью, и жеманством, и наклонностью к лакомству. Наташенька склоняла голову на правую сторону, Леночка на левую, что сообщало им какую-то трогательную грацию. Обе ходили в одинаковых платьицах, обе подавали посетителю ручку как-то нехотя, словно вынужденные обстоятельствами, и обе ходили, слегка привскакивая на носках. Вообще были девушки здоровые, полные и аппетитные, но как бы совестились за свою аппетитность и от всей души просили бога о ниспослании им <худобы>.
Вечером, когда я пришел к Прокопу, у него уже сидел какой-то генерал, но до такой степени унылый, что я подумал, что у него или жена сегодня скончалась, или болит живот. Он имел такой странный вид, словно его пеплом обсыпали. Лицо пепельного цвета, волосы пепельного цвета, даже мундирный сюртук не чищенный, словно кусочки пепла на нем. Прокоп рекомендовал его мне:
– А вот его превосходительство генерал Николай Батистыч Пупон! Русский! Отец его, Батист Северьяныч, – тоже генерал был, только француз, вместе с русскими Париж в восемьсот четырнадцатом году брал, ну, а этот уж настоящий русский, наш залупский дворянин.
Надежда Лаврентьевна приняла меня любезно и позволила даже ручку поцеловать. Наташенька и Леночка любезно поклонились, каждая с своей стороны, Гаврюша сидел в углу, держа в обеих руках по яйцу и пробуя, которое крепче.
– Обделал! – шепнул мне на ухо Прокоп, – десятирублевенькую дал!
– Что ж! куда же?
– Нет, говорит, теперь местов нет, а впоследствии… Будут, говорит, скоро два места, да уж их обещали! А потом, говорит…
– Да не врет ли?
– Верно, братец! После этих двух мест – первое…
– Ну, и слава богу. Покуда ты за границу съездишь, покуда что – смотришь, оно и откроется!
Сели в кружок и стали разговаривать. Разумеется, сначала на погоду пожаловались и выразили мнение, что никогда такой скверной святой не бывало. Потом пошли новости из Залупска, странные новости, в которых главную роль играли плюхи.
– У нас, брат, нынче все разговоры плюхами кончаются! – весело резюмировал Прокоп рассказы Надежды Лаврентьевны.
Подали наконец самовар и целую кучу булок и кренделей. Гаврюша, все упорствовавший сидеть в углу, при виде самовара оживился и стал помаленьку пододвигаться к столу. Прокоп толкнул меня локтем в бок и подмигнул в его сторону. Маневр сына, очевидно, радовал его.
– Что, брат, видно, булками запахло? – пошутил Прокоп и потом, обращаясь ко мне, прибавил: – Вот, брат, тебе хочу на сына жаловаться – урока не знал.
– Ах, мой друг, охота тебе ребенка конфузить! – вступилась Надежда Лаврентьевна, – тебе, Гаврюша, с чем: со сливками или с вареньем?
– Мне, маменька, сливок побольше.
– Ешь, братец, ешь. От еды здоров человек бывает, только одна еда тоже не годится: еда сама по себе, а урок сам по себе.
Гаврюша тряхнул головой, словно муху смахнуть хотел.
– Поди ко мне. Говори: отчего ты урока не знал?
Прокоп притянул Гаврюшу к себе, поставил против колен и всем своим лицом смотрел на него. Очевидно, что в эту минуту он не променял бы никакого Ньютона на своего не знающего урока Гаврюшу.
– Отчего ты урока не знал?
Гаврюша вдруг фыркнул.
– Стыдно, братец! А я давеча еще говорил: министром у меня Гаврюшка будет! Ну, теперь ешь.
– А вы что ж, ваше превосходительство! – обратился Прокоп к генералу, – хлебца бы да с маслицем!
– Да, да, маслица, молочка, яичек… это можно! Надежда Лаврентьевна! Маслица бы, маслица мне! – как-то жалобно попросил генерал и затем, сложив руки между колен, оглядел всех безнадежным взором.
– Вот и генерал с нами за границу едет, – сообщил мне Прокоп.
– Да вы серьезно едете? – спросил я Надежду Лаврентьевну.
– Едем. Надо же…
– Я раз шесть за границей был, а оне еще ни разу, – объяснил Прокоп. – Пускай поездят да посмотрят. Нельзя же…
– А вы, генерал, для здоровья?
– Нет, я здоров, даже совсем здоров. Вот только грусть у меня… Никто объяснить не может. Во̀ды какие-нибудь, может быть…
– Генерал еще в кадетском корпусе мозгу сотрясение получил, – с обычной бестактностью влепил Прокоп, – с тех пор вот и не может…
– Не могу! и рад бы, да не могу! Даже в цирк не езжу, потому что из пистолетов стрелять стали. Хотел было по дипломатической части идти – папаша не позволил. Папаша у меня храбрый был, у Марии-Антуанетты ручку целовал. А теперь вот мы русские.
– Однако дослужились же вот генерала? – не мог я воздержаться от вопроса: до такой степени сильно было мое недоумение.
– Да по кавалерии… кажется, я по кавалерии нахожусь?
– Нет, в ученом комитете заседаете, – сострил Гаврюша, и тут же сам фыркнул своей остроте.
– С генералом, брат, такие приключения были – и не дай бог! расскажите-ка, ваше превосходительство!
– Нет, мой друг, нет! Я вот еще немножко маслица, да и домой… бай-бай пора! в другой раз!
– Ах, генерал, генерал! Женился бы ты, друг, и всю бы эту робость с тебя как рукой сняло! А у меня кстати и невесты есть – выбирай!
Генерал раскраснелся, молодые девицы строго взглянули на отца и гордо выпрямились. Даже Надежда Лаврентьевна словно растерялась.
– Чего на меня глазами уставились? – продолжал хладнокровно Прокоп, – разве не правду я говорю? Чем не невесты! Генерал! смотри! – <2 нрзб.>
Все как-то оторопели, один Гаврюша так фыркал, что брызги летели с блюдечка во все стороны. Вероятно, собственно для утешения Гаврюши Прокоп и завел этот разговор. Генерал заторопился и стал прощаться.
– Куда, брат? испугался? Небось, силом под венец не поведем! – разуверял его Прокоп, – я только так говорю: невесты, мол, есть – первый сорт.
– Alexandre! финиссе! – строго заметила Надежда Лаврентьевна.
– Ну-ну, ступай, генерал Пупон! Спи там. Постель-то у тебя узкая да холодная… или, может быть, мамзель…
– Александр! тебя просто слушать нельзя! – сказала Надежда Лаврентьевна с гневом, но так, что глаза ее так и искрились от удовольствия.
– Ступай, ступай, жених! так через десять дней едем! – говорил Прокоп, провожая генерала в коридор и тотчас же возвращаясь назад.
– Бог знает, что ты говоришь! – укоряла его Надежда Лаврентьевна.
– Что ж я сказал! сказал, что дочки у меня невесты – это всякий видит. Что они пышки – и это всякому видно! А другой, может, и видит да не смекает – ему наука: вникай, братец! Вот хоть бы он! может, жениться захочет – чем не пара! – указал он на меня и в то же время перемигнулся с Гаврюшей, так что он опять фыркнул.
– А впрочем, будет! Пошутили, Гаврило Александрыч, крошечку, – и будет! Довольно, мой друг! родите<льница> гневаться будет! А я тебе про этого генерала когда-нибудь расскажу! – обратился он ко мне.
– Знаете ли что? не поехать ли и мне с вами?
– А чего ж лучше! и прекрасно! С нами, брат, весело будет. Да ты уж бывал?
– Нет, не был. И даже намерения не имел. Да вот сегодня, пришел ты, говоришь: еду – ну и я задумался. Надо же… в самом деле!
– Разумеется, надо. Только уж ты, брат, коли едешь, так меня держись. Я эту «заграницу» как свои пять пальцев знаю, знаю, где что спросить, где как поесть, где гривенничек сунуть. Я как приеду в гостиницу – сейчас на кухню и повару полтинник в руки. Всё покажет. Да я уж тебя научу.
– И так это приятно будет! – отозвалась Надежда Лаврентьевна, – все вместе и останавливаться будем! за границей – и все равно как у себя дома. Не правда ли, генерал?








