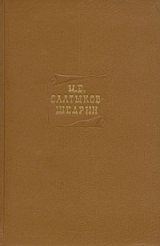
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 56 страниц)
Но допустим даже, что я мелочен и зол и что личная месть могла бы удовлетворить меня, однако и этот крохотный результат едва ли уж так несомненно достижим, как это можно предположить с первого взгляда. Легко сказать: прокурор отомстит, но ведь не соло же он будет выделывать на суде, а выйдет навстречу ему адвокат, вынет из кармана святое Евангелие (он уж с неделю назад его в синодальной лавке * купил и все рылся: плевелы… плевелы… плевелы… * а! вот, наконец, нашел!) и проклянет час своего рождения, убеждая вселенную вообще и господ присяжных в особенности, что истинный виновник постигшего меня умертвия не сей «питомец славы», велениями судеб превратившийся в «червонного валета», а я сам, дурак и простофиля, введший его в соблазн.
Кто устоит в неравном бое? *
III
Тоска! некуда деваться, не к чему приступиться, не об чем думать! Стучаться в запертую дверь – бесплодно; ломиться в нее – надорвешь силы. Вышла было линия – воровать, да и та повернулась не на пользу, а по направлению к скамье подсудимых. Даже коренные, прожженные хищники и те удивляются: воруют, а никак-таки наворованное к рукам пристать не может – все, словно сквозь сито, так и плывет, так и плывет… куда?
– У меня, брат, третьего дня деньги унесли, – говорю я, вместо привета, входящему ко мне Глумову * .
– А у меня – вчера унесли, – приветствует меня и он в свою очередь.
– У меня Сидор Кондратьич унес, а у тебя кто?
– У меня? а прах их знает! Говорят на Ивана Иваныча, да я не верю. Впрочем, и ты, любезный друг, на Сидора-то Кондратьича клевещешь, кажется.
– Как клевещу! Сказывают, что за день перед тем, как объявиться * , он сто тысяч унес, веселый такой был!
– Не в том дело. Ведь и мой Иван Иваныч третьего дня уйму денег унес, а сегодня все-таки ни ему, ни семье его жрать нечего!
– Черт знает, однако, что ты говоришь! Куда же он деньги девал?
– Угадай, любезный, подумай! Ты ведь любишь помечтать на тему: кабы у бабушки… ну, и потрудись!
– Да и тебе, пожалуй, не мешает подумать!
– Нет, брат, я давно уж думать оставил. Живу просто… ну, живу – и шабаш!
Глумов остановился против меня, пристально взглянул мне в глаза и запел: ah! ah! que j’aime les milimilimilitairrres! * [128]128
о! о! как я люблю! как я люблю военных!
[Закрыть]
– Вот как я нынче живу! – прибавил он, – и вчера в «Буффе» был, и сегодня Гранье пойду слушать! Люблю, братец, я, люблю эту французскую беспардонность, ибо подобие земного нашего странствия в ней вижу!
Но шутка Глумова даже улыбки не вызвала на мое лицо. Я человек аккуратный и счет деньгам знаю. Сверх того, я понимаю (очень многие этого не понимают, а женщины – сплошь и рядом), что если у меня нет в кармане расходных денег, то мне, пожалуй, и обедать не дадут. Так что, ежели я, проснувшись утром, замечаю исчезновение дроби, которую я накануне вечером считал законом предоставленною мне собственностью, то это меня огорчает. А тут, представьте себе, не дроби, а прямо целые числа пропадают, обращаются в нули – каково же должно быть мое огорчение! Да, вдобавок еще, начнешь жаловаться, вопиять – а тебе в упор плоские шутки отпускают, говорят, что Сидор Кондратьич здесь ни при чем! Ведь покуда я был уверен, что третьеводнишние мои деньги именно Сидор Кондратьич украл, – все-таки как-то легче мне было! Думалось: можно будет и поприжать молодца! посидит с месяц в Тарасовке * (я уж в общую складчину и на кормовые * пожертвовал) – смотришь, ан копеечек по десяти и выдавит из себя! А еще с месяц посидит – и еще по десяти копеечек выдавит! Помаленьку да полегоньку, да с божьею помощью, в одном месте давнут, в другом диагностику сделают – гляди, полтина-то и набежала! Полтина… ведь это почти что куш! Полтина… гм… однако ж, только полтина! а другая-то полтина куда же девалась?
Должно быть, много скорби вылилось на моем лице под влиянием этих дум (в особенности же последней), потому что даже черствое сердце Глумова тронулось моим горем.
– Копил, чай? – сказал он голосом, полным участия.
– Как же, братец! Жена, дети… предусматривал тоже… черт знает что такое! Теперь пристают: вот, папаша, всегда вы так делаете! А прежде приставали: папаша! да отчего же вы Сидору Кондратьичу ваших денег не отдадите? ведь он на текущий счет из восьми процентов берет!
– Да, друг, понимаю я это: тяжко! Давеча утром, ни свет ни заря, ко мне совсем неизвестный генерал прибежал; я еще спал, так разбудить велел. Выхожу: что вашему превосходительству угодно? спрашиваю. – Помилуйте! говорит, дедушка мой копил, батюшка-покойник копил, я сам… да-с, сам-с! копил-с! И вдруг какой-то проходимец в одну минуту все это в трубу выпустил! И весь, знаешь, трясется, брыжжет, руками машет: до государя, говорит, дойду! – Жаль, говорю, что ваше превосходительство так, в один миг… да я-то тут при чем? – А вы, говорит, тоже в числе кредиторов значитесь, так не угодно ли на кормовые пожертвовать, чтоб ему, негодяю, впредь неповадно было?
– Ты… подписал?
– И не подумал. Ивана-то Иваныча – в долговое?! Этакого умнейшего, обстоятельнейшего… словом сказать, финансиста?! Ведь я, десять лет сряду, в него, как в провидение, веровал! в церковь не ходил – всё к нему! шептался с ним! перемигивался! душу перед ним выкладывал! Иной раз на сотню выложишь, в другой – на целую тысячу! И чтоб я стал мины под этого человека подводить! Напротив! я все утро сегодня убеждал, что первый наш долг – об семье его позаботиться… и убедил!
– Ну, нет! мы своего Сидора Кондратьича запрятали-таки. И я на кормовые подписался.
– Что ж – и это ничего! правильно! Вы – «правильно» поступили, а мы – великодушно! но ни мы, ни вы одинаково ничего не получим. Зато, кабы ты видел, какой в нем, в Иване-то Иваныче, переворот вдруг сделался, когда он об решении-то нашем узнал! Все воровство вдруг соскочило, одно просветление осталось! И слезы-то, и смеется-то, и губы трясутся, и кланяется (руки, однако, не протягивает: понимает, что недостоин!), и лепечет… Все! говорит, вся моя жизнь, все до последней капли крови – все отныне принадлежит кредиторам! И ежели, говорит, я всего, до последней копейки… о, господи!
– Тсс… А кто его знает, может быть, и в самом деле отдаст!
– Нет уж, что уж! Я, брат, говорил с ним об этом. – Вот, говорю, дружище, в новую жизнь вступаешь! – В новую, говорит. – Ведь это, говорю, все равно что снова с коллежского регистратора начинать… трудно! А впрочем, не ропщи, ежели с усердием да с терпением – пожалуй, и опять в тайные советники произведут – Ах, говорит, не для себя я, а для господ кредиторов… Господи! кабы только силы да разумения!.. И вдруг – опять слезы, опять губы трясутся, опять просветление. – Отдашь? говорю. – Вот как перед истинным!.. как на исповеди, так и теперь… послал бы только бог силы да разумения… – Ну, да уж где! не отдаст – это верно. Губы он как-то облизывает и глазами врозь смотрит, когда у бога силы и разумения просит. Да и не расчет ведь ему отдавать-то.
– А ты уверен, что у него ничего не спрятано? что семье его, действительно, нечего есть?
– Куска нет – верное слово тебе говорю. Я и об этом с ним разговор имел. – Куда ж, братец, ты деньги девал? спрашиваю. – Ну, и он тоже меня спрашивает: а вы верите, говорит, что я честный человек? – Верю, говорю. – Так вот, говорит, суди меня бог и государь, ни копейки у меня на совести нет! – Подумай, однако, говорю, может, и вспомнишь! – Ничего я не вспомню, и не знаю, и не понимаю! на неосторожность сослаться – не могу, потому что я всегда достаточно осторожен был… Мотать тоже не мотал, так чтоб уж слишком… Известно, квартира была, экипаж держал… ну, повара нанимал! Сами посудите, при моих делах – как же иначе?
– Да, иначе нельзя! Он ведь на биржу ездил, действительных статских кокодесов * обедами кормил – нельзя без обстановки ему обойтись!
– Вот ты и суди! Ни неосторожности, ни мотовства – а в трубу вылетел! И даже сам не может объяснить, куда все подевалось!
– Ну, он-то знает!
– Говорю тебе, не знает. Он, брат, ведь глуп. Вот мы с тобой и досужие люди, а в центру попасть не можем – так ему уж куда! Он всю жизнь словно во сне прожил, благо в заведенное колесо попал. Сегодня на биржу, завтра на биржу, сегодня – купить-продать, завтра – купить-продать: вот и премудрость его вся. Мысли – никакой, итоги – по двойной бухгалтерии сведены. Так-то, брат!
– Чудеса!
– Такие чудеса, что вот я, человек уж искушенный, возьму в руки рубль и не разберу, что̀ у меня: полтинник, четвертак или кусочек третьеводнишней афишки. Покажешь извозчику – тот уверяет: рупь! Ну, и слава богу!
– Да, извозчики покуда еще выручают. Крепкий это народ, достоверный!
– Кнут им бог в руки дал – вот они и думают, что, не кормя, на одном кнуте, и невесть куда доедут!
– И доедут. Потихоньку да полегоньку, тут подпругу подтянут, в другом месте шлею подправят, в третьем – просто хвосты подвяжут: эй вы, соколики!
Сказал я это и задумался. «А как вдруг, со всех четырех ног…» внезапно представилось мне, да так живо представилось, что со всеми подробностями, во всей, так сказать, художественной образности. И кру̀ча, и слабосильные разбитые лошади, несущиеся в весь карьер, и гнилой мостишко впереди, и овраг… «Угодят они на мост, или не угодят?» – словно молния блеснуло перед моими глазами, и я совершенно явственно ощутил, как волосы шевельнулись у меня на голове.
– Что задумался? пари держу, что образ какой-нибудь художественный сию минуту воспроизвел? – прервал Глумов мою художественную производительность.
– Помилуй! с какой стати!
– Чего уж – вижу ведь я! И руками уперся, и напружился, весь корпус в комок собрал… боишься?
– Да как бы тебе сказать…
– То-то я вижу, что ты словно изловчаешься, как бы головой об столб не угодить… Ничего, брат, бог милостив!
– Милостив-то милостив, а денег нам все-таки не отдадут. Плакали наши денежки! И куда они девались… господи! да куда ж они, в самом деле, девались?
– Куда все прочее девается, туда и они. Вот ты, конечно, струсберговский процесс читал * – понял что-нибудь?
– Гм… да… нет, воля твоя, а у Ландау денежки есть * !
– Ты как об этом узнал?
– Должны быть у Ландау деньги, должны! Полянский – тот заплакал * , а Ландау… есть у него деньги? есть! Это… это, я тебе скажу… Вот как теперича день на дворе, так и это… Нет, этак нельзя!
Я разгорячился и вскочил с места. Коварство Ландау было так очевидно, так осязательно, что фигура его, подробно описанная газетными репортерами, так и металась у меня перед глазами. Полянский – тот, по крайней мере, заплакал, а Ландау…
– Нельзя так! нельзя! нельзя! нельзя! – почти грозно восклицал я.
– Чудак ты, братец! Вдруг закричал, точно из ляписного раствора промывательные ему поставили! А ты образумься, пойми! ведь и у твоего Сидора Кондратьича небось на молочишко осталось, так что ж: копеечку, что ли, на рубль тебе получить хочется?
– Нет, тут не об копеечке речь, а о принципе! Нельзя так! нельзя!
– Нельзя да нельзя – что нельзя-то?
– Воровать нельзя! запрещается воровать! Да-с, запрещается-с!
– Запрещается – а воруют! Нет, уж ты выйди лучше на площадь, закричи «караул» – может, и полегчит!
Слова эти как будто отрезвили меня, но не вдруг, однако. Некоторое время утроба моя еще колыхалась, и я совершенно явственно слышал, как в ней урчало: нельзя! Но так как я человек впечатлительный, то минуты через две мне уж самому казалось несколько странным, с чего я вдруг так разгорячился. Как будто и в самом деле до того уж меня ущемило от того, что на днях какие-нибудь три-четыре цифры, по недоразумению, обратились в нули! Пожалуй, со стороны могут еще подумать, что я жадный… Я-то жадный! Я-то!.. да вот у меня выкупное свидетельство осталось – два их было, да одному Сидор Кондратьич на днях другое назначение дал – ну, хотите, я это самое выкупное свидетельство сейчас же, сию минуту…
На мое счастие, Глумов прервал течение моих мыслей и не дал совсем уже созревшему порыву самоотвержения вылететь из груди.
– Ну, вот, теперь у тебя восторженность какая-то в лице явилась, – сказал он, – опять, должно быть, художественную картину воспроизвел!
– Ах, отстань, пожалуйста! преотвратительная это у тебя привычка – выражение лица подглядывать!
– Зачем подглядывать – прямо видно! Пари держу, что еще минута, и ты закричал бы: «Человек! шампанского!» Ну-ну, не сердись, не буду! Ты об «червонных валетах» имеешь понятие?
– Знаю.
– Так вот, по-моему, отличнейший наглядный пример. Полянский, Ландау – это, положим, загадочные люди, а в «червонных валетах» даже загадочности никакой нет. Все известно: и сколько наворовали, и где сколько истратили, – все есть! Только одного не видать: каким образом тысячные документы в десятирублевые бумажки превращались.
– Ну, ка̀к не видать?
– Именно не видать. Украл он, положим, облигацию или документ в тысячу рублей выманил – ну, известно, первым долгом в трактир наведался, документ за буфет разменять послал, просидел три-четыре часа за полштофом – смотрит, ан у него в руке только десятирублевая бумажка зажата! Ну, и опять, стало быть, завтра воровать надо!
– Наел да напил, может быть?
– Нет, и этого не было, потому что у них ведь водка главную роль играет – куда же тут тысячу рублей рассорить! А так вот: один взял с него куртажные * , другой – за «поворованное» учел (как прежде за постоялое да за полежалое * брали), третий – за то взял, что у таких парней и бог не велел много денег оставлять, четвертый – за то, что воров князьями да графами величал, пятый – за то, что в участок не препроводил… Так она и разошлась вся, тысяча-то, словно невидимый дух ее разнес.
– Да, но ты все-таки можешь объяснить себе, куда она разошлась. Эти первый, второй, третий, которых ты сейчас назвал, – все-таки они воспользовались!
– Нет, и они не воспользовались, потому что и с каждым из них та же история завтра повторится. Опять пойдут и куртажные, и за «поворованное», и за величание… А послезавтра уж с тех возьмут, которые вчера взяли… И выйдет на поверку, что из тысячи-то рублей – на сто, много на двести пропито да проедено, а прочее всё на различные невещественные статьи изведено.
– Так что в результате окажется, что вор для того только и ворует, чтоб издержки воровства покрыть? Это, что ли, ты хочешь сказать?
– Именно. А сверх того, еще и то, что ежели бы воры понимали, из-за какой малости они беспокоят себя, так, право, девять десятых из них давно бы эту привычку кинули.
– Да ты, никак, даже жалеешь их?
– Да, заправских воров, тех, которые, со взломом или без взлома, но во всяком случае рискуют своими боками и заранее знают, что не попасть им в места не столь отдаленные нельзя, – тех жалею. А об тех, которые крадут невидимо, которые занимаются только тем, что мой рубль, с божьею помощью, обращают в полтинник, – об тех ничего не говорю: еще не вник.
– А по-моему, так и в заправском воре ничего достойного симпатии нет.
– Ремесло у него тяжелое – вот что. Украсть на полтинник, а измучиться на сто рублей – разве это не каторга? Особливо ежели кто еще не забыл, что он в благородном пансионе воспитание получил.
– Например, твой Иван Иваныч?
– А как бы ты думал! Вот я тебе давеча говорил, что у него даже руку кредиторам подать смелости не хватает! у него, которому не дальше как третьего дня стоило только пальцем поманить, чтоб вся эта ватага, сложивши на груди руки крестом, в умилении внимала, ка̀к он, понюхивая табачок, бормочет: купить-продать, продать-купить! Нет, про̀пасть еще в нем совести, про̀пасть! Уж по одному этому, по одной этой несмелости, ты можешь угадывать, какую он ночь должен был провести накануне того дня, как ему «объявиться» пришлось! Чай, и детство-то всё, и невинность вся прошлая, и папенька и маменька, и первая любовь (он за «нею» двадцать тысяч взял, и тут же их, вместе с прочими, ухнул) – всё, всё перед глазами его пронеслось! Это уж не художественные инстинкты всполошились, а кровь, собственная кровь заговорила! И прибавь к этому: он даже не украл, в строгом смысле слова, а только не оправдал доверия… Почему же он совестится и держит себя так, как будто в самом деле украл?
– Да, да, в благородном пансионе воспитывался, похвальные листы получал… Вот и «червонные валеты», и они тоже…
– И их две трети из «питомцев славы» – знаю я и это. Помнишь Дмитриева:
Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы – розами цветут.
– Как же! Как же! Перед приходом твоим только что вспомнил! А помнишь ли, как ты последний стих переделал: И девок розгами секут? Видно, мы уж с малолетства «славу»-то в смешном виде любили представлять!
– Ну, что было, то прошло. Нынче ни того, ни другого уж нет: ни девы розами не цветут, ни девок розгами не секут. Разве под пьяную руку на Козихе * , да и то – что̀ за радость, как на мировую пятьдесят рублей сдерут!
– Да, некрасивая это штука – «червонные валеты», и не поздоровится от нее «питомцам славы»! А для меня, признаюсь, еще того прискорбнее, что на скамье подсудимых опять будут фигюрировать дети Москвы. Давно ли сидели струсберговцы, давно ли гремели адвокаты, доказывая, что они-то и суть излюбленные люди * , дети Москвы, и что иных детей Москва отныне и производить не может, – и вот, точно еще недоставало для полноты картины: опять дети, да вдобавок еще… «червонные валеты»!
– И заметь, что если относительно струсберговцев нужно было еще доказывать, что они – дети Москвы, то тут даже доказательств никаких не потребуется. Прямо валяй стихами:
В каком ты блеске ныне зрима! —
всякий присяжный заседатель чутьем поймет.
– И представь себе, что ведь это та самая Москва, которая впервые собрала Русь…
– А теперь собирает «червонных валетов»? – представляю! Но, во-первых, такому городу, который сам себя называет «сердцем России», надо же что-нибудь собирать, а во-вторых, опять-таки повторю: я и вообще ничего против господ воров не имею, а «червонных валетов» – даже люблю. Русские парни! душевные, разымчатые! Не мошенничество у них на первом плане, а выдумка и смешной вид – где, в какой другой стране ты это найдешь? И притом скромны… ну, право же, скромны! украдет красненькую, четвертную – и будет! И сейчас же спешит из этой красненькой уделить рубль тому, кто его графчиком назовет! Спроси-ка об них у трактирных половых, у извозчиков – все в один голос скажут: душевные господа – первый сорт господа! Нет! право… не знаю, как ты, а я чем больше с ними знакомлюсь, тем чаще говорю себе: хорошо с такими парнями недельку-другую пожить – утешат!
– Ну, меня не особенно к ним тянет!
– Это оттого, что ты в Петербурге засиделся, освежаться редко ездишь. А в сущности, что такое Петербург? – тот же сын Москвы, с тою только особенностью, что имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами * . Особенность, может быть, и пользительная, да живется при ней как-то уж очень невесело.
– А по-твоему, лучше в Москве? по-твоему, весело, как над тобой, как над дураком, утешаются, да тут же, с хохотом и с визгом, и существование твое кстати подрывают?
– Дураком никому не весело быть – это я знаю, да ведь не в том и задача веселых русских «выдумок», чтоб «дураку» было весело, а в том, чтоб вот у них, разымчатых парней, сердце играло, да и посторонние чтоб не очень обижались, что в их глазах с прохожего человека пальто снимают. Русский человек любит смешной вид и многое за него прощает – как ты хочешь, а что-нибудь это да значит!
– А именно?
– Да хоть бы то, что русский человек не видит мирового события в явлении, которое само по себе ломаного гроша не стоит; не кричит, не мстит, не хранит затаенной злобы, а может быть даже, – инстинктивно, разумеется, – связывает с этим явлением своего рода внутренний вопрос… Согласись сам, можно ли сердиться, например, на такую выдумку, об которой я на днях от одного москвича слышал. Встречается «червонный валет» в трактире или в другом публичном месте с иностранцем и, разумеется, как малый общительный, вступает с ним в разговор. Не забудь, что «червонный валет» хоть и «вор», но это отнюдь не мешает ему быть обворожительным молодым человеком. Манеры у него – прекрасные, разговор – текучий, и при этом такие обстоятельные сведения о Москве, об ее торговле, богатствах, нравах, обычаях и прочее, которые прямо свидетельствуют о всестороннем и очень добросовестном изучении. Иностранец тем более очарован, что с этими манерами и сведениями соединяется безграничный досуг и чисто славянская готовность услужить, успокоить человека, находящегося вдали от родины, среди чужих. Мало-помалу – конечно, не в один и не в два дня – очарование приносит желаемый плод: иностранец, в свою очередь, делается излиятельным. Происходит обмен мыслей, произносятся жалобы на обилие за границей капиталов, делающее помещение их до крайности затруднительным, и в результате оказывается, что Россия есть единственная в мире благословенная страна, в которой капитал, без труда (ежели не украдут), может приносить очень серьезный процент. Как только разговор установился на этой почве, так «червонный валет» уж смотрит на своего собеседника, как на «фофана» * . И вдруг – мысль! продать этому «фофану» казенные присутственные места. Сказано – сделано. Весь клуб «червонных валетов» в движении: один бежит к экзекутору присутственных мест и предупреждает его, что на днях его посетит знатный иностранец, интересующийся вопросом о чижовках вообще и московских в особенности; другой – наскоро нанимает помещение и устраивает в нем псевдонотарияльную контору; третий – спешит щегольнуть такими фальшивыми документами, чтоб лучше настоящих были; четвертый – приготовляется разыграть роль владельца-продавца; пятый, шестой – просто радуются и думают: вот-то удивится «фофан»! Словом сказать, все заняты и всем весело. В назначенный день происходит осмотр; экзекутор, как истинно гостеприимный хозяин, показывает: вот чижовка! вот еще чижовка! и еще, и еще, и еще чижовка. Червонный валет служит при этом переводчиком, стучит кулаком об стену и говорит: милорд! посмотрите, какая толщина! Потом едут к нотариусу, получают с иностранца задаточные деньги, провожают его в гостиницу, и затем – все исчезает. Ни нотариуса, ни очаровательного молодого человека, ни владельца дома – ничего. Остаются лицом к лицу: экзекутор, который еще раз готов казенные чижовки лицом показать, и знатный иностранец, который никак не может втолковать экзекутору, что он этот дом купил и надеется получать на свой капитал не меньше десяти процентов… Скажи по совести: будь ты в числе присяжных заседателей, неужели ты мог бы рассердиться на такую «выдумку»?
– Да ведь сердиться и не требуется; требуется только сказать, совершено ли мошенничество, о котором идет речь, или не совершено?
– То-то, что не это одно. Нужно и еще на вопрос ответить: виновен ли такой-то в совершении мошенничества или невиновен?
– Конечно, виновен! тут и сомнения не может существовать!
Признаюсь, я сказал это хоть и бойко, но насколько было в этой бойкости искренности – это еще вопрос. Как ни странным это может показаться, но рассказ Глумова о продаже здания присутственных мест произвел во мне некоторое раздвоение: с одной стороны, представлялась законопреступность деяния, с другой – выдумка. Ежели первая стояла вне всяких сомнений, то вторая… можно ли, при обсуждении дела, в котором главную роль играет «выдумка», обойти эту «выдумку»? справедливо ли исключить ее из счета обвиняемого? На всякий случай предположите, например, что, по беспримерной снисходительности суда, в числе прочих вопросов, предложенных на разрешение присяжных, значится следующий: «заключает ли в себе выдумка об отчуждении здания казенных присутственных мест настолько завлекательности, чтоб заинтересовать людей, коих природное веселонравье в значительной степени возращено и выхолено полученным в благородном пансионе воспитанием?» – что могут ответить на него присяжные?
По моему мнению, тут может произойти одно из двух: или присяжные, убоясь скандала, попросят их от ответа уволить, или же они сойдут в глубины своей совести и, не найдя там ничего, кроме веселости, вынесут ответ: «Да, выдумка достаточно завлекательна». Это будет, конечно, скандал, но скандал ведь и в первом случае неминуем, потому что самое отступление перед трудностями разрешения доказывает ясно, что вопрос только по форме представляется скабрезным, а по существу затрогивает самые чувствительные струны человеческого существования.
Но, возразит мне читатель, присяжные ведь могут ответить и так: «Нет, ничего завлекательного в выдумке «червонных валетов» не видится». Да, они несомненно могут и так ответить, но клянусь, что подобным ответом они все-таки отнюдь не избегнут скандала. Ибо, кроме официальных присяжных, в зале суда присутствует еще целая толпа присяжных неофициальных, которые, наверное, найдут вынесенный приговор не только противоречащим веяниям времени, но и прямо кляузным. «Суди, да не засуживай!» – вот общий голос, который вынесется навстречу мертворожденному решению, и я, право, не знаю, насколько выиграет от этого «институт» присяжных.
– И их, разумеется, поймали? – продолжал я, обращаясь к Глумову.
– Разумеется, поймали, и притом со всеми онёрами * : с раскаянием, с разоблачениями, с детскими противоречиями. Но ты вот что сообрази: во-первых, они взяли со знатного иностранца за свою выдумку не больше четырех-пяти тысяч рублей, что, при разверстке между членами братства и за исключением издержек, дало не более полутораста – двухсот рублей на человека; во-вторых, они всё дело вели почти открыто, и не только не заметали своих следов, но, наверное, отпраздновали свою победу над «фофаном» самым шумным образом и притом непременно в таком месте, куда самая простодушная полиция – и та получила свободный доступ. Разве таковы признаки настоящего мошенника? Мошенника современного закала, например, который прямо из кармана не ворует, а невидимо превращает рубль в полтинник, не оставляя за собой ни поличного, ни ответчиков, ни даже истцов?
– Хорошо, оставим на время «червонных валетов». Какое же, по-твоему, средство избавиться от того невидимого вора, о котором мы сейчас упомянули? Каким образом так устроить, чтоб хоть завтрашний-то день, благодаря ему, не стоял перед нами угрозой?
– Ты это насчет того, что ли, чтоб завтра было что дать на расход кухарке? ну, на это и без экстренных мероприятий средства еще найдутся.
– Нет, ты не шути, тут не о кухарке речь, а вообще… Жить сделалось неловко – вот что! Деньги – какие-то загадочные сделались, кредита – нет… Прежде вот «портфёль» * был, ну, «баланс» * тоже, а теперь, сказывают, и «портфёль», и «баланс» – всё потеряли.
– На этот счет я могу тебя успокоить: обращено внимание!
– Славу богу! Ты разве слышал что-нибудь?
– Достоверно знаю. Вчера, как из собрания кредиторов шел, – Левушку Коленцова встретил. «Поздравь меня, говорит, я уж в Семиозерск не еду!» * – Что̀ так? говорю, то охотился, а теперь вдруг… «Другая миссия представляется, говорит. Entre nous soit dit [129]129
Между нами будь сказано.
[Закрыть], на днях имеет быть возбужден… ну, вот, насчет этого «портфёля»… так я»… И назвал мне такую миссию, и с таким, братец, содержанием, что я, от удовольствия, пальцем его прямо в живот ткнул!
– Ну, хорошо… ну, будет, положим, комиссия… что же эта комиссия сделает?
– Да печаль твою рассеет – и то хорошо. «Портфёль» отыщет, «баланс» подведет…
– Поди, чай, опять сто один том «Трудов» издадут?
– Уж это само собой!
– Прескверная эта привычка у наших комиссий… Да притом и «Труды»-то… представь себе, ведь Левушка Коленцов участие в них принимать будет!
– Доверия, что ли, в тебе он не возбуждает? – напрасно! Не знаю, как насчет «баланса», а насчет «портфёля» ему бог такой разум дал, что он любого финансиста за пояс заткнет!
– То-то, что только насчет «портфёля»!
– А ты не торопись! сперва пускай «портфёль» сыщет, а потом догадается, что и без «балансу» нельзя – и «баланс» поднесет.
– То-то на экономических обедах радость будет! Только, воля твоя, а у меня эти сто один том «Трудов» из головы не выходят. Покуда они потрошат, да соображают, да округляют…
– А мы будем жить, время проводить. Вот об струсберговцах еще забыть не успели, а уж «червонные валеты» грядут! И не увидим, как время пролетит!
– Но ведь ты сам сейчас говорил, что в общественном смысле, как знамение времени, значение «червонных валетов» – неважное!
– И все-таки! Конечно, в громадном процессе отнятия и исчезновения, охватившем вся и всё, роль этих молодых людей второстепенная и эпизодическая, но не забудь, что бо̀льшая часть их еще очень недавно называла себя «питомцами славы», «детьми Москвы» и другими звонкими именами, какие нынче даже и адвокату на язык не вдруг взбредут. Ведь это тоже чего-нибудь да стоит! Так вот ты и займись ими, пока Левушка Коленцов будет «портфёль» и «баланс» отыскивать. А о прочем не тужи и, главное, не копи денег, потому что Сидор Кондратьич, коли захочет, – всё равно отнимет!
Я решился последовать совету Глумова. Хоть я и уверен, что все идет к лучшему в лучшем из миров и что не только «портфёль» с «балансом», но со временем даже и «стыд» будет отыскан (недаром Глумов говорит: стыд – это главное! покуда «стыда» не будет – ничего не будет!), но, в ожидании этих благ, время все-таки проводить надо. Так я и поступаю. Сегодня – окриляюсь надеждами; завтра – увядаю. Один день читаю в газетах: усилия г. Коленцова, по-видимому, близки к осуществлению, и есть надежда, что не только портфёль будет отыскан, но и баланс подведен. А на другой день в тех же газетах читаю: с появлением на сцену новых действующих лиц, гг. Бритнева и Юханцева * , надежды г. Коленцова рассеялись как дым. Портфёль вновь исчез, и на этот раз, кажется, безвозвратно…
А время между тем идет да идет. И все, слава богу, живы.








