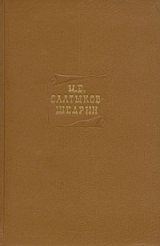
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 56 страниц)
– Он тебя и со всеми твоими потрохами купить и продать может, – говорили они, – а ты его шмандткухенами кормишь!
Однако ж и для самой беззаветной забитости бывают пределы, дальше которых идти некуда. И вот, дойдя до этих пределов, Каверзнев решился.
Однажды, когда Каширин всего меньше думал о разрыве и даже рассчитывал, что на будущее время ему и летом будет нескучно, он получил по городской почте письмо, в котором прочитал следующее:
«Ваше превосходительство!
Милостивый государь!
С стесненным сердцем я приступаю к настоящему письму, но, помилуйте! я человек недостаточный и притом семейный. Я очень хорошо понимаю, что посещения вашего превосходительства приносят нам честь, но ограниченность состояния даже и в сем не дозволяет нам наслаждаться, как бы того душевно желали. И притом, ваше превосходительство! постоянно выигрывая в карты, вы тем самым изволили отвратить от нашего семейства давних и преданных друзей, кои, будучи тоже состояния недостаточного, не в силах оного перенести, хотя бы и желали.
Ваше превосходительство! клянусь повторительно: с стесненным сердцем пишу настоящее письмо! Но взойдите в положение угнетенного отца и мужа и с свойственным вашему превосходительству великодушием простите приемлемой мною смелости!
С чувствами глубочайшего высокопочитания и несомненной преданности имею честь пребыть.
Вашего превосходительства,
милостивый государь!
покорнейший слуга
Илья Каверзнев».
К удивлению, Филип Филипыч отнесся к этому письму довольно спокойно. По-видимому, его скорее удивило не содержание письма, а его бессвязность и редакционные недостатки. Он всегда утверждал, что нынешнее поколение «не умеет писать» – и вот доказательство налицо!
– И это помощник столоначальника нацарапал! – воскликнул он с горечью, – такие ли в наше время помощники бывали!
Я знаю, что рассказ мой дошел до того кульминационного пункта, за которым необходимо следует катастрофа, а потом и естественное ее разрешение. Настоящие художники-беллетристы именно так и поступают: сначала постепенно завязывают узел, а потом постепенно его развязывают. Поэтому ничего нет мудреного, что и читатель, избалованный этими развязываниями и завязываниями, ждет от меня, что я поступлю с Кашириным решительно, то есть или женю его, или сделаю пьяницей, или, наконец, совсем уморю.
Ничего подобного я, однако ж, не сделаю, по причинам, вполне уважительным. Во-первых, я не имею претензии быть художником и ничего «из головы выдумать» не могу; во-вторых, я прошу принять во внимание, что герой моего рассказа – старик, и, в силу одного этого условия, не представляет достаточных элементов для завязываний и развязываний. Поэтому, и желая оставаться в согласии с истиной, я говорю прямо: каким образом Филип Филипыч вышел из своего последнего огорчения и перенес ли при этом какую-нибудь душевную или нравственную ломку – не знаю. Не знаю, потому что мой герой так быстро после этого исчез с петербургского горизонта, что я даже не мог уследить за ним.
Знаю, впрочем, что он поселился в Пронском уезде, в крохотном именьице, некогда великодушно уступленном им тетеньке Агафье Ивановне.
Летом прошлого года, находясь по делам в Пронском уезде, я случайно попал туда в такое время, когда собирался мировой съезд. В качестве почетного мирового судьи прибыл и Каширин. Узнав, что я литератор, он благосклонно пожелал со мной познакомиться, а наконец, затащил меня и в свою усадьбицу. По наружности, это был старик бодрый и даже щеголеватый. Одетый по-летнему, в легонькую визитку, белый жилет и таковые же брюки, он скорее походил на завсегдатая павловских или петергофских садов, нежели на обывателя пронских палестин. Особенной словоохотливостью он не отличался, но, справедливо предполагая, что всё, относящееся до русской литературы, должно интересовать меня, он очень любезно рассказал мне больше сотни анекдотов про Грановского, Белинского, Некрасова, Тургенева и других литературных корифеев сороковых годов и, в заключение, вздохнув, прибавил:
– Да, было, было все это; было – и прошло!
Даже о пойманном Майковым в Парголовском озере пискаре не умолчал и тоже прибавил:
– Да, поймал пискаря, да так с пискарем на всю жизнь и остался!
Усадьба у него оказалась очень хорошенькая, и, судя по его рассказам, он серьезно намеревался устроить из нее нечто вроде «виллы» и с этою целью треть всей земли обратить под сад. Здесь я познакомился и с тетенькой Агафьей Ивановной; старушке было под восемьдесят, но она сохранила все зубы, все волосы и почти юношескую остроту зрения, в соединении с замечательной подвижностью.
– Теперь только я жить начала! – сказала мне эта милая женщина, окидывая бесконечно-любящим взглядом своего бесценного племянника.
Филип Филипыч радушно выводил меня по всем комнатам дома, который он почти весь заново перестроил и, благодаря петербургской мебели, ухитил очень удобно и красиво. В одной из комнат мы застали за работой Палагею Семеновну, девицу высокого роста, «рассыпчатую», с привлекательными формами тела и притом совсем пучеглазую, о которой Каширин сказал просто:
– А это моя Палагея Семеновна!
И затем она ни за обедом, ни за чаем не появлялась; быть может, впрочем, это случилось только потому, что она «стыдилась» постороннего человека, так как не раз Агафья Ивановна, положив на тарелку самый лучший кусок (пупочек, стегнушко), отдавала подачку прислуге, говоря:
– Снесите это Палагеюшке!
Обедом Филип Филипыч накормил меня отличным, причем беспрестанно и он и тетенька понуждали: кушайте! Очевидно, он жил на свои три тысячи шестьсот рублей паном. Охотно хвалился наливками, которые были действительно превосходны, но скорбел, что никак не может добиться такого сала, какое едал в Петербурге у Растопыри.
По-видимому, он всем простил, и даже про Растопырино вероломство вспоминал без горечи. С некоторыми из бывших друзей он исподволь возобновил сношения и даже удостоился очень лестного письма от Стрекозы, которому послал в презент удивительно выкормленного индюка. – «Превосходнейшего вашего индюка мы скушали, – писал маститый сановник, – в сообществе известных вам пособников, укрывателей и попустителей, и так оказался хорош и соответствующ предназначенной ему роли, что не токмо желудочного обременения, по съедении, не ощутили, но даже как бы небольшое облегчение». Что же касается Каверзнева, то Каширин каждогодно к рождеству посылал ему целую груду поросят, гусей и кур.
В Пронске же Филипу Филипычу было суждено встретиться и с Пафнутьевым, что пролило еще более сияющий свет на его существование. К сожалению, я не мог познакомиться с Пафнутьевым, потому что он был в это время в отсутствии. Но Каширин сообщил мне, что ежели сочинение его «Имеяй уши слышати – да слышит!» значительно подвинулось вперед, то именно благодаря Пафнутьеву, в котором он нашел драгоценнейшего для себя сотрудника.
После обеда он попытался прочесть мне первую (вероятно, и единственную) главу этого сочинения. Первую страницу прочел бойко, на второй, под влиянием изобильно принятой пищи и летнего зноя, язык его начал слегка заплетаться, а на третьей он как-то вдруг и незаметно уснул. Я вышел на цыпочках из кабинета и направился к Агафье Ивановне, но и она спала; потом толкнулся к Палагее Семеновне, но и ее нашел спящею. Все в доме и около дома дремало, дремало, дремало; даже большой кохинхинский петух – и тот перестал интересоваться курами. Тогда и я, выбравши в гостиной кресло помягче, протянул ноги и тоже моментально заснул.
А в восемь часов, напившись чаю, уехал от Каширина и больше его не видал.
Дворянская хандра *
Я приехал в деревню, чтоб поселиться в ней навсегда. Ехал я совсем не затем, чтоб просвещать, распространять здравые понятия о платеже недоимок, устранять неурожаи и вообще способствовать улучшению быта; не затем, чтоб принять деятельное участие в распоряжении земскими деньгами, и уж, конечно, не затем, чтоб производить опыты по части сельского хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо иметь гроб – вот я и приехал.
Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннее, она загорелась во мне совсем не потому, чтоб я прикончил какие-то счеты с жизнью, чтоб я сделал какое-то свое дело, а именно потому, что я ровно ничего не начинал и никаких у меня счетов назади не было. Умственное пустодомство удивительно как утомляет. Оно всегда сопряжено с беспорядочною сутолокой, которая загромождает жизнь разнообразным цепким хламом и самым предательским образом вводит в заблуждение. Благодаря этой сутолоке, долго, очень долго думает человек, что он вращается среди действительных интересов, и даже представляет себя силою, действующим лицом. И вдруг его словно осветит, перешибет пополам. И начнет ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во сне, и наяву, представляться одно: гроб! гроб! гроб!
Я ехал, однако ж, не без опасений. Я думал, что гроб дается не разом и что с приездом моим начнется, хотя и в другом вкусе, но все-таки сутолока. Со стороны домочадцев возникнут требования разъяснений, распоряжений и прочие сельскохозяйственные приставания; со стороны мужиков – явятся поползновения по части так называемого слияния * , в которых сыграют свою роль и вопрос о пьянстве, и вопрос о грамотности, и вопрос о ссудосберегательных кассах. И, в заключение, как наидействительнейший символ слияния, – ведро водки. Со всем этим, думалось мне, придется вести борьбу, покуда, наконец, не воцарится настоящее безмолвие, из которого выдвинется настоящий гроб. Но, к моему благополучию, все эти опасения оказались преувеличенными.
Нынешняя деревня – не та, в которой кишат ревизские души, а та, которую представляет собой помещичья усадьба, – истинный клад для гробоискателя. В нынешней деревне вы не встретите ни малейшей суеты, ни тени сельскохозяйственных забот и волнений, а следовательно – никаких вопросов и сомнений. Есть, разумеется, уголки, в которых и доныне ютятся выжиги и «колотятся из последнего», но это исключения. Общий характер – тишина и уныние, которые я назвал бы самоотвержением, если бы при этом не приходило на мысль представление о выкупных свидетельствах * . Урок дня, то есть то, что нужно для пропитания, протопления и проч., исполняется как-то сам собой, в определенный час, без шума, без беготни. Прежде стон, бывало, стоял и над застольными, и над скотным и птичным дворами; нынче – благодать. Не только в стенах помещичьего дома, но и на дворе – ни звука, кроме так называемых голосов природы: завыванья ветра, шума деревьев, чириканья и карканья птиц, лая собак и т. п. Изредка доносится, правда, с поселка (ежели он недалеко) хлопотливое галдение ревизских душ, но и оно не нарушает обязательной для всех (и живых, и мертвых) гармонии голосов природы, а, напротив, только дополняет ее и сливается с нею. Можно (особливо ежели требования комфорта довести до минимума) провести целый день, не слыхавши звука человеческого голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядеть в окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для человека одинокого и притом перешибленного пополам – это своего рода купель силоамская * , приводящая за собой исцеление от всех недугов.
Усадьба у меня старинная. Господский дом – громадный, выстроенный из такого отличного леса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пропасть воздуха и тепло. Когда-то, на красном дворе, рядом с домом, было нагромождено множество всякого рода служб, но ныне все эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Летом на этих «нарушенных» местах растут непролазные массы крапивы и репейника, зимою – из-за снежных наносов виднеются неправильные кучи ломаного кирпича и мелкого мусора. В соседстве с ними, но несколько поодаль, словно монумент, свидетельствующий о благополучном переходе от крепостных порядков к вольнонаемному труду, стоит небольшой, сложенный из тонкого леса скотный двор, в котором помещаются две коровы, две лошади, ломаный инструмент и прочий приличествующий вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впереди дома – цветочный (когда-то) сад, с запущенными дорожками, покато спускающийся к речке; сзади дома – парк, настоящий парк, с старинными могучими деревьями, которых шум даже человеку, далеко не одержимому мизантропией, может внушить мысль о гробе. Внизу, по течению речки, – небольшая мельница, у зияющей двери которой вечно торчит засыпка, не знающий, куда деваться от праздности, так как, за общим оскудением, помолец наезжает редко, да и то налегке.
Понятно, что при такой внутренней обстановке приезд мой не мог вызвать никакой особенной суматохи. Я написал, что явлюсь тогда-то, и в назначенное время все было готово к моему приему. Печи истоплены, стены и потолки обметены, полы вымыты, мебель расставлена в старинном порядке, даже обед изготовлен. «Распоряжений» до такой степени не потребовалось, что когда я снял шубу (дело происходило в половине февраля), то мне оставалось только сказать, что покудамне ничего не нужно. Домочадцы, встретившие меня, разошлись по своим углам; я слышал, как хлопнула сперва одна дверь, потом другая, третья, всё глуше и глуше – и вдруг я остался один… И в этой светлой, большой и хорошо натопленной зале очутился лицом к лицу с гробом…
Точно так же не потребовалось никакой борьбы и по части «слияния». Еще на железной дороге одна соседка по вагону, добродушная помещица, узнавши, что я намереваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахами», сочла долгом предупредить меня:
– Нынче, батюшка, от мужичка благодарности не спрашивайте. Равнодушные какие-то они стали: ни помощи, ни привета. Всё – на деньгах. Сколько следует ему по условию – получил, и шабаш. Спасиба – не ждите.
Так, в самом деле, и оказалось. При самом въезде моем в крестьянский поселок (давно ли я был тут «в отца местом»?) я сейчас же убедился, что мое появление ни в ком ничего не пробудило. Ни благодарных воспоминаний, ни отрадных надежд, ни даже изумления. Мужики, пилившие у своих изб дрова (в этой местности преобладает дровяной промысел), на мгновение приподняли головы, очевидно потому, что внимание их было привлечено топотом мчавших меня лошадей, и опять принялись за свое дело. Я опасался снимания шапок, поклонов (иногда даже в воображении моем мелькали радостные улыбки) – ничего не бывало! Точно муха перед ними пролетела. И мужики показались мне какие-то новые. Прежние были восторженные, слезоточивые; нынешние – равнодушные, зачерствелые. Прежний мужик всеми внутренностями тянул к барскому дому; нынешний – даже по надобности проходя мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорирует, словно это не притягательное место, а только веха̀ на пути. Бабы, качавшие на мирском колодце воду, – и те не оторопели при моем внезапном появлении, не оставили своего занятия, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Все предположения насчет «слияний» и ссудосберегательных касс устранились разом. Не будет поцелуев, но не будет и подкузмлений – ничего. Даже на традиционное ведро водки, по-видимому, расходов не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.
Но у меня вертелось в голове еще одно опасение: я полагал, что возвращение в дом предков вызовет лично во мне чувство умиления. Воскреснут в памяти забытые детские игры, встанут перед глазами, как живые, любезные сердцу лица. Очевидно, это должно населить гроб хотя и призраками, но все-таки помешает ему быть настоящим гробом. Однако и тут обошлось благополучно. Чтоб покончить разом с этим опасением, я тотчас же обежал весь дом и останавливался в каждой комнате, стараясь припомнить. Вот маменькина комната и в ней длинный стол, за которым она, обыкновенно, раскладывала из медных тазиков по банкам варенье; этот стол и теперь стоит на старом месте, и на поверхности его еще сохранились кружкѝ, свидетельствующие о пребывавших тут некогда банках с вареньем; и сама маменька, словно живая, сидит вон на том кожаном кресле и держит в руках серебряную ложку… Вот папенькин кабинет (теперь он мой), и в нем небольшой четырехугольный стол с разрисованною на верхней доске шашечницею, перед которым покойный, сидя в обитом кожею вольтеровском кресле, читывал «Московские ведомости»… Вот девичья, в которой летом толпа горничных, облепленных массами мух, с утра до вечера чистила ягоды, горох, грибы и проч., а зимой, тоже с утра до вечера, раздавалось жужжание веретен… Вот детская; в противоположность другим комнатам, узенькая, низенькая, в которой обитало великое множество клопов… Повторяю: я обежал все это и множество других комнат (вот тут была спальня дедушки, когда он приезжал в деревню «в гости»; вот тут рядом – спальня его «сударки», перед которой подличал и ходил на задних лапках весь дом; вот тут жил когда-то дяденька «буян», которого в хорошие комнаты не пускали и который едал из одной чашки с собакой Трезором; вот тут ютились тетеньки-сестрицы, к которым я бегивал тайком за мятными пряниками; вот тут поймали Генриету Карловну с учителем Василием Иванычем и т. д.) – и, о чудо! – никакого умиления не ощутил! Возвратился в зал, посмотрел в окно – оттуда виднеется река, в настоящее время скованная льдом, и опять-таки никакого умиления! Кабинет, детская, река – всё имена нарицательные, которые так и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самые воспоминания, сопряженные с этими нарицательными именами, не заключают в себе ничего умилительного, или оттого, что человек, перешибленный пополам, сам по себе делается недоступным для чувств умиления, так как между его детством и старчеством легла целая пустота, которая поглотила всё без остатка, кроме страстного желания обрести гроб.
Как бы то ни было, но я понял, что гроб найден и что отныне начинается существование, в которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слияния», ни умиления. Я наскоро пообедал, надел халат и немедленно почувствовал себя спокойно, безмолвно, почти что мертво!..
Впрочем, мне все-таки не удалось лечь в гроб сразу. По обыкновению, сейчас после приезда, пришел отрекомендоваться сельский батюшка. Но и он оказался какой-то сосредоточенный, однословный, угнетенный, угрюмый, точно только затем и пришел, чтоб посмотреть, как я улягусь в гробу, а он меня потом отпевать начнет.
– На жительство… совсем? – начал он словно нехотя.
– Да, совсем.
– Великое это слово… «совсем»!
Я махнул головой в знак согласия.
– Просторно вам здесь одним будет!..
– Да, комнат много.
– Хозяйствовать не станете?
– Нет.
– И не надо!
Разговор на минуту прервался.
– Жизнь здесь… – начал он опять.
– Я не для «жизни».
– А коли не для «жизни», так настоящее место – здесь! Да… именно, именно здесь!
Он как-то тоскливо взглянул на меня, покачал головой, потом посмотрел на буфетный шкап и продолжал:
– Вот ежели в этом разе водка… спаси бог!
– Не потребляю. А вы?
– Спаси бог!
Опять молчание.
– В парках – шум от ветров; опять же вороны гнезда вьют… Ставни по ночам стучать будут! Проржавели, поди, петли-то…
– Не знаю, не спрашивал.
– Оторопь возьмет, оторопь! Главное – ставни на ночь плотнее запирать!
– Прежде запирали; конечно, будут и теперь запирать.
– Ну, с богом!
Он подал мне руку и исчез… «Что ж? оторопь так оторопь – тем лучше», – подумалось мне. Она будет напоминать мне прошлое: ведь я всю жизнь, если сказать по правде, ничего, кроме оторопи, и не испытывал…
Впоследствии я узнал, что здешний батюшка – отличнейший человек. Водки не пьет действительно, устроил в селе школу, в которой безвозмездно учит крестьянских детей; с мужичками живет в ладах, читает им по воскресеньям краткие поучения о том, ка̀ко благоугодити господеви, и за свадьбы берет по-божески, не придираясь. Вообще обстановку имеет скромную, почти бедную. А смотрит он угнетенно, потому что жена у него – франтиха и сластена и ежемгновенно его точит. То упрекнет, что он не по-людски одевается, «ходит, словно мельница крыльями машет, – то ли дело у нас в городу уланы стоят!», то ставит ему в вину, что он кануны соблюдает * : «всё у него либо под преподобного Мартиниана, либо под Тимофея-мученика!» А он ей в ответ: «Ты бы, дура, прежде смотрела!»
Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человеку скромному и, по-видимому, даже чем-то проникнутому, жить в селе Лисьи Ямы, в норе, на цепи, с глазу на глаз с попадьей, сластеной и франтихой? И он на цепи, и она на цепи… Она скалит зубы и скачет, и он скалит зубы и скачет. И оба благодарят провидение, что у каждого цепь настолько коротка, что не пускает их загрызть друг друга. Этим и процветает семейный союз.
Если кто думает, что вслед за этим вступлением появится на сцену дворовая девица (плод секретной любви покойного папеньки) и затем произойдет интереснейшее кровосмешение, или что из-под куста выпорхнет породистая помещичья дочка и подаст повод к целому ряду приятных сцен, с робкими поцелуями, трепетными пожатиями рук, трелями соловья и проч., – тот пусть не читает дальше этих признаний.
Ничего этого не будет: во-первых, потому, что ничего подобного не было в действительности, а во-вторых, и потому, что я поставил себе задачей писать о гробе, только о гробе.
Мысль об этом приличнейшем, по настоящему времени, убежище давно уже шевелилась во мне и, наконец, вполне созрела по следующему очень характеристичному случаю.
Не очень давно тому назад, умершему прославленному человеку нужно было отыскать приличное «последнее убежище». * Разумеется, пошли переговоры с кладбищенскими властями, и вот, во время этих переговоров, матушка игуменья некоего знаменитого монастыря, на который указал знаменитый покойник еще при жизни, таким образом рекомендовала свой товар:
– У нас на монастырском кладбище – очень хорошо. Тишина, порядок, простор. И зимой-то придешь посмотреть – залюбуешься, а летом, как распустятся деревья, – точно в раю! И не вышел бы! Советую.
И, видя, что слова ее производят благоприятное впечатление, присовокупила:
– И еще тем у нас хорошо, что для всех состояний такса установлена – по-божески! – кому что требуется. И богатые люди, и среднего состояния, и бедные – всех милости просим! И первого класса места̀, и второго, и третьего – все распределено, смотря по тому как. Поближе к благодати – и плата выше, подальше от благодати – и плата понижается. За церемониал плата особенно, и тоже по состоянию. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освещение, среднее и малое. Также и насчет поминовений. Нудить никого не нудим, а кто как любит, так для себя и выбирает. Советую.
Вот тогда-то и блеснула у меня в голове мысль: именно мне это самое и нужно. Но так как все эти удобства я мог получить хозяйственным образом, то есть у себя, в своем собственном кладбище, то ясно, что для меня был прямой расчет воспользоваться этим преимуществом. Там, думалось мне, я все найду: и место первейшего класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гроб, а что касается до церемониала, то, наверное, тамошняя самая большая служба будет стоить вдвое дешевле, нежели здешняя самая малая.
Сверх того, мне хотелось умереть без тревог, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я – человек предрассудочный и притом робкий; мне всё кажется, что если я буду продолжать «соваться», как совался до сих пор, то существование мое, наверное, пресечется самым неожиданным и притом злокачественным образом. Я знаю, что это страх ложный (на тех же похоронах знаменитого человека один из моих друзей, служащий в департаменте «Возмездий и Воздаяний» * , указывая на громадную толпу, окружавшую гроб, сказал мне: «В обществе говорят, будто мы не допускаем передовых людей естественною смертью умирать – вот вам блестящее опровержение этой гнусной клеветы!»), но что же делать, если он до того присущ мне, что я освободиться от него не могу? Тогда как, ежели я заблаговременно переселюсь в «свой собственный гроб», – наверное, всякий страх напрасной смерти пройдет сам собою, за неимением пищи. «Соваться» мне там – незачем, да и департамент «Возмездий и Воздаяний» будет далеко… Никто и не увидит, как я изною, пропаду самым естественным образом!
С любовью и не торопясь прилаживался я к своему гробу и, признаюсь, не без удовольствия говорил себе: как это, однако, хорошо, что у меня свой собственный гроб есть! Надоело «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственные досужему человеку действия – взял, юркнул в свой собственный гроб и пропал в нем. А у других, у «недосужих», и этого нет. Вот онедет зимником по реке, перед самыми окнами моего дома, с возом на мельницу, – он и рад бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гроб, там на селе; но это такой гроб, в котором не постепенно умирать, а ежемгновенно и без отдыха жить надо. Во-первых, потому, что он, обитатель этого гроба, – ревизская душа, а во-вторых, потому, что жизнь сама по себе, помимо его воли, помимо разумения, даже помимо инстинктов самосохранения, впилась да и не отпускает его.
Какая это жизнь – это другой вопрос. Я, по крайней мере, уверен, что в эту самую минуту онглядит на мой гроби думает: вот где настоящая-то жизнь! И всегда он так думал: и тогда, когда я «совался» и «пламенел», и теперь, когда я, истомленный «сованиями», исподволь прилаживаюсь к гробу. Всегда он завидовал моей тоске и моим изнываниям, называл их жировыми и говорил: хоть бы недельку так-то пожить!
Я изнываю от тоски, от неудовлетворенной жажды поступков, наконец, от стыда, а он думает: вот оно, хорошее-то житье! И думает правильно, потому что его-то собственное житье уж таково, что даже суздальским богомазам, этим присяжным изобразителям адских мучений * , – и тем не найти красок, чтоб достойным образом воспроизвести это житье!
Собственно говоря, только это вечно присущее сравнение между его гробом и моим и напоминает ему обо мне. Во всем остальном – ему до меня дела нет. Ни советов ему моих не нужно, ни сочувствия. В том деле, которое сопровождает его жизненную агонию, я никаких поучений дать ему не могу, да и он сам эти поучения встретит с нетерпением, скажет: уйди! не мешай! Что же касается до сочувствия, то и тут последует тот же ответ: уйди! не мешай! Он не примет его за иронию только потому, что вообще ничего не прямого, иносказательного не разумеет, а просто-напросто подумает, что мое сочувствие есть обыкновенное интеллигентное «сование», только на этот раз уж совсем неуместно примененное. «И без тебя тошно – а ты лезешь!»
Да, лучше уж не «соваться», а сидеть смирно в своем собственном гробу и потихоньку умирать. Слава богу! папенька с маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая к рублю копейку, наколотили так достаточно, что даже всесокрушающая рука времени не успела уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекосились – чего еще нужно! А главное, никто не мешает, никто даже не подозревает, что в этом гробу кто-то копошится. Много таких гробов разбросано по окрестности, и о большинстве даже неизвестно, чьи они и шевелится ли в них кто-нибудь. И стоят они, постепенно чернея и оседая, под влиянием времени и непогод. Пройдет еще одно поколение – даже гробов не будет, а просто-напросто будут торчать почерневшие безглазые черепа.
При моем душевном настроении это было чрезвычайно удобно. Мне именно нужно было исчезнуть так, чтоб никто не отыскал. Я машинально повторял про себя старинное мудрое речение: мертвые срама не имут * – и мысль, что нашлось наконец убежище, в котором ничто не настигнет меня, приводила меня в восхищение.
Замечательная особенность: вот он,тот самый, который идет за возом на мельницу, он не только не понимает моего недуга, но даже меня, человека изнемогающего, считает за привередника. Может быть, ему некогда разбирать, сколько постыдного, сорного налета насело на жизнь, но может быть и то, что его обычный modus vivendi [145]145
образ жизни.
[Закрыть]уж таков, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Ежели у человека, с младенческих пеленок, единственный способ передвижения состоит в том, что его перетаскивают с места на место за волосы, то, конечно, он будет ощущать при этом физическую боль, но все-таки вряд ли поймет, что этот способ передвижения ненормальный. Ненормальный – для кого? Вот для них, для тех, которые, худо ли, хорошо ли, а ползут-таки на собственных ногах, – может быть! Но для него – он нормальный, потому что иначе как же могло бы случиться, чтоб таскание за волосы совершалось среди бела дня, у всех на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этом зрелище!
Так-то и тут; не понимает он, да и только. Но быть свидетелем этого непонимания, видеть, как оно расползлось по всем жизненным тропинкам и заполонило вселенную, – ужасно! В сущности, это собственно только и ужасно. С моим личным, частным недугом я, пожалуй, довольно легко бы совладал, а вот этот общий и частью даже чужой недуг – он-то именно и составляет ту непосильную гирю, которая заставляет человека оседать все глубже и глубже, покуда он не очутится лицом к лицу перед отверстым гробом.
Почему чужой недуг претворяется в свой собственный и даже пуще гнетет – это отчасти объясняется бо̀льшим или меньшим досужеством. Досужество дает человеку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующие элементы. А как только начинает чувствоваться связь между собою и «остальным», так тотчас же делается невыносимо больно. Горы чего-то неслыханного, какой-то безрассветной мглы начинают надвигаться со всех сторон и давят, и давят без конца. Чтоб вынести эти горы на своих плечах, надо быть или очень сильным, или – очень нахальным. Робким и слабым – не остается ничего больше, как исчезнуть.
Я устроился сразу и отлично: надел халат и замолчал. Комнат – целая анфилада; можно ходить взад и вперед до усталости. Ходишь и молчишь; даже в голове настоящих мыслей нет, а мелькает что-то неопределенное. Отрывки старых вожделений, звуки… Прислуга является ко мне редко, в определенные часы, чтоб сказать, что подано кушать, или принести стакан чаю. Были попытки завести разговор о том, что сегодня с утра мжица мжит, или о том, что нынешнюю зиму волков до ужасти много, в деревне днем по улице бегают; но так как с моей стороны поощрений не последовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросом об одиночном заключении и даже с жаром доказывал, что это – самый благородный способ отмщения нарушенной правды, потому, дескать, что он дает нарушителю возможность примириться с самим собою. Вот какой я был… филантроп! Как бы то ни было, но эта старинная предилекция * , должно быть, и сказалась теперь. Я нашел для себя именно одиночное заключение, – разумеется, смягченное анфиладою комнат и возможностью во всякое время нарушить обряд молчания.








