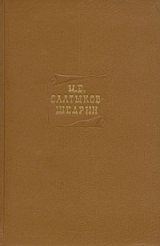
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 56 страниц)
– Помилуй, душа моя! ведь я же сочувствую!
– Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь – знаю я это! Да время нехорошо для печатного изображения чувств. Одно слово переложил, другого не доложил – сейчас: измена! Старые-то литературные предания и без того не в авантаже обретались, а нынче, ввиду несомненного заполучения подписчика, да ежели при сем и продажа распивочно и навынос успешно идет… Так уж ты сделай милость, голубчик, поостерегись!
У Бореля все обстояло так, как я уже заранее нарисовал в картине № 5-й. Посредине просторной комнаты был накрыт стол: белоснежная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро – все блестело. Татары во фраках шныряли взад и вперед, принося и расставляя всевозможные водки и закуски; метрдотель почтительно, но с достоинством принимал из уст самого Левушки заказ; соммелье, с картою вин в руках, выжидал своей очереди. Сережа Преженцов, Володя Культяпкин и Петька Долгоухов, в ожидании земных благ, расхаживали взад и вперед и весело делились друг с другом впечатлениями, в которых покамест не было ничего «славянского».
Нас приняли с распростертыми объятиями; даже Левушка поспешил с последними приказаниями насчет меню, чтоб приветствовать нас.
– Читал? – обратился он ко мне, – ах, меггзавцы! (Левушка слегка грессейировал, что очень к нему шло.)
Меня так и ожгло. Я не знаю, поймет ли меня читатель, но мне показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости и вынеслось оттуда слово, о котором там совсем и в помине не должно бы быть. Давно ли я говорил, в сущности, то же самое, что сейчас сказал Коленцов, и негодовал на Глумова за то, что он встал ко мне по этому поводу в учительные отношения, – и вот не прошло и часа, как я уже и сам был готов разыграть ту же нелепо-учительную роль. Да, неслыханные вещи творятся на белом свете, говорил я себе, но какое же до всего этого дело Левушке? Зачем он оторвался от соммелье… чтоб произнести слово «меггзавцы»? Ах, это слово!
– Да, да, – поспешил я вильнуть в кусты, – так что же мы будем есть?
– Все уж условлено и заказано. Но скажи: ведь ты читал? не правда ли, какие меггзавцы? N’est-ce pas? [20]20
Не правда ли?
[Закрыть]
Вопрос был поставлен двукратно, и не было никакого ручательства, что он не будет предложен и в третий раз. К счастью, Глумов выручил меня.
– Мерзавцы, – сказал он кротко.
– Этот ребенок… parole d’honneur, j’en ai rêvé toute la niut! [21]21
честное слово, мне это грезилось всю ночь!
[Закрыть]И эти штыки… Этот «штык-молодец» * , comme le disait le grand Souvoroff… [22]22
как говорил великий Суворов…
[Закрыть]употребляемый – для чего? Les coquins! [23]23
Мерзавцы!
[Закрыть]
Все сгруппировались вокруг Коленцова, и все искренно заявляли о своем сочувствии. Даже Петька Долгоухов, малый отнюдь не сентиментальный, и тот нервно вздрагивал, искоса, впрочем, поглядывая на жирную, совсем оранжевую семгу, пластом лежавшую на металлическом блюде.
– Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?.. – начал было я.
– Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить к нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрым… патриотическим делом!
Левушка взял тарелку и обошел с нею присутствующих, говоря:
– Во имя братьев! Пусть каждый даст, что может! А потом мы отошлем нашу посильную лепту… в «дамский кружок»!
Все руки разом заторопились, и через мгновение на тарелке лежало пять зелененьких. Петька Долгоухов (шестая зелененькая) обратился к одному из татар и сказал:
– Поди за буфет, вели записать на меня три целковых и принеси сюда!
Затем Левушка вложил собранные деньги в конверт, сделал надпись: «от счастливых, за бокалом вина» – и отправил по принадлежности.
– А теперь, господа, приступим! – весело сказал он, – не знаю, как вам, а у меня как-то теплее, покойнее на сердце становится, когда я сознаю, что выполнил долг. А ведь это – священный долг… это нашдолг, господа! N’est-ce pas?
– Еще бы! à qui le dis-tu? [24]24
кому ты это говоришь?
[Закрыть]– раздалось со всех сторон.
– Собственно говоря, это даже – не долг, а душевное дело… Это, так сказать, – наша подоплека! *
– Браво! – вырвалось у Глумова.
– Браво, браво! – захлопали в ладоши остальные.
– Ну-с, так приступим. Завтрак я заказал умеренный; вина тоже не много будет – предупреждаю вас. Я нахожу, что бывают обстоятельства, при которых умеренность становится обязательною. А чтоб испытать вас, я даже не открою вам содержание моего меню. Будем довольны, чем бог послал!
Как истинные герои, мы поспешили согласиться. Один Долгоухов казался огорченным. В качестве истинного pique-assiette’a [25]25
прихлебатель.
[Закрыть]он любил не только сладко поесть, но и заранее предрасположить себя к предстоящим вкушениям.
Тем не менее завтрак удался как нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучивали над Долгоуховым, сочиняли циркуляры. Один декламировал «устав о печении пирогов» * ; другой импровизировал «правила о переводе в разряд полезных животных тех из волков, кои добрыми нравами и примерным поведением признаны будут заслуживающими сего отличия». Каждая импровизация сопровождалась громкими «браво!» и обращениями к Левушке, который сквозь зубы ворчал: «Шуты!» и в то же время благосклонно улыбался. Словом сказать, все очутились в обычной атмосфере, из которой никто и никогда не чувствовал ни малейшей потребности выходить. Как вдруг дверь дома терпимости распахнулась опять.
– Да, господа, я оставляю вас… оставляю! – сказал Левушка, обращаясь к нам, – в принципе, мой отъезд в Семиозерск уже решен. Надежды, которые вы все возлагаете на меня – я уверен, что оправдаю их. Я – ваш товарищ, и это одно налагает на меня святые обязанности. Я буду тверд, но без непреклонности; буду снисходителен, но без потворства. Преступных страстей – не потерплю! Но не скрою от вас, как не скрываю и от самого себя, что предстоящая мне задача, и без того трудная, в значительной степени усложняется современным политическим положением. Эти славяне, с обрезанными носами и ушами, эти обугленные трупы сожженных живьем людей, наконец этот ребенок, которого сначала бросают вверх и потом принимают на штыки, – все это не выходит у меня из головы и, конечно, войдет в программу моих будущих действий. Надо положить предел этому. Господа! я предлагаю тост за освобождение славян!! И не только на Балканском полуострове, но и… Я никого не называю по имени, но каждый из вас, конечно, уже назвал страну, которая в годину наших испытаний удивила мир своею неблагодарностью! *
Этот тонкий намек на коварную Австрию привел нас в восторг. С криками «ура!», «живио!» мы бросились обнимать Левушку, который, и с своей стороны, весь сиял восторгом и решимостью.
– А теперь, господа, выпьем за здоровье княгини Наталии! – как нельзя более кстати воскликнул Сережа Преженцов.
– Королевы, mon cher [26]26
мой милый.
[Закрыть], королевы! В глазах дипломатии она – княгиня, но в наших в «русских» глазах – королева! – наставительно поправил Левушка.
Выпили за королеву Наталию, но не забыли и княгиню Милену. Потом вынули еще по три целковых, вложили в конверт, с надписью: от счастливых, за третьей здравицей, и опять послали в «дамский кружок».
Здравицы следовали за здравицами, так что под конец произошло уже нечто вроде пронунсиаменто * . Милана сменили и на место его провозгласили генерала Черняева королем Сербии * и соединенной с ней Болгарии. Генералу Новоселову приискали местечко в Боснии. Герцеговину присоединили к Черногории, «гирла» оставили за собой * ; княгине Наталии, яко «дамочке», назначили пенсию в миллион дукатов. Наконец, в половине четвертого, под мотив долетавшей из соседнего кабинета (где тоже, вероятно, происходило своего рода пронунсиаменто) песенки:
вышли на улицу и разбрелись в разные стороны.
– Кто бы подумал, – сказал Глумов, усаживаясь вместе со мною в извозчичьи сани, – что в этом паскудном трактире сейчас произошло великое таинство проявления русско-культурного патриотизма.
Я ничего не ответил на эту выходку и, говоря по совести, даже не совсем сознавал, что происходило во мне. Одно только было для меня вполне ясно: что Глумов стесняет меня! Гадливость, которую я часа полтора тому назад ощутил при слове «мерзавцы», вылетевшем из уст Левушки Коленцова, именно была плодом моей утренней беседы с этим человеком. Не будь его, я легко и свободно отдался бы веселым впечатлениям товарищеской беседы и изящно сервированного завтрака, а в то же время не упустил бы и поскорбеть. Между прочим вздохнул бы о славянах, между прочим выпил бы за здоровье королевы Наталии, между прочим вынул бы из кармана три целковых и с удовольствием увидел бы, что они отосланы… в «дамский кружок». Но мысль, что Глумов все это провидел зараньше и даже снабдил не совсем лестными комментариями, заставляла меня ощущать некоторую неловкость. В самом деле, эти три целковых… Неужели, думалось мне, русская культура не выработала из себя никакого жизненного факта, кроме бесшабашного гвалта, на дне которого лежат три целковых, никакого жизненного требования, кроме дикой потребности пользоваться всяким удобным случаем * , чтоб кому-то зажать рот, перервать горло, согнуть в бараний рог?
Я гнал эту мысль от себя, потому что она положительно мне мешала. Я говорил себе: если даже все это и правда, то для чего мне эта правда, ежели я не могу изменить в ней ни одной йоты? Мы так беспомощны, так безнадежны, что сознание правды не вперед нас толкает, а заставляет только опускать руки. Покуда мы бесшабашны, хоть наши целковые играют какую-то роль, а отнимите у нас это качество – что останется? Останется бесцельное шатание по белу свету, останется скука, апатия и блудливые погони за каким-то несознанным делом, которое, дразня нас в перспективе – на практике самым обидным образом оставляет на бобах.
Да наконец и сам Глумов – лучше ли он других? Надевать на себя маску ментора, подсмеиваться над бесшабашностью русской культуры, указывать на три целковых, как на единственный ясный результат общекультурного возбуждения, и в то же время самому по уши погрязать в той же бесшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такие же три целковых для отправления в «дамский кружок» – разве это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумов, с каким презрением ты говорил давеча: «Жри, а не хочешь жрать – пей!» – и с каким наслаждением ты выполнил эту программу, вслед за тем, на практике. Да, и ты не больше, как продукт той же культуры! и даже не простой, а сугубый продукт! И ты – раб с головы до ног, раб, выполняющий свое рабское дело с безупречной исправностью и в то же время старающийся, с помощью целой системы показываемых в кармане кукишей, обратить свое рабство в шутку!
Мне большого труда стоило, чтоб воздержаться и не бросить этих соображений в лицо Глумову. Однако я понял, что всякий дальнейший разговор на тему о современном общественном возбуждении был бы праздным переливанием из пустого в порожнее. Тут чувствовалась какая-то путаница, в которой в одно и то же время сквозила и насмешка над тремя целковыми, и косвенное поощрение нести их в общую кассу. В чем же, однако ж, тут дело? Ежели только в том, чтоб, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдеть, а сохранять чувство собственного достоинства, так ведь это – задача далеко не лестная да и не легкая, господа! Помилуйте! я – живой человек, я хочу, я чувствую потребность шуметь и кричать! Я столько времени молчал и столько горького, почти свирепого, накопилось внутри меня за время этой молчанки, что я с жадностью цепляюсь за первый попавшийся повод, чтоб облегчить свою грудь. И ежели у меня нет личного дела, по случаю которого я мог бы свободно поведать миру о своей живучести, то я хватаюсь за дело чужое, чтоб хоть на время, хотя в своих собственных глазах, восстановить свое право на жизненную отзывчивость!
– Куда же мы едем? – обратился я наконец к Глумову.
– А кто ж его знает? Куда-нибудь! Не заехать ли, например, к Поликсене Ивановне? там бы кстати и отобедали! Извозчик! в Разъезжую!
Поликсена Ивановна – очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Муж ее, Павел Ермолаич Положилов, наш общий товарищ по школе, считался в молодости передовым и крайним, и в свое время даже потерпел за свои мнения. Потерпел он не особенно много, но испугался настолько, что и доныне вздрагивает и оглядывается, когда в его присутствии произносится какая-нибудь резкость. С тех пор он женился и повел жизнь совершенно уединенную, как будто на совесть его легло нечто такое, что мешает открытому общению с людьми. В настоящее время он занимает довольно солидное место в одном из министерств и души не чает в Поликсене Ивановне, которая, с своей стороны, инстинктом преданного женского сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, и сообразно с этим устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта – строго старозаветная. Утром Павел Ермолаич уезжает в департамент, а Поликсена Ивановна сидит дома и заботится, чтоб Павлу Ермолаичу, по возвращении из департамента, было хорошо. По вечерам оба сидят дома, любуются на детей, в гостисовсем не выезжают, но всегда очень рады, когда кто-нибудь из ограниченного числа друзей посетит их. Даже квартира у них старозаветная: в каменном доме с толстейшими стенами, без швейцара, с крашеными полами вместо паркета. Кроме казенного жалованья, составляющего фундамент, на котором зиждется благосостояние семьи (у Положиловых шесть человек детей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица в Лугском уезде. Туда семья укрывается на лето и оттуда получает на зиму запасы, в виде живности, отварных рыжиков и всевозможных сортов варений. Эта скромная деревенская субсидия помогает Положиловым жить настолько гостеприимно, что за столом их никогда не бывает недостатка в лишнем куске для приятеля. Вообще, несмотря на явный диссонанс с общим тоном петербургской жизни, дом Положиловых был бы очень приятен, если бы в нем на каждом шагу (особливо в присутствии Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно об чем-то напомнить и нечто разбередить. На этом основании никаких «резкостей» на дружеских собеседованиях не допускается, а ежели таковые и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна с изумительным мастерством умеет их сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по преимуществу около фактов, допуская «справедливую критику» их, но не вдаваясь ни в утопии, ни в радикализм. Тем не менее уже и то одно производит хорошее впечатление, что никто в этом доме не грозит очами воображаемым внутренним врагам, не предается дешевому глумлению «над стрижеными девками» * и не кричит, что авторитеты попраны и собственность потрясена.
– А в газетах-то… ужасти! – были первые слова Поликсены Ивановны после краткого взаимного приветствия.
– Вот и он тоже… тревожится! – с легкой иронией цыркнул Глумов, указывая на меня.
– Да как же не тревожиться! Ведь читаешь – даже кровь холодеет! Павел Ермолаич чуть давеча болен не сделался – так это его расстроило!
– Пользы мало от этих тревог, Поликсена Ивановна!
– Какая польза – ведь это природное! Польза пользой, а и чувство тоже девать некуда. Для пользы Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует, а кроме того, и чувствует. Неужто же, по-вашему, не так выходит?
– Не знаю, Поликсена Ивановна. Все так спуталось, что иногда даже самому себе отчет хочешь дать – и ничего не выходит. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь его вымолвить – и не вымолвишь!
– А по-моему, так совсем ничего не спуталось. Помогать надо – вот и все. Гляди на прочих, и мы у себя кружку завели, не официально, а так… Может быть, кто из знакомых и пожелает… по силе возможности.
Это было косвенное приглашение к пожертвованию, на которое мы и поспешили, конечно, ответить.
– Вот видите, – продолжала Поликсена Ивановна, – вы положили, другой, третий положит – смотришь, а в результате и помощь будет. Что же тут такого… спутанного?
– В этом-то, разумеется, ничего спутанного нет. А Павел Ермолаич где? по обыкновению, в департаменте?
– Да, уехал. Генерал ихний из-за границы воротился, так представиться поехал. Да вы не отлынивайте! скажите: в чем, по-вашему, путаница?
– Да начать хоть с того, что никто не знает, из-за чего он хлопочет.
– Ах, боже мой! да просто из-за того, чтоб помочь!
– То есть сотворить милостыню? а дальше что?
– И дальше – то же. Неужто это худо?
– Что худого! Вот я давеча утром к нему пришел – тоже чуть не в слезах застал… И с первого же слова посоветовал: вынимай, говорю, три целковых, посылай в «дамский кружок», – все болести как рукою снимет!
Поликсена Ивановна недоумело взглянула на своего собеседника. Не любила она глумовских подтруниваний, боялась, как бы они не напомнили чего Павлу Ермолаичу, не «расстроили» его.
– Не понимаю я что-то, – сказала она несколько сухо, – да и вообще… не понимаю! Вот Павел Ермолаич – тот иногда любит эти иносказания, особливо когда ему по службе свободно… А по мне…
– А по-вашему, так Глумов хоть бы и совсем уволил ваш дом от посещений? так, что ли?
– Нет, не то… какой вы, однако ж, занозистый! всякое слово ребром ставите… Не понимаю я, именно не понимаю! Не то вы смеетесь, не то правду хотите сказать!
– Это у него манера такая выработалась… езоповская, – отозвался я, – он статейки инкогнито в журналах тискает, так все цензуру объехать хочет!
– Да, так вот как! А нуте-ка серьезно: скажите-ка, что же делать-то нам?
– То самое и делайте, что делаете. Вот Павел Ермолаич два процента из жалованья жертвует; вы – кружку завели, в которую тоже, поди, процентик-другой из столовых денег откладываете. Отлично. Ведь и я, с час тому назад, вместе с прочими, своих кровных две зелененьких на блюдце положил. Тоже от других не отстанем.
– Нет, это – не то. Не то вы говорите, что думаете. Вот и Павел Ермолаич, когда я ему о своем намерении завести кружку открылась: ничего, говорит, займись! я сам два процента из жалованья жертвовать буду! И так-то ласково да мило, по наружности, сказал, а как вдумаешься, так настоящая-то у него мысль такая: забавляйся, мол, коли это тебе удовольствие может доставить!
– У Павла Ермолаича с Глумовым насчет этого «идеи» особенные есть, – попытался я уязвить.
– А ты думаешь, что так, без идей, – с одними художественными инстинктами лучше? – огрызнулся на меня Глумов.
– Нет, я не насчет идей, – вступилась Поликсена Ивановна, – идеи – что же! Это даже хорошо! Резкостей допускать не надо – это вот действительно… Но опять и то сказать: не всякий их понимает… идеи-то эти, а помочь между тем хочется. Сколько на свете маленьких людей есть, у которых просто, без идей, сердце болит – так неужто ж вся их роль в том только и состоять должна, чтоб сложа руки сидеть или фыркать?
Поликсена Ивановна умилилась. В ней, действительно, было это естественное предрасположение к сердечной боли, о которой она сейчас упомянула и которая в некоторых личностях является чертой настолько характеристичною, что составляет содержание всего их существования. Объяснять причины, обусловливающие эту боль, стараться отыскивать, сколько в ней есть сознательности или бессознательности, – было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что она существует вполне ясно и несомненно и что, исходя из нее одной и ею одной сильный, человек, сознательно или бессознательно, находит в себе энергию практически отзываться на все жизненные явления, в незримой глубине которых лежит недуг или немощь. Очень часто эта своеобразная сила достигает далеко не тех результатов, которые были в ее намерениях, а еще чаще растрачивается совсем задаром, но, во всяком случае, она – потому уже благо, что ввиду ее обыкновенное культурное фырканье представляется чем-то мизерным, почти непозволительным.
– А ведь, по-вашему, это почти что так выходит, – кончила Поликсена Ивановна, обращаясь к Глумову.
– Нет, не так.
– А то как же? Смеетесь вы над простотой, явное дело, смеетесь!
– Смех, это – форма, а в сущности, я вникнуть прошу. Хорошо и благородно – болеть сердцем, как вы болеете, да ведь и способность рассуждать не бог знает как провинилась, чтоб ее в ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику, отцу Арсению, утверждать: чувство – первее всего, а ум, яко слуга, и на запятках постоять может!
– Это вы насчет «идей», что ли? зачем их в ссылку ссылать – божьи ведь и они! Только не ко двору они у нас – это я верное слово вам говорю. Не бодрость они придают, а еще пуще в уныние вводят. Пример-то у меня на глазах: нет-нет да и заскучает мой Павел Ермолаич. Нѐлюбо с идеями-то в департамент ходить, а приходится.
– Приходится – вот это так, это правильно вы сказали. Я и сам нынче этой веры стал, хоть все еще от старой привычки отделаться не могу. Не от практики старой, которой у нас не бывало, а от лучей-то этих, которые смолоду, еще со школьной скамьи, бог весть откуда заползли в голову. Хоть и не так уж слепят эти лучи, как в былые годы, а все-таки нет-нет да и приведут в изумление. Идешь иногда, даже ходко идешь, в то самое место, «куда приходится», и вдруг словно скосит тебя. По какому, мол, человече, случаю ты в путь-дорогу собрался? с чем собрался? Скажите, что я ответить на эти вопросы могу?
– Собрался – потому что сердечное влечение есть; с чем собрался? – с чем бог послал!
– Поэзия это, Поликсена Ивановна! А вы мне лучше вот что скажите: почему у нас всякое бедствие словно шабаш какой-то в российских сердцах производит? Вся мразь, все отпетое вдруг оживает и, пользуясь сим случаем, принимается старые счеты сводить. Об здравом смысле, о свободе суждения – нет и в помине. На всех языках – угроза, во всех взглядах – намерение горло перекусить. Вон давеча поручик Живновский встретился, так и тот, чего уж отпетее: «Писат-тель! кричит, либерра-ал!» Булгарин из гроба встал: на потомков, говорит, полюбоваться пришел! Как вы полагаете: не позорно при этом «воскресении мертвых» присутствовать?
– Да не преувеличиваете ли вы?
– Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое бедствие застает наши лучшие силы врасплох и делается поводом для возбуждения каких-то непонятных старых счетов. И что всего ужаснее: люди вполне хорошие до того теряются при этом, что сами себя головой выдать готовы. Иной прямо говорит: виноваты! другой – подлейшим образом вторит в тон господам ташкентцам * или хоронится. Вот вы, и ничего не видя (сидите вы в Разъезжей, за семью замками, и видеть-то ничего вам нельзя), сердцем болеете, а кабы вы настоящую-то вакханалию видели – так ли бы у вас оно заболело! Да-с, не вымерли еще господа ташкентцы и долго не вымрут! Если мне не верите – у Павла Ермолаича спросите: он подтвердит!
Поликсена Ивановна ничего не сказала на это. При ссылке на Павла Ермолаича она как-то съежилась и даже слегка побледнела. Вероятно, не в первый раз ей приходилось эти речи выслушивать: недаром же она упомянула, что нѐлюбо с «идеями» в департамент ходить. Как ни скромен Павел Ермолаич, а невозможно, чтоб он не проговорился.
– Вот вы давеча сказали: резкостей допускать не надо, – продолжал Глумов, не унимаясь, – а ведь в переводе на обыкновенный язык это значит: держи язык за зубами! За что же, помилуйте! За что я должен вечно смотреть на себя, как на…
– Ах, оставьте это… не говорите! – не выдержала, наконец, Поликсена Ивановна.
На этом разговор оборвался. Очень вероятно, нам пришлось бы безвременно покинуть мирный приют в Разъезжей улице, если бы в эту минуту не раздался звонок, возвещавший появление хозяина.
– Это – Павла Ермолаича звонок, – шепнула Поликсена Ивановна, – пожалуйста! прошу вас! не возобновляйте этого разговора при нем!
Вопреки обыкновению, Павел Ермолаич предстал перед нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, сияло удовольствием; глаза блестели; даже в ямочке, украшавшей его бороду, замечалась радостная игра.
– Сегодня у нас, по случаю приема, заседание кончилось раньше обыкновенного, – сказал он, целуя Поликсену Ивановну и затем подавая нам руки.
– Ну что, принял? – спросила Поликсена Ивановна, которая, видя сияние на лице мужа, тоже воссияла.
– Принял.
– Здоров?
– Совершенно.
– Расспрашивал?
– И расспрашивал.
– Ах, какой ты! ты сядь, расскажи, как и что… по порядку.
– Ну, вот, собрались мы, ждем… Та̀̀к я стою, та̀к Петр Иваныч, а та̀к Николай Павлыч… – начал Павел Ермолаич свое повествование, но начало это, видимо, не удовлетворило Поликсену Ивановну.
– Ты все шутишь, – сказала она, – а ведь мне интересно! Впрочем, я уж и тем довольна, что ты-то весел!
– Чего «шутишь»! Знаю я, что тебе хочется! хочется, чтоб я сказал, что генерал меня поцеловал – так не могу солгать: не поцеловал! Вот Николай Павлович – тот, после общего представления, особенно в кабинет ходил и весь оттуда в слезах вышел: поцеловал, говорит! А курьер сказывает: нахлобучку задал!
Через полчаса мы сидели за обедом. Поликсена Ивановна, окруженная всех возрастов малолетками, – на одном конце, мы по обе стороны хозяина – на другом. Павел Ермолаич сначала новости из служебной сферы рассказывал; но так как и они в настоящую минуту вертелись по преимуществу около славянского движения, то весьма естественно, что последнее не замедлило сделаться главной темой разговора.
– И у нас что-то затевается, – сказал Положилов.
– А что?
– Есть что-то. Сегодня на приеме его превосходительство… не то чтоб прямо, а стороной… Сначала об делах говорил, а в заключение и дал понять, что русское воинство всегда было победоносно, а потому и впредь ожидать следует…
– И мне тоже сдается, – отозвался Глумов, – вчера ко мне совсем неожиданно с «нашей стороны» Иван Парамоныч пожаловал – купец такой есть, сапожным товаром торгует – наведаться, значит, в Петербург приехал. А это – верный признак, потому что у этих шакалов насчет «кровопролитиев» особенное чутье есть. Разузнавать я от него ничего не разузнавал, а стороной, грешный человек, поддразнил: а что, говорю, Иван Парамоныч, кабы тебе поставку сапогов для армии и флотов предоставили, угобзил бы ты, чай, солдатиков? Так у него даже нутро заколыхалось в ответ: вот как перед истинным! говорит.
– Да, теперь ихний черед наступил! только вот что неладно: покуда эти Парамонычи, вкупе с Шмулями да с Лейбами, армии и флоты угобжают, а ты сиди да смотри на них!
– Что так? разве строгие времена пришли?
– Да не без того… Не всяко касаться можно, особливо ежели в связи-с…
Положилов случайно взглянул на Поликсену Ивановну и прочитал в ее глазах неодобрение.
– А впрочем, не наше это дело, – сказал он. – Поликсена Ивановна это лучше знает – вон как грозно на меня посмотрела.
– Совсем не грозно, говори, коли хочешь! А вообще я… Сверху виднее, мой друг! а мы – что мы можем в таких делах видеть?
– Разумеется, разумеется! с нас и наших личных маленьких дел довольно! Вот, например, солонину мы едим – это я могу… Ишь она, солонина какая – масло!
– Да, брат, это… со-лло-ни-на! – восторженно отозвался Глумов. – А он вот обижается, что за границей, за табльдотами, немцы болтают: вас, мол, казаков, за Волгу надо, в Саратов! А по мне – так и в Саратове солонина от нас не уйдет!
– А насчет икры так даже лучше!
– Ах, господа, господа! – укоризненно промолвила Поликсена Ивановна, покачивая головой.
– Ну, баста! Не наше дело. А для того чтоб уж совсем все в порядке было, чтоб даже разговаривать некогда было – знаете, господа, что мы сделаем? Засядемте-ка после обеда в сибирку с болваном!
– И отлично!
– Я нынче все в сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для сердца – ничего! А между тем алчность является – смотришь, время-то и без внутренних вопросов летит!
Так мы и сделали. С шести часов до одиннадцати проиграли в сибирку, причем Положилов обоих нас обыграл на три рубля (и не удивительно, потому что подле него, для счастья, с левой стороны сидела Поликсена Ивановна) и сейчас же положил их в копилку, в «пользу страждущих братьев». Затем подали закусить опять ту же солонину, но уже холодную, причем Положилов совершенно основательно заметил, что этот кусок – от огузка, а потому в холодном виде много теряет, а вот край или филей, так тот в холодном виде, пожалуй, даже лучше, нежели в горячем. Поликсена же Ивановна, с своей стороны, присовокупила, что, когда она с маменькой в Вятке жила (отец ее на службе там был), так там учили в кадочку солонины языков говяжьих с пяток припустить – вот это так солонина бывает!
В первом часу ночи мы вышли от Положиловых. Дорогой я начал припоминать проведенный день, и – клянусь – мне сделалось стыдно.
– Как странно, однако ж, мы проводим наши дни! – сказал я, обращаясь к Глумову.
– Что же тут странного?
– Помилуй! утро в кабаке провели, вечер – в сибирку играли, об солонине разговаривали… ведь это, наконец, неприлично!
– А по-моему, так мы именно самым приличным образом по-русски время провели. Наелись, напились, наигрались – чего больше! А теперь вот придем домой, ляжем спать и скажем себе: день прошел – и слава богу!








