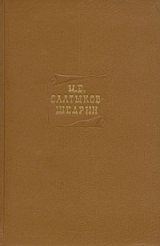
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 56 страниц)
– Ваше замечание очень метко, – сказал я, – но едва ли оно исчерпывает предмет вполне. Я, по крайней мере, имею основание полагать, что в некоторых случаях даже лучше, ежели периоды не имеют полной синтаксической округленности.
– Ну, уж это странный вкус у вас, сударь!
– Нет, это не личный мой вкус к синтаксической безурядице, а просто инстинкт самосохранения.
– Самосохранение-то как же тут попало?
– Очень просто. Помните, в тот раз, как мне приходилось туго и вы пришли мне на помощь – чем вы меня из беды вызволили?
– Чем, например?
– А тем именно и вызволили, что начатой период без округления оставили. Согласитесь, что если бы в ту пору Сахар Медович период-то свой округлил, – вряд ли бы мне сегодня у вас обедать!
– Да! так ты вот об чем? случай-то этот вспомнил?
– Нет, я не об одном этом случае говорю, а вообще… Вспомните-ка, Алексей Степаныч, один ли такой казус с вами был, где вы, вместо округлений, «обстановочки» разные придумывали?
– Мало ли со мной случаев было – и не перечтешь! Вот даже намеднись – призывает он меня к себе и говорит: «Так как, говорит, наблюдения за современным настроением умов обнаруживают, что превратные толкования»… Да, к счастию, на самом этом месте курьер с письмом от метрески подоспел… ну, он и бросил период без округления!
– А как вы думаете, если бы не случилось этого письма, в каком бы смысле ваш Сахар Медович свой период округлил?
– Поход бы, вероятно, против обывателей объявил. Да, мой друг, есть в твоих словах правда! есть! Оно, конечно, странно начала без концов слушать, а как подумаешь…
– Не наоборот ли, Алексей Степаныч? не правильнее ли будет сказать, что нам чаще концы без начал выслушивать приходится? По крайней мере, что до меня, то мне именно сдается, что в тех «периодах», о которых мы с вами повели речь, совсем не «то» и «но» в отсутствии, а именно «так как» и «хотя».
Вместо ответа Алексей Степаныч взял меня за локоть и крепко пожал его, как бы заявляя о своем сочувствии.
– Знаете ли что! – продолжал я, поощренный этим вниманием, – вот вы прошлый раз, встретясь со мной, на молодых чиновников жаловались, что они к «делу» не прилежны, больше тем занимаются, что папиросы курят да из «Мадам Анго» мотивы насвистывают. Конечно, с точки зрения производительности труда, они поступают неправильно. Но ведь, с другой стороны, представьте себе, что вдруг, по мановению волшебного жезла, эти люди перестают курить и свистать и все разом присаживаются вплотную за дело… ведь это что ж такое будет!
– Да, да, да! Вот и сами они то же говорят! Подойдешь, это, к ним иногда: шалберничаете, мол, вы, господа молодежь! А они: да разве лучше будет, коли мы всписываться-то начнем?
– Вот видите ли! Положим, что они не серьезно это говорят, а больше лень свою оправдывают, однако и в этой лени есть что-то такое… провиденциальное!.. – Сообразите же теперь! в одном месте лень, в другом – метреска, в третьем – еще случайность какая-нибудь – смотришь, ан «периоды»-то и остаются без округления!
– Однако, не любишь ты этих «периодов»! Ну, а вы, молодые люди, какого на этот счет мнения? Ты, Павел Алексеич! как ты об этих периодах полагаешь?
Я заметил, что, покуда мы вели эту беседу, молчалинская молодежь не обращала на нас никакого внимания. Даже взрослые молодые люди, как Павел и Соня, – и те держали себя особнячком, не только не вмешиваясь в разговоры старших, но даже и не прислушиваясь к ним.
– Что такое? Об чем вы, папенька, спрашиваете? – отозвался Павел Алексеич, застигнутый врасплох.
– А ты бы, мой друг, и прислушался иногда! Ведь старшие-то не всё одни пустяки говорят!
– Ах, папенька! вы ведь знаете, что я не интересуюсь этим!
– Чем «этим»-то?
– Да вот… внутреннею политикой этой… мероприятиями…
Павел Алексеич как-то загадочно улыбнулся и, обратясь к сестре, начал шептаться с нею, как бы возвращаясь к прерванному разговору. Алексей Степаныч укоризненно покачал на него головой.
– Вот они, молодые-то люди наши! – сказал он, – никакого в них к жизни внимания нет, все где-то витают, в эмпиреях каких-то!
– Вот уж извините! – обиделась Софья Алексеевна, – это вы в эмпиреях живете, а мы признаем только действительность, или, лучше сказать…
– Знаю я, сударыня, про какую ты действительность говоришь! А ты бы лучше сказала, как ты на нашу-то, на настоящую-то действительность смотришь? Так, мол, мистерия какая-то… представление балетное!.. Поверите ли, сударь, – обратился он ко мне, – даже об истории говорят, что совсем, мол, это не история, а затмение! Мимо идоша и се не бе! * А вот оно когда-нибудь укусит тебя, «затмение»-то, так ты не то, стрекоза, заговоришь!
– Уж оставил бы ты их, Алексей Степаныч! не трогают они тебя! – вступилась Анфиса Ивановна.
– Ведь и я не в укор, сударыня, а для их же пользы говорю. Ведь им жить посреди этой мистерии-то придется!
– Проживем как-нибудь! – отозвался Павел Алексеич.
– Нет, не проживешь, мой друг. Потому, хоть оно и через пень колоду на свете идет, а все же не затмение происходит. Вот он, городовой-то, на углу стоит! Городовой, сударь, а не мистерия!
– Я очень хорошо это понимаю.
– А понимаешь ли ты, в чем состоят его права и обязанности, вот этого самого городового?
– Права его состоят в том, что он может остановить и отправить в участок всякого, кто ему под силу; обязанности – в том, чтоб делать кому следует под козырек.
– Ан вот и соврал. Таких прав у него нет, чтоб всякого хватать. А ежели он это сделал, так у него начальство есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!
– Нет, уж я лучше предпочитаю не ходить по той улице, где завижу городового. Покойнее.
– Да ведь таким образом тебе на тот свет уйти придется, потому что на этом-то свете нет вершка земли, на котором бы ты с городовым не встретился!
Павел Алексеич даже не возразил на это. Для меня очевидно было, что разговор этот начался не сегодня и ведется без всякого результата для обеих сторон.
– Недоумение нынче какое-то, – продолжал Алексей Степаныч, – никакого общего разговора в семействе нет. Сидим мы, бывало, при покойном батюшке за столом – и все у нас разговоры простые, для всех понятные: и для родителей, и для детей. Ну, и с Павлом Афанасьичем тоже: он, бывало, говорит – я понимаю, я говорю – он понимает. Уж на что Александр Андреич мудрен был – и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и разные, да сюжет-то один. А нынче словно на две половины раскололося: один – свое, другие – тоже свое.
– Мы, папенька, вас любим… и мы вам очень благодарны… неужто вы сомневаетесь? – отозвался Павел Алексеич.
– Знаю, мой друг, и не сомневаюсь! Вот только в мыслях у нас согласия нет!
– Да что же будет проку, ежели я, по наружности, буду соглашаться с вами, а внутренно нет?
– А ты сначала наружно согласись, а там, может быть, и внутреннее согласие придет. А то вон хоть бы намедни: получил я от Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодетельницей назвать – так какой они содом из-за этого подняли!
– Какая же она благодетельница ваша? Вы в Чацких нуждались, Чацкие – в вас. Это взаимный обмен услуг. И уж, конечно, вы больше одолжений им сделали, нежели они вам!
– Молод ты! – вот что, мой друг! Взаимный обмен услуг! А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынке грош стоят, а ихние услуги – милостями называются! Вы как об этом думаете? – обратился Алексей Степаныч ко мне.
– Я думаю, что в ваши отношения к Чацким замешалось совершенно особенное чувство, о котором люди современного молодого поколения не имеют да и не могут иметь ясного представления. В старину жизнь сопровождалась известными осложнениями, которые в настоящее время могут иметь место только в исключительных случаях. Вспомните о крепостном праве, около которого вертелись все прочие жизненные явления. Кто из наших детей поверит, что когда-то существовал такой жизненный строй, в котором все человеческие чувства являлись до такой степени спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, где кончалась преданность и где начиналась ненависть. То же должно сказать и о другом явлении того же порядка: о покровителях и благодетелях. Как бы ни почтенно было благодеяние само по себе, но оно непременно порождает в благодетельствуемых известное нравственное раздвоение, с которым может примирить человека лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно, что когда руководящим началом человеческих действий выступает чувство личной ответственности, то представление о «благодеяниях» как-то невольно отступает на задний план.
Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имел в виду поразить молодого Молчалина либерализмом моих взглядов. Но я горько ошибся. Молодой человек воспользовался моим вмешательством единственно для того, чтоб отделаться от вопросов отца и беспрепятственно возобновить разговор с соседями.
– Может быть! – может быть! – отвечал Алексей Степаныч в раздумье, – точно, что прежде случалось что-то похожее. Вот хоть бы эта самая Лиза – помните, что у Софьи Павловны во фрейлинах была? – сколько раз она мне говаривала: уж так мне эта барышня ненавистна! – кажется, в целом свете постылее ее человека нет! – Что ты, глупенькая! – начнешь ты ее, бывало, урезонивать, – какой еще тебе барышни лучше! Два-три раза платье наденет – и тебе отдает! – Нет, говорит, Алексей Степаныч! Верите ли, говорит, как начну я ее утром обувать – она в постели лежит, а мне ножку протянет – ну, так она мне ненавистна! – так ненавистна!.. И что ж бы вы, сударь, думали! Как объявили, этта, волю – ни она, ни Петр-буфетчик так-таки ни минуты у Чацких и не остались! И не забудьте, ему под шестьдесят, да и ей тоже под эту цифру в это время было!
– Может быть, капиталец скопили?
– Как не скопить – был капиталец! Да чего! Из Венева-то явились сюда * , мелочную лавочку здесь сняли, а через год и в трубу вылетели! После уж к нам наниматься приходила; да я, признаться, побоялся нанять, а к Софье Павловне отписал: гак, мол, и так, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?
– Что ж Софья Павловна?
– Ничего. Зла, говорит, я не помню, а прощать только бог может, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитве его о том прошу, чтоб он сей ужасный ее грех простил.
– Однако строгонька-таки Софья Павловна!
– Человек, сударь, – слабости свои имеет. Да ведь и обработала же их меньшая братия-то! Александр-то Андреич, чай, сами знаете, всегда либералом был, а тут, как комитеты-то эти в пятьдесят восьмом году открыли * , – он и еще припустил. Тогда, впрочем, везде эти либеральные лавочки завелись. И что ж бы вы думали! – как только рескрипт пришел * , на другой же день у Александра Андреича ни одной души из дворни не осталось! Ну вот, он и нашелся в фальшивом положении: с одной стороны, по закону, два года имеет право безмездно услугой пользоваться, а с другой стороны – либерализм примешался…
– Как же он выпутался?
– Победствовал-таки, а после того, однако ж, задумываться стал: «хороша, говорит, свобода, но во благовремении».
В эту минуту в среде молодых людей раздался взрыв сдержанного смеха.
– Вы чему, господа, смеетесь? – полюбопытствовал Алексей Степаныч.
– Ах, папенька, неужто ж нам посмеяться между собой нельзя! – вскликнула Соня.
– Отчего не посмеяться! да отцу-то отчего не открыть?
– Разве вам интересно? Ну, мы об учителях вспомнили!
– Вот она так всегда мне отвечает! С Павлом Алексеичем хоть целый день шушукаться готова, а перед отцом – молчок! И об чем только вы шушукаетесь? Верно, он и тебя нашпиговал, что человек от обезьяны происходит?
– Вы, папенька, в таком странном виде это представляете, как будто я говорю, что это вчера или третьего дня произошло, – вступился Павел Алексеич.
– Что вчера, что за шесть тысяч лет, – это все равно, мой друг! Все-таки оно неправильно. Потому сказано: Адам, Ева… и притом в шестый день… Как же ты после этого об Адаме и Еве полагаешь? *
– А так и полагаю, что ничего не полагаю!
– Нельзя не полагать, мой друг! велено полагать! По-твоему, и мир не в семь дней сотворен, и от сотворения мира до Рождества Христова не 5508 лет протекло, а несколько десятков тысяч столетий – так, что ли?
– Ах, папенька! вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!
– Для твоего добра, мой друг! Ведь ты и при посторонних людях чепуху-то эту несешь, а нынче, слава богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчик, держи! Ты линию-то свою веди, да так, чтоб комар носу не мог подточить!
– Слушайте-ка, Алексей Степаныч! – вступился я, – а помните, что вы сами давеча насчет молодых-то людей говорили?
– Что же такое?
– А вот, что молодым людям и самих себя довольно, что не правы те старики, которые претендуют, что молодые люди не ищут их общества.
– Так-то так, да ведь родительское сердце – загадка, сударь. Ежели рассудить по справедливости, так оно и действительно так: какие же у нас с детьми общие разговоры могут быть? Баловать их, жалеть, радоваться на них – вот настоящая задача! Ну, а как коснется до дела – тут и спасуешь! Все думаешь, как бы поближе да потеснее, да как бы за свою любовь-то благодарность получить!
Сказавши это, Алексей Степаныч так нежно и любовно погладил по голове маленькую Леночку, сидевшую около него по правую руку, что та сейчас же расшалилась и опрокинула к нему все свое светящееся личико.
– Следовательно, – продолжал он, – всякому свое. И старикам, и молодым. Мы – будем об нынешнем направлении рассуждать, а молодежь – пусть сама для себя сюжеты выискивает!
Обед кончился; мы встали из-за стола и, в ожидании кофея, приютились с Алексеем Степанычем в его кабинете.
– Я такого об нынешнем направлении мнения, – начал он, – что к тому, видимо, все клонится, чтоб не рассуждать. Совсем чтоб это оставить! И ежели ты на этой линии стоишь твердо, то никто, значит, тебя и не потревожит!
– Гм… а ведь это, Алексей Степаныч, тоже своего рода «период»… и даже довольно округленный!
– Настоящего «периода» покамест еще нет, а из отрывочков, действительно, можно это самое заключить.
– Стало быть, по вашему мнению, если хочешь прожить мирно, то стоит только не рассуждать? – резюмировал я в раздумье.
– Верно!
– Что ж! Я думаю, что так-то даже легче. Вот только в литературе… ведь она, пожалуй, одним рассуждением и живет!
– А в литературе – рассуждай о нерассуждении!
– Да? стало быть, существует особенный вид рассуждения: рассуждение о нерассужденни?
– Именно. На днях я в одной газете целую передовую статью о нерассуждении прочел – бойко написано!
– Гм… надо об этом подумать!
– И так, сударь, он, сочинитель этот, ловко эту материю обставил, что даже ни одним словом прямо не проговорился: не рассуждай, мол! А говорит: рассуждай – но в пределах!
– Да ведь в том-то и штука, Алексей Степаныч, как пределы-то эти отыскать?
– И об этом он говорит. У всякого, говорит, свой предел есть. Ты сапожник – рассуждай об сапоге; ты медик – рассуждай о пользе касторового масла, как, в какой мере и в каких случаях оно должно быть употреблено; ты адвокат – рассуждай о правах единокровных и единоутробных…
– А ежели, например, философ?
– А такого звания, кажется, у нас не полагается!
– Ну, не философ, а публицист, поэт, романист?
– Ежели публицист – пиши о нерассуждении; ежели поэт – пой:
Я лиру томно строю, *
Петь грусть, объявшу дух:
Приди грустить со мною,
Луна, печальных друг!
Пжели романист – пиши сказание о том, как Ванька Таньку полюбил * , как родители их полагали этой любви препятствия и какая из этого вышла кутерьма! Словом сказать, все ремесла, все отрасли человеческой деятельности сочинитель этот перебрал – и везде у него вышло, что без рассуждения не только безопаснее, но даже художественнее выходит!
– Да; надобно, надобно об этом подумать, и ежели действительно есть возможность…
– Подумай, мой друг! А еще лучше, коли не думавши! Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потом, смотришь, и рассуждение пришло!
– Ну, а вы сами как, Алексей Степаныч? Пробовали ли вы без рассуждения жить?
– Я, мой друг, всю жизнь без рассуждения прожил. Мне покойный Павел Афанасьич раз навсегда сказал: «Ты, Молчалин, ежели захочется тебе рассуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснет бог и расточатся врази его! * – и расточатся!» С тех пор я и не рассуждаю, или, лучше сказать, рассуждаю, но в пределах. Вот изложить что-нибудь, исполнить – это мой предел!
– Однако вы – начальник отделения. В этом качестве вы мнения высказываете, заключения сочиняете!
– И все-таки в пределах, мой друг. Коли спросят – я готов. Скромненько, потихоньку да полегоньку – ну, и выскажешься. А так, что называется, зря я с мнениями выскакивать опасаюсь!
– А разве, несмотря на эту осторожность, вас не тревожили?
– Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, каким домком обзавелся.
– Да, домик хорош. А генерал-майор Отчаянный? А молодой князь Тугоуховский? А эта беспрестанная боязнь, что вот-вот сейчас велят в отставку подать?
– Ну, это, мой друг, не тревога. Это уж такая жизнь!
Я ничего не сказал на это. Замечание Алексея Степаныча заставило меня задуматься. Молчалин прав, думалось мне, он не вполне сознательно, но очень метко определил положение. Действительно, тревоги нет там, где есть «такая жизнь». Он ошибается только в том, что полагает, что «такая жизнь» есть личный удел его и ему подобных. Нет, это удел очень многих, начиная с так называемого «непомнящего», ночующего в стогах сена * , и кончая так называемым «деятелем», тщетно отыскивающим себе местожительство в кустах. Ежели эти люди еще не убедились, что все их существование есть не что иное, как «такая жизнь», ежели некоторые из них, кроме того, ждут и еще какой-то тревоги, ими не испытанной и не предвиденной, то это означает только, что они не вполне покорились, что хотя они и говорят о тревогах, но собственно ждут от жизни не тревог, а благостынь. Вот Молчалин прямо сказал себе: для меня нет тревог! для меня существует только «такая жизнь»! – и благо ему! Это сознание дает ему силу не только перенести «такую жизнь», но даже, по силе возможности, и украсить ее. У него есть угол, есть семья; он не ночует в стогах сена и не прячется в кусты. Не благоразумнее ли было бы и со стороны всех «непомнящих» и «деятелей», если бы и они последовали примеру Молчалина? Подумайте об этом, милостивые государи! Потому что ведь ежели Алексей Степаныч и говорит, что настоящего «периода» нет, то он же присовокупляет, что и из «отрывочков» достаточно заключить можно…
Я взглянул на Алексея Степаныча: он был так светло спокоен, он с таким блаженным добродушием попыхивал свою сигару, дым которой отзывался не то печеными раками, не то паленым бараньим полушубком, что я вдруг смутился. Одну минуту мне даже показалось, что передо мной сидит своего рода эпикуреец той «такой жизни», все элементы которой так искусно сложились, что даже устранили всякое представление о «тревоге». «Да! это оно… оно самое!» – твердил я себе, совершенно явственно ощущая, как я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца. Я уже хотел перекреститься и трикраты прочитать: «Да воскреснет бог и расточатся…» – как вдруг мне пришло на мысль, что есть и еще два сомнения, которые мне необходимо разъяснить.
– Прекрасно, – сказал я, – в принципе я совершенно согласен, что ежели человек не рассуждает, то тревожить его нет причины. Это великий принцип современной жизни, это ее палладиум, это безопаснейший ночлежный приют для всех «непомнящих». Но меня тревожит, во-первых, следующее соображение: ведь человек носит на себе образ и подобие божие! Вы христианин, Алексей Степаныч! Подумайте, как же с этим-то быть? как отказаться от образа и подобия божия? как не рассуждать, когда дар рассуждения есть главная характеристическая черта этого образа и подобия?
– Ну, мой друг, по нынешнему времени эти уподобления-то оставить надо!
– Как! оставить! да ведь это кощунство!
– А как бы вам сказать… Вот автор-то статьи, об которой я упоминал, совсем напротив говорит. Не тот, говорит, кощунствует, кто, не рассуждая, исполняет предначертанное, а тот, кто рассуждает – во вред. Вот, говорит, где истинное и действительное оскорбление образа и подобия божия!..
– Стало быть, вообще-то говоря, рассуждать не возбраняется, но только нужно, чтоб эта способность проявлялась, во-первых, в пределах и, во-вторых, не во вред? Так, что ли?
– Да, мой друг!
– И, стало быть, ежели не умеешь отыскать «пределов» или не можешь отличить, что вредно и что полезно, то…
– То лучше не рассуждать!
Мы на минуту умолкли и смотрели друг на друга не то в изумлении, не то как будто нам самим было совестно, что мы пришли к таким результатам. Но я решился выпить чашу до дна и первый прервал молчание.
– Прекрасно, но что вы скажете насчет следующего соображения? Вот мы имеем порох, книгопечатание, пар, железные дороги, шасспо̀ * , голубиную почту, аэростаты… Мы, наконец, едим печеный хлеб, а не питаемся сырыми зернами ржи… Не правда ли, что все это приобретения очень и очень полезные? Как вы, однако ж, думаете: если бы люди не рассуждали, обладали ли бы мы всеми этими благами?
– И насчет этого в статье говорится. «Правда, говорит, что есть вещи, которых польза признана всеми и осуществление которых было бы невозможно без некоторого полета ума, но и на этот случай существует известная комбинация, при помощи которой могут быть удовлетворены все интересы. Пусть те, которые имеют склонность к умственным полетам, прибегают к оным под личною за сие ответственностью! пусть изумляют они мир величием и смелостью своих открытий и изобретений! пусть воспользуются за оные сладчайшею в мире наградою – славой! Но разве это мешает нам, избегающим упомянутых полетов, ради ответственности, с ними сопрягаемой, пользоваться плодами оных? – Отнюдь!» Да, мой друг! нужно только терпение, а прочая вся приложатся! Есть и без нас кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай их! Ведь оно, выдуманное-то, и без того в свое время до нас дойдет – тогда мы и попользуемся!
– Следовательно, как ни кинь, а в результате все выходит: не рассуждать?
– Ежели по тому судить, что в статье говорится, то видимое дело, что оно к тому клонится.
– Попробуем, Алексей Степаныч! попробуем!
– Попробуй, мой друг!
Сказавши это, Алексей Степаныч словно оживился весь. Он даже переменил свое спокойное положение на диване и всем корпусом потянулся ко мне, чтоб еще крепче меня убедить.
– И совсем это не так трудно, как ты себе представляешь, мой друг! Нам вот, чиновникам, не только рассуждать не полагается, да еще чужие рассуждения переносить приходится – и то живы! А от тебя только одно требуется: находись в пределах! – и то ты ропщешь!
– Не ропщу, а не знаю… пределов найти не могу, Алексей Степаныч!
– Ну, бог милостив!.. вместе как-нибудь… общими силами… найдем!!
Алексей Степаныч сказал эти слова несколько вяло. Мне показалось, что при последнем слове он даже зевнул.
– Извините, пожалуйста! – встрепенулся я, – ведь у меня совсем из головы вон, что вы, кажется, имеете привычку отдохнуть после обеда?
– Есть тот грех, мой друг!
– Ну, так вот что, Алексей Степаныч! наставления ваши я постараюсь исполнить; но только, если бы паче чаяния – ведь плоть-то немощна! – вы ведь не откажетесь все-таки в мою пользу «обстановочку» сделать?
– Сделаю, мой друг! с удовольствием сделаю!
– А ежели так, то выходит, что сегодняшний разговор привел нас к следующему результату. Три главных признака имеет современное направление: во-первых, отсутствие округленности в «периодах»; во-вторых, стремление к нерассуждению, и в-третьих, возможность «обстановочек». Воля ваша, а последний признак мне гораздо больше нравится, нежели, например, второй!
– Губа-то у тебя не дура!
– Равным образом, я ничего не могу сказать и против отсутствия округленности в «периодах» – бог с нею, с этою округленностью! Пожалуй, как округлять-то навострятся, – того гляди, так округлят, что и навек болваном останешься! Вот только с нерассуждением трудненько будет сладить!
– Бог милостив!
– Да, надо будет! надо! Потому что в наши годы и вдруг…
– Что ты! еще что вздумал! Про «обстановочку»-то забыл? А мы вот тут-то ее и пустим!
С этими словами мы пожали друг другу руки и расстались.








