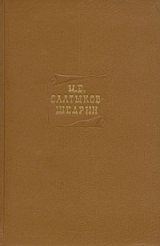
Текст книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 56 страниц)
– Прекрасно! – воскликнул Алексей Степаныч, – но я бы весь конец, начиная со слов: «вот хоть бы, например» – выкинул! Не наше, брат, дело об этом судить.
– А в особенности подстрекать каких-то безобразников! – прибавил я.
– Позвольте, господа! дело – совсем не в безобразниках, а в том, чтоб послать кому следует косвенный укол, – объяснил Молчалин 2-й, – сегодня укол, завтра укол, – ан, смотришь, газета-то и с репутацией!
– Да, но все-таки уколы должны иметь в основании своем известную степень достоверности, – возразил я, – но этого-то именно качества в настоящем случае и недостает. Ибо что же мы, в самом деле, знаем о Черном море? Вы пишете: сиротеет Черное море! – а может быть, оно и не «сиротеет»! Может быть, там и невесть что затевается! *
– Гм… да… Впрочем, ведь оно и действительно… Сиротеет ли Черное море или не сиротеет – нам-то что за печаль?
– Какая же тут печаль!
– Разумеется, никакой печали нет!
– Ведь мне, собственно говоря, подписчик нужен!
– Вот-вот-вот! Следовательно…
Молчалин 2-й, махнув рукой, похерил, что следует, и продолжал:
– «У нас в Петербурге, конечно, нет безобразников, плавающих в рыбных сажалках, но взамен того мы имеем действительных статских кокодесов * , которые по вечерам наполняют наши кафешантаны и в них, по-видимому, воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части. Это – совсем особенный сорт людей, находящихся в большой дружбе с татарами петербургских ресторанов и в большой вражде с русской литературой. Везде, где метет пол или аллею шлейф паскудной кокотки, везде, будьте в том уверены, встретите вы и трущегося около нее действительного статского кокодеса».
– Стой! это что же такое? кого же он под действительными-то статскими кокодесами разумеет? – изумился Алексей Степаныч.
– Вероятно, это – наши молодые действительные статские советники, – скромно объяснил я, – названные так ради игры слов. Молоды они, – ну и трутся в свободное от занятий время.
– Ну, брат, это нельзя! Помилуй! государственный чин – и такое вдруг поругание! – возмутился Алексей Степаныч.
– Я полагал бы, вместо «действительных статских кокодесов», употребить выражение «нигилисты», – предложил я.
– То есть действительные статские нигилисты?
– Нет, просто «нигилисты», потому что ежели сказать «действительные статские нигилисты», то ведь и это, пожалуй, за намек примут.
– Но как же согласить: с одной стороны «нигилисты», а с другой – «воспитывают себя для дальнейших подвигов по административной части»?
– И эти слова можно изменить. Например, сказать: «воспитывают себя для подвигов постыдного пропагандистского искусства».
– Прекрасно! Исправляй и читай дальше!
– «Вы можете узнать действительного статского кокодеса по следующим характеристическим признакам: он молод, но уже слегка расслаблен; лицо у него испитое, и потому он позволяет себе подрумяниваться; усы проведены в нитку; борода тщательно выбрита; походка переваливающаяся, свидетельствующая о бурно проведенном в казенном заведении детстве; разговора ни о чем вести не может, кроме как о милой безделице и ее свойствах * ; но на этой почве остроумен, находчив и неистощим. Некоторые из этих господчиков должны значительные суммы не только содержателям петербургских ресторанов, но и служащим в них касимовским князьям. Нам рассказывали такой случай (за достоверность которого, впрочем, не ручаемся), что на днях целая стая действительных статских кокодесов забралась ночью к одной известной кокотке, послала к Борелю * за ужином и вином и, насладившись вполне лукулловским пиршеством, исчезла, предоставив «погибшему, но милому созданию» * уплатить по счету».
– А ну-ка братец, прикинь, как оно будет, ежели вместо действительных-то статских кокодесов поставить нигилистов? – спохватился Алексей Степаныч.
Молчалин 2-й вновь пробежал глазами по корректуре, пошептал про себя и воскликнул:
– Нет! не годится!
– То-то и мне показалось, что не ко двору нигилистам эти кокотки, – сказал Алексей Степаныч, – насчет чего другого, а уж насчет кокоток… кажется, этого греха за ними не водится?
– Как же тут быть? Офицеров, что ли…
– И ни-ни! И не думай! – испугался Алексей Степаныч.
Начали совещаться, чем бы заменить нигилистов, и долгое время не могли прийти ни к какому результату. Наконец меня осенила счастливая мысль.
– Послушайте! – сказал я, – да об чем же мы говорим! Поставьте «адвокаты» – будет и правдоподобно, и без риску! *
– Ах, бог ты мой! А мы-то разговариваем! Ну, батюшка, исполать вам! Представьте себе: ведь я уж давно догадался, что есть тут какая-то неловкость, и все время, покуда корректуру правил, – все думал: чем бы этих нигилистов заменить? И что ж! всякие должности так и вертятся на языке: и нотариусы, и мировые судьи * , и гласные городской думы * , и даже члены трактирной депутации, и, наконец, офицеры, а самого-то главного, самого-то подходящего звания – так ведь и не пришло на ум! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у нас все как по маслу пойдет!
– «Рассказывают еще другой случай: один действительный статский кокодес (то есть адвокат) явился вечером в демидрон, держа на руке какое-то шерстяное одеяние, которое все приняли за плед. По обыкновению, он уселся в обществе «этих дам» и в продолжение некоторого времени вел себя довольно прилично. Но потом вдруг развернул предполагаемый плед – и что же оказалось? – что у него, вместо пледа, очутились в руках штаны, которые он будто бы второпях захватил (о, милая, наивная находчивость в объяснениях!). Можно себе представить восторг этих дам при виде столь знакомой им принадлежности мужского туалета! Хохот и взвизгивания не умолкали в продолжение целого часа, и – что любопытнее всего – в довершение спектакля милейший petitcrevé – по требованию погибших, но милых созданий, имел обязательность пройти по всем аллеям ликующего демидрона, держа на плечах этот новоизобретенный плед. Скандальная хроника ничего не говорит о том, делали ли во время этого оригинального шествия дежурные городовые под козырек».
– А ведь это, кажется – истинное происшествие рассказано? – прервал я.
– Чего «кажется»! С нашим и было! – объяснил Алексей Степаныч, – на другой день, при докладе, сам мне расеказывал! Представьте, говорит, какое недоразумение вчера со мной вышло! А я себе молчу да думаю: рассказывай «недоразумение»! чай, нарочно всю штуку проделал, чтоб своей Альфонсинке удовольствие доставить!
– Но ловко ли, в таком случае, будет предавать это происшествие гласности? – усомнился Молчалин 2-й.
– Небось! Не обидится! Еще лестно будет, как на всю-то Россию репутацию любезного молодого человека приобретет! Вот если бы ты напечатал, что он «Историю Государства Российского» * сочинил – ну, тогда не знаю: может быть, и обиделся бы. Да и то по неведению. Подозрительны они нонче, мой друг! Ведь другой с самой школьной скамьи книги-то в глаза не видал, да и напуган к тому, – ну и думает, что все – прокламации! *
– «Таким образом, обещание мое исполнено: «мысль» найдена, и притом не простая «мысль», но сопровождаемая анекдотами вполне современного характера. По-настоящему, следовало бы на этом и остановиться, но я с ужасом замечаю, что все до сих пор мною написанное займет отнюдь не больше шести газетных столбцов, тогда как я во что бы то ни стало должен написать таковых двенадцать. Двенадцать столбцов убористой печати – это жестоко! Тяжело положение почтовой лошади, обязанной пробегать от сорока до пятидесяти верст в сутки, но в пользу ее все-таки существует смягчающее обстоятельство: она не имеет надобности выдумыватьэтой ежедневной порции в сорок – пятьдесят верст. Эти версты даны ей независимо от ее выбора; она – на то лошадь, то есть существо несвободное и неразумное, чтоб по первому требованию бежать куда глаза глядят. Напротив того, фельетонист по природе своей предполагается одаренным свободою выбора и не рожденным для ремесла почтовой лошади. Но в том-то и дело, что природа – сама по себе, а условия жизни – сами по себе. Эти последние большею частью так горько складываются, что человек собственным умом доходит до убеждения, что он – не человек, а лошадь. И, раз придя к этому убеждению, он свободноизбирает себе ремесло фельетониста, то есть обязывается раз или два в неделю (смотря по требованиям аппетита) пробегать, в виду читателя, известное число верст. Но и этого еще мало: он обязывается населить эти версты призраками своей фантазии, и не такими, какие ему по душе, а такими, которые по душе другим и притом благовременны. И когда он вздумает пожаловаться читателям на безнадежность этой карьеры, ему говорят: самвиноват! самвыбрал себе ремесло – ну, и скачи, куда глаза глядят!
Итак, вперед. Оседлаю я коня быстролетного, запрягу я его в саночки-самокаточки и поведу к нему такую речь: конь мой, конь ретивой! сослужи ты мне службу верную, понеси меня через долы, через горы, через поля и луга, понеси за моря-окианы, за синюю даль, в один миг облети степи-поля неохватные, леса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, немереное, море горького русского гореваньица, море бесконечно льющихся русских слез! Одним словом, помоги мне написать фельетон, в котором было бы ровно двенадцать столбцов и который одинаково понравился бы и читателям, и цензурному ведомству.
Но стоит мой конь как вкопанный; стоит ретивой – не шелохнется, стоит – не бежит, ушми прядет, копытами землю роет. Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?»
Молчалин 2-й прочитал эти строки скандуя и с большим чувством. Я тоже, признаться, был тронут.
– Это – подражание «Слову о полку Игореве», – сказал он, – и я должен сознаться, что мой фельетонист имеет на этот счет особенное какое-то чутье.
Но Алексей Степаныч самым добродушным образом расхолодил наши восторги.
– То-то вот и есть! – сказал он, – нас, чиновников, пустозвонами зовут; говорят, якобы мы из пустого в порожнее переливаем, а попробуй я, например, в докладе сряду и оседлать коня, и запрячь его в саночки-самокаточки, – ведь директор-то, поди, в отставку велит мне подать!
– Чудак ты, братец! ведь это уж размер старинных русских песен таков! – попробовал выгородить своего сотрудника Молчалин 2-й.
– Все же, мой друг! Конечно, не всякое лыко в строку, а все-таки поостеречись не мешает. Ну, да ведь нецензурного тут нет – стало быть, продолжай! Посмотрим, какого еще там зверя лютого конь твоего фельетониста зачуял? Господи! и коня-то никакого у него нет, на извозчике, чай, как и мы, грешные, ездит – а тоже: конь мой, конь ретивой!.. Проказники вы, господа литераторы!
– «Ах, зачуял ты того зверя ненасытного, что сосет-грызет нашу нужду народную, горьким горем по земле русской порскает, над мужицкою беднотой посмеиваючись, мужицкими слезьми упиваючись! В деревню тот зверь зайдет – огнем-полымем деревня загорается; в поле заглянет – засыхают злаки добрые; в стадо прибежит – падают-мрут бедные коровушки!»
Молчалин 2-й не выдержал и заплакал.
– Ты чего, спрошу тебя, рюмишь? – обратился к нему Алексей Степаныч.
– Так, братец! взгрустнулось! невеселую ведь картину представляет наша бедная Русь православная!
Он закручинился, склонил голову набок и как-то нелепо запел:
Тихие долины,
Плоские равнины,
Барские руины,
Гнусные картины!..
– Вона! вон что загородил! – засмеялся Алексей Степаныч, – то-то сейчас видно, что давно ты предостережениев не получал * . Небось мужичка жалко стало! Сидишь ты здесь в тепле да в холе, а вот запели перед тобой Лазаря * – ты и раскис! Уж не думаешь ли ты, что фельетониста твоего похвалят за причитание-то?
– Что ж? кажется, тут ничего такого…
– Знаете ли что? – перебил я, – коли сказать по правде, так я и сам думаю, что эта тирада не совсем удобна для опубликования. Слишком уж горько; краски густы; светотеней нет… Поэтому я вот что придумал: похеримте-ка «зверя лютого» да и заменим его «светлым ангелом»!
– Вот это дельно! – воскликнул Алексей Степаныч.
– Помилуйте! да каким же образом? – смутился Молчалин 2-й.
– Очень просто. В предыдущей тираде, вместо: «Га! или зачуял ты зверя лютого, зверя лютого-ненасытного?» – скажем: «или зачуял ты ангела светлого, ангела светлого-богоданного?»
– Ну, а дальше?
– И дальше тем же порядком: «Ах, зачуял ты того ангела светлого, нашу нужду народную крылом своим осеняющего, утешеньицем по земле русской тихо летающего, в беленькую рубашечку русского мужичка одевающего! Уж как тот ли светлый ангел на пожар прилетит – вырастают кругом его трубы пожарные, со бочками, со баграми, со крючьями! Уж как тот ли светлый ангел про бескормицу услышит – вырастают кругом его закромы полные, выдают из них хлеб члены земских управушек! Уж как тот ли светлый ангел на коровий падеж взглянет-поглядит – вырастают кругом его врачи ветеринарные!»
– Ведь, в сущности, это все одно, – прибавил я, – и пожары, и бескормица, и падежи – все ведь остается; только закон о светотенях соблюден.
– Верно! – поддерживал меня и Алексей Степаныч, – ну, брат, нечего кобениться! Исправляй да и читай дальше!
На этот раз Молчалин 2-й взялся за карандаш с видимым усилием: ясно было, что ему жаль первоначальной редакции. Тем не менее он исправил и продолжал:
– «Нет, кроме шуток, известия из губерний очень непривлекательны: пожар в Моршанске, пожар в Брянске, пожар в Пултуске. Это – крупные, отдавшие в жертву пламени десятки миллионов рублей. А сколько погибло в пламени безвестных Загибаловок, Заманиловок, Таракановок, Клоповок, в которых живет население, настолько беззащитное против угроз стихий, что если бы мы не знали, что эти люди все-таки ходят в рубищах, а не нагишом, и едят хлеб из ржаных отрубей пополам с древесной корой, а не божией росой насыщаются (и Христос их знает, как они ухитряются устроить это!), то имели бы полное право сказать: зачем искать золотого века позади нас? Он здесь, он у нас перед глазами, – вот в этих самых Клоповках, Таракановках, где люди с таким блаженным равнодушием относятся и к жилищам, и к одежде, и к питанию. Жилища и одежды истреблены пожарами, а пища… Но стоит только прочитать газетные корреспонденции, чтоб сказать себе, что отныне вся наша надежда на пресловутое: «бог подаст!»
– Не уйти ли нам за добро-ума отсюда? – безжалостно обратился ко мне Алексей Степаныч, – видно, здесь чем дальше в лес, тем больше дров.
Молчалин 2-й сидел понурив голову, словно чувствовал себя кругом виноватым.
– Извините, господа, – сказал он, – я и сам уж вижу, что только по-пустому задерживаю вас…
– Нет, эдак нельзя! – вступился я с горячностью, – уж если мы взялись помогать, так уходить не следует; надо выполнить нашу задачу до конца! Послушайте, господин редактор! Теперь вы сами видите, что издавать русскую газету несколько труднее, нежели вы предполагали, сгорая в кадетском корпусе страстью к правописанию. Тем не менее ваше дело далеко еще не безнадежно. Я думаю, что даже сейчас вами прочитанное – и то может быть оставлено в первобытном виде… да, оставлено в первобытном виде– я утверждаю это!.. но с одним непременным условием…
Молчалин 2-й почтительно воззрился на меня.
– А именно: зачерните конец от слов: «но стоит только прочитать газетные корреспонденции» и до слов; «бог подаст» включительно, а вместо них прикажите набрать следующее: «А всему виною наша славянская распущенность, наша непростительная и легкомысленная неряшливость, наше чересчур развязное отношение к своим собственным интересам. Спросите у любого русского мужичка: есть ли у него в деревне приличный пожарный обоз? – ведь он рот разинет от удивления, словно бы вы говорили с ним на тарабарском языке! А вопрос об ирригации полей? а вопрос о прививании скоту чумы? О, земство, русское земство! Что сделало ты в течение целого десятилетия! Увы! все тяготы самоуправления по-прежнему продолжают тяжелым бременем лежать на начальстве! Оно одно простирает нам руку помощи, оно одно не остается равнодушным зрителем постигающих нас бедствий! Оно же, разумеется, явилось благодетельным посредником и в данных случаях. По крайней мере, мы из достоверных источников можем сообщить, что все надлежащие по сему предмету распоряжения уже сделаны».
– Ну, тезка, как? – обратился Молчалин 2-й к Алексею Степанычу.
– Не знаю, братец! признаться, у меня уж и голова кругом пошла! Вот он посвежее – стало быть, ему и книги в руки.
Молчалин 2-й покорно взял в руки карандаш и принялся за корректуру.
– Ну-с, дальше, – сказал он, – продолжение все той же материи. «В южных губерниях засуха истребила…» «В Пензенской губернии необыкновенного вида червь…» «В Ярославской губернии, вследствие продолжительных холодов…» «Из Починков (Нижегородской губернии) пишут, что на скоте появилась какая-то особенная болезнь, которую никто не может определить…» «В Кирилловском уезде (Новгородской губернии) сибирская язва, по-видимому, обещает акклиматизироваться навсегда…» «В Изюме (Харьковской губернии), в подгородной слободе, не осталось ни одной овцы… Сначала некоторое время чихают, потом начинают чесаться, потом паршивеют и наконец…» И так далее, и так далее. Так уж, с вашего позволения, я все это оставлю в неприкосновенности да в конце и присовокуплю: соответствующие по сему предмету распоряжения сделаны?
– Да, непременно, непременно присовокупите. Да вот еще, чтоб уж совсем оттенить, я и еще одну штучку придумал. Пропечатавши все, что вы сейчас прочитали, возьмите да и хватите в заключение: «Не следует, мол, однако, забывать, что это – только одна сторона медали, которая отнюдь не должна подавать нам повода отчаиваться насчет будущего; ибо ежели есть местности, посещенные бескормицей, пожарами и скотскими падежами, то ведь есть и другие местности, в которых не было ни пожаров, ни неурожаев, ни скотских эпидемий. Конечно, будущее и относительно этих других местностей – в руце божией, но все-таки покаместсуществование их не подлежит сомнению. Вот об чем слишком охотно забывают наши господа радикалы и об чем мы считаем своим долгом во всеуслышание напомнить им».
– Вот это прекрасно! Браво, друг мой, браво! – воскликнул Алексей Степаныч, – кажется, и всего три-четыре строки, а каков, с божьею помощью, оборот!
Молчалин 2-й вздохнул, словно гора свалилась у него с плеч. Похвала Алексея Степаныча до того ободрила его, что он, так сказать, уж не правил корректуру, но весело шалил по ней карандашом.
– Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! – продолжал между тем Алексей Степаныч, – а вот вы, оглашенные либералы, сидите да пыжитесь; там пожар, там голод, там эпидемия, а вот мы взяли да и поправили: сколько, мол, таких мест есть, в которых нет ни пожаров, ни эпидемий, ни голода! Ведь и читателю-то лестнее слышать, что у него везде, куда ни оглянись, – везде тишь да гладь да божья благодать! Ну-тко ты, либерал прожженный! Много ли до конца-то еще осталось?
– Сейчас. Дальше пойдет уж заключение: штандарт скачет, андроны едут, дважды два – стеариновая свечка и прочее. Словом сказать, все двенадцать столбцов в исправности налицо. Это уже я сам.
– А больше ничего нет?
– Есть корреспонденции, да те, кажется, и так пустить можно.
– Ой ли?
– Да вот, например: « Норовчат.Мы думали, что безобразия нашего земства уже в прошлом году достигли своего апогея, но оказывается, что в нынешнем году оно решилось превзойти самого себя…»
– С богом! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!
– А вот и еще: « Краснослободск.Давно уже было замечено нами, что наши суды присяжных далеко не удовлетворяют своему назначению…»
– С богом!
– Пожалуй, есть и еще: « Пенза.Хотя и пишут об нас похвалы в газетах, что мы якобы собственным движением приговоры об уничтожении кабаков составляем, но пьянство не только…»
– Стой! – прервал Алексей Степаныч, – вот тут-то и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти «пишут»-то?
– Полагаю, что в газетах…
– То-то «полагаю»! а ты не полагай, а достоверно разузнай! Ни-ни! говорю тебе, и боже тебя сохрани! Брось, чтоб и духу у тебя этой корреспонденции не пахло!
– Зачем же бросать? – вступился я, – поставьте вместо Пензы Алапаевск – вот и все.
– И отлично. Ну, а теперь только выкройки из разных газет остались. Спасибо вам, господа! Ободрили вы меня! вот какое вам за это спасибо!
Молчалин 2-й встал и поклонился нам, коснувшись рукою до земли.
– Что ты! что ты! – сконфузился Алексей Степаныч, – мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты уж, брат, помни. Коли газета твоя «Чего изволите?» называется, так ты уж тово… так эту линию и веди!
Был уже час четвертый в исходе, когда мы вышли из редакции газеты «Чего изволите?». Я был значительно утомлен, но все-таки шел бодро и даже весело. Мне было лестно и радостно, что я, во-первых, успел оказать услугу человеку в затруднении, а во-вторых, и себя при этом сумел показать в выгодном свете. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне: способный ты! способный! способный! Я возобновлял в своей памяти все подробности этого утра, припоминал, какие пустяки заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, как я легко и сразу их разрешал, как он радовался моей находчивости, как весело при этом карандаш его попрыгивал по корректурным листам, как он однажды даже запел… При этих воспоминаниях я сам начинал семенить ногами по тротуару и напевать, а тайный голос все пуще и пуще твердил: способный! способный! способный!
И вдруг эти праздничные мечты изменились. В самом разгаре ликований польщенного самолюбия мой слух был внезапно поражен словами простого прохожего, который, идя нам навстречу, говорил:
– Преспособная, братец, бестия! Помани его только пальцем…
При этом возгласе я словно проснулся. Тоскливо мне сделалось, почти тошно. Какую, в самом деле, я роль сыграл в это паскудное утро? Я, человек солидный, почти старик – что такое я делал?! Мне даже показалось, что воздух наполняется миазмами и что какой-то особенно отвратительный запах начинает специально преследовать меня. Долгое время я не мог разобрать, что это за запах, но наконец понял.
– А знаете ли что? – сказал я Алексею Степанычу, – ведь мне все кажется, словно я эти два-три часа в помойной яме просидел!
Но Алексей Степаныч с обычным своим добродушием поспешил разуверить меня.
– С непривычки это, мой друг! Такие ли помойные ямы бывают! Вот я бы тебе помойные ямы показал, так те уже полтораста лет чистят, * да и еще, пожалуй, на полтораста же лет чистить осталось!








