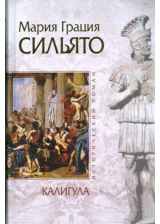
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ КАЛЬПУРНИЯ ПИЗОНА
Многие патриции предлагали отчеканить в честь Германика великолепный золотой Медальон и возвести триумфальные арки в Риме, Сирии и на берегах Рейна, но Тиберий воспротивился этому, сказав, что слава строится не из камня. И всё же на волне эмоций, прокатившейся по империи, многие города решили сделать это за свой счёт.
– Рим не сделал ничего, – сказала Агриппина. – Десятки же малых городов возвели памятники по велению сердца.
И это была правда.
– Тиберий полагает, что удушил всё, но он ошибается, – с неутихающей злобой проговорил Кретик. – Он удалил меня от Германика, когда захотел убить его, но теперь не заставит молчать.
В изысканной резиденции на Ватиканском холме Агриппина и её сторонники начали с одержимостью собирать свидетельства и доказательства злодейского отравления. Из Сирии, где легионы были в шаге от мятежа, свидетельства и доказательства шли лавиной.
И однажды утром малолетний Гай, чьё отрочество проходило в этих жгучих тревогах, вошёл в библиотеку, где неделями вовсю работали юристы и дружественные сенаторы, и увидел, что перед столом с аккуратно разложенными документами стоит его мать, бледная как тень, и улыбается.
– Всё это, – сказала она, – будет завтра предъявлено сенаторам. И никто не сможет закрыть на это глаза.
Документы были вручены сенатскому суду, и разразился скандал. В бурных заседаниях, где дело порой доходило до физических стычек между оптиматами и популярами, Тиберий был вынужден согласиться начать процесс против Кальпурния Пизона и его жены Планцины.
– Но мы ещё не победили, – сказал Кретик, и неизвестно, какое предупреждение несли эти слова.
И действительно, на следующий день Нерон, импульсивный старший брат Гая, вернулся домой и, запыхавшись, объявил, что сирийка Мартина, предполагаемая отравительница, наконец была доставлена в Брундизий в цепях.
– Но вскоре её нашли мёртвой, без каких-либо признаков болезни или насилия. А у неё в волосах обнаружили следы ядовитой мази.
Все уставились на него, разговоры прервались на полуслове.
– И теперь, – заявил Гай внезапно повзрослевшим голосом, – мы никогда не узнаем, кто подослал её к моему отцу.
Потом из Сирии, всё ещё свободный и разгневанный, но под градом обвинений, прибыл сенатор Кальпурний Пизон. Тиберий и Ливия прекрасно знали его убийственную неосмотрительность, и император поспешил в курию на пленарное заседание сената, чтобы наметить план процесса:
– Вы должны выяснить, препятствовал ли Кальпурний Пизон власти Германика в Сирии, или же Германик был нетерпим в своих отношениях с ним. Питал ли Кальпурний Пизон злобу к Германику, или же Германик злоупотреблял своей властью. Существовали ли конкретные подозрения насчёт применения яда, или же неосмотрительное выставление тела Германика на площади в Антиохии опасно воспламенило толпу.
Оптиматы втайне возликовали, популяры были ошеломлены и возмущены. В словах Тиберия темы расследования были так виртуозно умножены и запутаны, что суд или комиссия могли бы работать годами и не прийти ни к какому заключению. Сенатор Сальведиен, потомок того Сальведиена, что погиб во время древнего мятежа, возмутился:
– Мы рискуем не понять, кто виноват: тот, кто налил яд, или тот, кто, не ведая этого, выпил его, – и напомнил коллегам, что сенаторы составляют независимый суд, которому по законам Республики никто не может диктовать.
Император посмотрел на него, и больше никто не посмел вмешаться. Тиберий покинул зал заседаний. Но он ничего не забыл, и всё это знали. А сенатору Кальпурнию Пизону, пока подготавливали процесс, великодушно разрешили остаться на свободе.
– Это знак, – прокомментировал, побледнев сильнее обычного, историк Кремуций Корд. – Теперь Кальпурний Пизон уверен, что Тиберий употребит всю свою власть для его спасения.
Кальпурний Пизон действительно имел основания чувствовать себя под защитой, но воспользовался ею плохо. Он обошёл галереи сената, не сдерживая вызывающего высокомерия и сжимая в руке маленький кодекс, карточку с каким-то посланием. Мельком видевшие его шептались, что оно написано рукой Тиберия.
И кроткий Кремуций Корд с мудростью историка предсказал:
– Кальпурний Пизон думает, что спасся, скрываясь за более великим виновником. Но на самом деле он вынес себе приговор, потому что теперь Тиберию придётся заставить его молчать, да так, чтобы он не заговорил и через сто лет.
Забившаяся от холода в угол Агриппина слушала, сидя на подушках, и не могла унять дрожь.
Встревоженный Кретик сказал:
– Боюсь, что Кальпурнию удастся бежать – возможно, к какому-нибудь мелкому тирану у границ Сирии, в Декаполь или куда-нибудь в Парфию. С его-то деньгами!
– Не сбежит, – спокойно рассудил Кремуций. – Тиберий не может рисковать его разговорчивостью. Кальпурния Пизона уже не спасёт никакое богатство.
Действительно, к взволнованному сенатору прибыли несколько настойчивых императорских посланников, прервали его прогулки и убедили отдать тот таинственный документ, который «ослабляет власть единственного, кто может помочь». Сенатора клятвенно заверили, что Тиберий уже придумал, как его спасти.
После двух драматических заседаний сенатского суда – где усугублялись тяжелейшие обвинения, слышались убийственные свидетельства и такие же гневные оправдания, а Тиберий не появлялся – вооружённый отряд неожиданно отконвоировал Кальпурния Пизона домой. За стенами собственного дома той же ночью в полной, ошеломляющей тишине он покончил с собой. Это обнаружилось утром, когда пришлось вышибать дверь в его комнату.
– Он пронзил себе горло одним ударом, – взволнованно прокомментировал Нерон.
Но Друз, второй брат, пояснил, чётко выговаривая слова:
– Говорят, он воспользовался мечом.
Нерон отвернулся, не поняв смысла этой реплики; Гай же сразу спросил:
– Меч, чтобы пронзить себе горло? Как же он его держал?
– Непонятно, – иронично согласился Друз.
– И этот меч нашли? – спросил Гай.
Друз улыбнулся.
– Да, говорят, он валялся на полу, но слишком далеко от тела.
Гай тоже улыбнулся.
– Какая ошибка... Никто из военных в жизни не поверит.
И Друз заключил:
– Говорят, один центурион, как только увидел там меч, подтолкнул его ногой поближе к трупу. Но клинок был в крови, и на полу осталась полоса...
Агриппина посмотрела на двоих своих младших сыновей, особенно на самого младшего, – они загадочно улыбались, в то время как старший всё понимал с запозданием.
– А Планцина? – спросил Гай.
Друз злобно рассмеялся:
– Планцина отдыхала в другой комнате и ничего не заметила. А послания Тиберия не нашли.
Через несколько часов весь Рим сошёлся во мнении, что это великодушное самоубийство защитило вдохновителя отравления. Тиберий перенёс унижение без единого слова, не дрогнув. Но после периода своего жуткого молчания – а он мог молчать по нескольку дней, погрузившись в не покидающую его тревогу, – император решил, что многие из ныне веселящихся скоро найдут причины для душераздирающих рыданий. И перешёптывания его больше не занимали, потому что процесс был объявлен завершённым.
Дез приговора теперь уже гарантированное молчание мертвеца позволило Ливии – в народе называемой Новеркой, но официально много лет носившей имя Августы – очистить свою подругу, овдовевшую Планцину, от всех обвинений. И действительно, Тиберий под давлением матери пришёл поддержать Планцину перед остолбеневшими сенаторами.
– Это невиданно, – говорили римляне, – чтобы близкий родственник жертвы с таким рвением защищал убийц.
Но нашлись тонкие аргументы, и в конце концов грозная Планцина была оправдана, ей даже удалось сохранить имущество.
Друз с ненавистью прокомментировал:
– Она заключила договор с убийцами над трупом Кальпурния Пизона.
ИСТОРИЯ ЮЛИИ
В исторической резиденции на Ватиканском холме, среди знаменитых садов на правом берегу реки, которую поэты называли Тибром, Агриппина кричала, что ей невыносимо жить рядом с молчаливым злодеем в императорском обличье, убийцей Германика – любимого мужа и отца. Невыносимо видеть, как Планцина плачет от радости в материнских объятиях Ливии; невыносимо видеть, как наглое семейство Пизонов ходит по Риму в славе восстановленной невинности.
Из дальних комнат малолетний Гай слышал её взволнованный голос, приглушённый подушками и перебиваемый жалостными увещеваниями служанок. Он молча шагал туда-сюда. Гай был ещё мальчик, но, походив вот так, он остановился и пообещал себе, что увидит день, когда припомнит этому семейству все свои несчастья.
«Выжить», – как-то сказал Германик. Продержаться до дня, когда судьба урежет власть врагов, хотя бы на час пережить их. Однако в резиденции в Ватиканских садах медленно и бесполезно текли месяцы и годы, а власть Тиберия оставалась всеподавляющей и неприступной. Агриппина в приступах бессильной ярости изводила себя отчаянными воспоминаниями.
Учитель Залевк сказал мальчикам:
– Каждый раз, когда вы выходите за ворота, ваша мать не находит себе места от тревоги. Вы слишком беспокоите её.
Но Гай выходил не часто. Каждое утро он долго гулял в одиночестве по обширным садам, спускавшимся к реке. Он ласкал цветы и в отчаянии думал о своём отце. Он представлял, будто ощущает его как доносящееся откуда-то издалека дуновение. Казалось, что это дуновение приближается к нему, и он ждал его прикосновения, но потом всё исчезало в пустоте. А однажды утром, гуляя так, он увидел идущую по аллее мать. Она шла медленно, вытирая пальцами глаза, потом села в углу и закуталась в шерстяной плащ. Было видно, как дрожат её плечи.
Гай подошёл и сказал ей:
– Тебе холодно.
– Нет, – ответила она, вздрогнув, – сейчас выйдет солнце.
Тогда Гай сел рядом и вдруг сказал:
– Даже если я заткну уши руками, всё равно будет слышно, как люди непрестанно говорят о тебе и твоей матери Юлии и о проклятой Новерке, которую мне так и не удалось увидеть хотя бы издали. Но когда замечают меня, сразу замолкают.
Судя по портретам, Агриппина была очень красива – обманчиво спокойной и мягкой красотой рода Юлиев, эта красота проявлялась и в Августе. Но в тот день Гай видел на лице матери лишь ожесточение и тревогу. И сказал:
– После всего случившегося больше не может быть тайн. Скажи мне, почему Юлия, единственная дочь Августа, твоя мама, была сослана на остров Пандатарию, а потом перевезена в Регий, чтобы там умереть? Я не могу понять этой жестокости.
– Пандатария – прекрасный остров, – неожиданно ответила Агриппина, и Гай замер. – У нас есть вилла на Пандатарии. Её построил наш отец Агриппа.
Но она не сказала, что много лет не может вернуться туда. Её красивое лицо осунулось, шея исхудала, под кожей пульсировали вены, но она всё же улыбнулась.
– Это маленький островок, очень зелёный, потому что там бьёт родник. Наш отец был великим моряком, и он нашёл защищённое место для причала, построил маленький порт. Мне там нравилось.
Гаю не хватало терпения, он чувствовал, что разговор ускользает от темы. Только через несколько лет он поймёт, что мать хотела избежать боли.
А она продолжала:
– Вилла стоит на вершине мыса, и к ней ведёт широкая лестница в форме двух крыльев – восточного и западного. Посредине наш отец построил нимфей[24]24
Павильон с фонтаном.
[Закрыть]. Этот уголок укрыт от зимних ветров и полон цветов. На самом верху отец устроил террасу, откуда было видно всё Тирренское море, острова и побережье Лация. На восток и на запад спускались к морю два крытых прохода: наш отец предусмотрел, чтобы при любом ветре можно было спуститься к спокойной воде.
Гай не мог представить, какую тоску довольно скоро вызовет это описание. Агриппина погладила его по голове и убрала со лба непослушные волосы, которые снова упали. Он не откликнулся на ласку и отстранился.
– Скажи мне, пожалуйста, почему твоя мать Юлия умерла таким образом.
– Вот, – ответила Агриппина, – всё эта поездка в Египет, где я не могла за вами следить...
Она вздохнула, и Гай догадался, какую боль причинили ей последние месяцы жизни Германика вдали от неё.
– В этой поездке ты много узнал о семье твоего отца. Но о предках с моей стороны, поскольку в тебе течёт кровь Августа, ты знаешь только то, что смогли и захотели рассказать тебе люди, которые сами не видели тех дней.
Она снова вздохнула, но время молчать и в самом деле прошло.
– Для начала нужно сказать, что Август, чтобы жениться на Новерке, послал своей жене Скрибонии письмо о разводе в тот самый день, когда она родила на свет Юлию, мою бедную мать. Такое бессердечие показалось отвратительным всему Риму. Август не любил свою единственную дочь, а сделал её инструментом для претворения в жизнь собственных планов. Едва ей исполнилось четырнадцать лет, он выдал её за своего племянника Марцелла, которого избрал наследником. Однако Марцелл умер через несколько месяцев, когда моей матери Юлии ещё не исполнилось пятнадцати. Август искал лишь верных союзников, потому что вся его жизнь протекала среди заговоров и заговорщиков: Авлон Мурена, образованнейший юрист, и Фанний Цепион, потомок консулов, а вскоре Корнелий Цинна, чья семья состояла в союзе с Гаем Марием, и Валерий Соран, благородный самнит[25]25
Самниты – италийское племя в Средней Италии.
[Закрыть], – все были разоблачены и убиты. Август говорил, что чувствует себя одиноким тигром на скале, окружённой стаей псов. И вскоре выдал Юлию за своего вернейшего друга, человека, помогшего ему завоевать власть, – нашего отца. Флотоводцу Марку Випсанию Агриппе было за сорок, в прошлом у него были другие жёны и другие дети, и в те дни в Риме цинично говорили: «Август награждает своих сторонников жёнами, как будто дарит лошадей». Однако же эта холодная женитьба на власти обратилась, на удивление всем, счастливой и плодовитой семьёй. Но вскоре наш отец, как ты знаешь, умер во время одной войны. Август с тоской сказал, что потерял правую руку – «человека, выигравшего все мои сражения». Новерка же не плакала. Она убедила императора, что лишь один человек во всей империи может заменить великого Агриппу, и это оказался её сын Тиберий. Нужно было сделать Тиберия наследником власти, устранить других претендентов и поскорее женить его на Юлии. Но к смерти нашего отца мать была беременна – шестой раз за девять лет. Никто никогда не прекословил Августу, но на этот раз она взбунтовалась. Многие слышали, как она кричала, что он безжалостно пользуется её жизнью и что не может выдать её – через несколько недель после траура и с новорождённым младенцем – за мрачного Тиберия, который, что ни говори, сын Новерки, второй и ненавистной жены её отца.
То, что Агриппина рассказала наконец, Гаю после вынужденного многолетнего молчания, в своё время было самой скандальной сплетней в Риме. И многие открыто смеялись, потому что Тиберий тоже неожиданно воспротивился этой свадьбе. Он, в общем-то, был уже женат и, к всеобщему удивлению, публично заявил, что счастлив в браке с женщиной мягкого характера, такой же простой, как он сам. И не собирается её бросать. В довершение всего в этой безумной родительской интриге его жена была дочерью покойного Агриппы от первого брака. Тиберий – его слова ходили по всему Риму – кричал: «Я должен развестись с дочерью Агриппы, чтобы жениться на его вдове?»
Но пока столица империи увлечённо наблюдала за этой необычной семейной сварой, Август торжественно провозгласил: «Я думаю о Риме, живущем в столетиях, а не в считанные годы нашей жизни». Перед подобными фразами все реплики угасали.
Конечно, можно насчитать немного брачных церемоний, которые бы столь же напоминали похороны, как эта.
Агриппине, тогда ещё девочке, упрямый Тиберий стал отчимом, и она заключила:
– Я знаю, что он подчинился, проливая слёзы. И когда случайно снова видел женщину, которую пришлось оставить, отворачивался и втайне плакал.
Эта фраза почти дословно войдёт в книги историков.
Гай молчал, не в силах представить, что человек вроде Тиберия способен плакать. Но возможно, так оно и было. А абсурдный брак не мог продолжаться долго, и в конце концов Тиберий хлопнул дверью и удалился на далёкий остров Родос. В народе шептались, что Август увидел в этом политические интриги и стал звать его «Родосским изгнанником», а популяры заявили, что триумфальная карьера Тиберия закончена.
Но это были опрометчивые речи, поскольку в Палатинском дворце оставалась Новерка. Одно созерцание (если можно так выразиться) этого безумного генеалогического дерева наводило на мысль, какие адские силы затеяли это роскошное и богатейшее императорское родство. И над всем возвышалась она – в то время жена Августа, мачеха, а потом свекровь Юлии, бабка Агриппины и двоих её убитых братьев, прабабка Гая, но главное, мать Тиберия, что легко перевесит всё остальное (и в большой степени так оно и вышло) – для того, чтобы с неутомимой преступной твёрдостью привести своего сына к императорской власти и удержать его там.
И, как единодушно напишут историки того времени, её ум, «подобный уму Улисса», с необыкновенным цинизмом двигался по лабиринту далеко идущих планов.
LEX JULIA DE PUDICITIA
– В то время наш дом был самым роскошным в Риме, – вспоминала Агриппина, но это было горькое воспоминание. – Моя мать Юлия и три моих прекраснейших брата, внуки Августа – я как будто вижу сейчас их троих! – были камнями преткновения на пути Тиберия. Они собирали здесь толпы друзей и семей, имевших древние связи с нашей, и вспоминали о совместной борьбе. Это были сыновья сенаторов и всадников, зарубленных безоружными в Перузии, разогнанные сторонники Марка Антония. Тут были Корнелий Сципион, потомок завоевателя Карфагена, Клавдий Аппий Пульхр, усыновлённый Марком Антонием, Семпроний Гракх, потомок плебейских трибунов, и Квинтий Сульпициан, консул... Не забывай эти имена, запиши их и спрячь.
– Не забуду, – спокойно заверил её Гай. – Я ничего не записываю и ничего не забываю. Я заметил, что, если повторять ряд имён и дат три раза в день через несколько часов, больше их не забудешь.
– Тем временем Новерка каждый день подливала яду в душу Августа. Она говорила, что моя мать и мои братья расходуют безумные суммы, ведут беспорядочный образ жизни, якшаются с его врагами. Моя мать не могла защитить себя, поскольку даже не знала, в чём её обвиняют. Некоторые сенаторы пытались вмешаться, но Август ответил, что дочь и внуки – это бич его жизни. Тогда моя мать, так и не сумев поговорить с ним лично, написала ему в отчаянии, что Новерка хочет разбить его семью, чтобы привести к власти Тиберия. Ответа не последовало. Мать узнала, что письмо попало в руки Новерки и, когда Август отдыхал в их маленьком садике, жена ему сказала: «Вокруг твоей дочери собралось гнездо змей, они строят заговор, чтобы погубить Тиберия, единственного поистине преданного тебе человека». Август устало ответил, что не может ничего поделать: ведь вся империя узнает, что против него в сердце Рима, в его собственной семье, ополчилось множество врагов. Но Новерка сказала: «Прости мою настойчивость. Нет никакой необходимости винить их в заговоре. Чтобы тихо избавиться от них, у тебя есть сильное оружие. Оружие, которое ты же сам и создал: Lex Julia de pudicitia».
Август – при бесстрастном попустительстве Новерки – всю свою жизнь погрязал в интригах, например, в долгих и бурных отношениях с женой своего дорогого друга Мецената. Однако, старея, он, как и многие знаменитые распутники, на склоне лет возвысившиеся до горьких раскаяний, решил оздоровить обычаи римлян и защитить экономическую и социальную сплочённость аристократических семей, драгоценного питомника полководцев и сенаторов.
Он придумал потрясающе строгий закон о частной нравственности и собственноручно набросал проект. Его юристы отточили текст, а сенаторы утвердили под рукоплескания моралистов и к страху прочих, которым тем не менее тоже пришлось дать своё согласие. Закон назвали Lex Julia de pudicitia et de coercendis adulteris[26]26
Юлианский закон о целомудрии и сдерживании прелюбодеяний (лат.).
[Закрыть].
Основным эффектом этого закона – теоретически рассчитанного на защиту целомудрия и удушение прелюбодейства – оказалось то, что виновные стали осторожнее в следовании старым привычками стало труднее скрывать скандалы и улаживать ссоры в домашних стенах. Закон, неспроста родившийся в изощрённом уме Августа, объявлял супружескую измену преступлением, относящимся к «публичным действиям». Всякий любитель совать нос в чужие дела теперь мог обратиться в суд, и судам вменялось в обязанность рассмотреть жалобу. Вскоре этот закон превратился в гибкое орудие шантажа, экономического и политического, с губительными последствиями, поскольку виновных обрекали на ссылку в малоприятные захолустья, а в особо скандальных случаях даже на смерть.
Агриппина сказала, что Август выслушал Новерку и никак не отреагировал.
– Но мы знаем, что она рассмеялась. «Все молчат, потому что она твоя дочь. Однако ты не можешь позволить в своей семье то, что справедливо запрещается в других семьях. И честные люди во всей империи восхитятся твоей суровой справедливостью». Август сказал, что хочет отдохнуть, и закрыл глаза. Моя мать не поверила в этот рассказ. Но вдруг Август письменной повесткой вызвал её к себе: она обвинялась в нарушении этого жуткого закона. Рядом с её именем стояли имена видных сенаторов – исключительно популяров, наших друзей. Речи Новерки в садике ещё не забылись, и на этот раз всех наполнил страх. Моя бедная мать поняла, что от этого преследования не убежишь, и отправилась в императорский дворец. Больше я её не видела.
Впервые в своей недолгой жизни Гай испытал физическое ощущение того, что его обволакивает смертельная опасность.
Агриппина сказала, что во избежание риска и скандала на публичном процессе императорские юристы искусно выкрутились: они нашли старый, по меньшей мере пятивековой давности закон, разъяснявший «de patria potestate» [27]27
Право отцовской власти (лат.).
[Закрыть] и предоставлявший отцу семейства власть над жизнью и смертью всех членов семьи. Таким образом, Август мог надлежащим образом судить свою дочь тайно, без свидетелей и защитников.
– О чём говорили Август и моя бедная мать на этом варварском суде, я так и не узнала.
Против других обвиняемых применили закон, который Август придумал, чтобы укрепить свою абсолютную власть, и который утвердило невнимательное, напуганное или потворствующее императору большинство: принцепс – то есть он сам – может арестовать, судить и приговорить за закрытыми дверями, без каких-либо гарантий и обжалований, всякого виновного в преступлении против «безопасности империи» и только потом известить об этом сенаторов. Подобные законы будут применяться в веках сотнями его последователей-диктаторов.
– После вынесения приговора Август огласил имена обвинённых на всю империю. И первым в списке был Юлий Антоний. Знаешь, кто это?
– Вы мне никогда ничего не говорили, – пробормотал Гай.
– Это был перворождённый сын Марка Антония. Этот сирота воспитывался у нас. Он очень любил своего отца и горел желанием отомстить за него.
– Представляю, – проговорил Гай.
От этой холодной лаконичности Агриппина ощутила тревогу.
– Юлий Антоний вскоре умер. Сказали, что покончил с собой. Но все шептались, что его убили. Второй жертвой стал Семпроний Гракх. Его семья уже более века пугала оптиматов.
Это семейство, очень любимое народом, пыталось раздробить завоёванные Римом необъятные территории на мелкие участки для земледелия, и то знаменитое и кровавое восстание было жестоко подавлено.
– Август сослал его на скалистый остров в Африканском море, где через семнадцать лет его убили.
Гай в горячечном напряжении памяти вновь увидел прибывшего под дождём в каструм посланца, который весь в грязи слез с коня и, не сняв сочащегося водой плаща, объявил об убийстве безоружного заключённого на далёком острове. Тогда Гай в единственный раз услышал это имя, но оно запало в память. И он держал его про себя.
Агриппина с трудом выдерживала этот мучительный разговор, но не могла прервать его, видя, с каким безмолвным и не по возрасту пристальным вниманием сын слушает её.
– Мне в те дни было двенадцать лет. И когда мы задыхались от тревоги и стыда, многие в Риме смеялись.
Весь Рим рассказывал, как те мужчины и дочь Августа – помимо бесконечного, постыдного разврата дома – устроили коллективную оргию на Форуме, рядом с ростральной трибуной, историческим местом для официальных речей, прямо в священной ограде Марсия. Обвинение ошеломило сенаторов, и, пока популяры не знали что сказать, оптиматы, которым было на руку продемонстрировать возмущение, начали шумно возмущаться. Лишь один сенатор, старый и мужественный, встал и проговорил: «Не понял». Некоторые сочли, что он жалуется на ослабевший с годами слух, но он объяснил: «Не понял, почему они, обвинённые в нарушении закона о целомудрии с дочерью Августа и, следовательно, заслужившие публичного процесса перед сенатским судом, были вместо этого тайно осуждены по закону о подрыве безопасности». Ему никто не ответил. Зато кто-то съязвил, что для людей, живущих на самых прекрасных виллах в империи, оргия в ограде Марсия должна была оказаться весьма неудобным предприятием. В этом священном, но очень тесном месте, кроме того, что там стояла огромная статуя, ещё росли три пышных, громоздких и столь же священных столетних растения: смоковница, виноградная лоза и олива.
– Я узнала от одного офицера, что моя мать, когда её отправили на Пандатарию, сказала: «Я никогда не забывала, что я дочь Августа. Зато мой отец забыл, что он Август».
Никак не прокомментировав эти слова, Гай спросил:
– И в Риме никто на это не отреагировал?
Единственный возмущённый крик на публике, что за этими лживыми обвинениями скрывается борьба за власть, вырвался у первой – брошенной и преданной – жены Августа, матери Юлии Скрибонии.
– После того безжалостного развода её отшвырнули с пресыщенным высокомерием. Но теперь Скрибония взволновала весь Рим, заявив, что хочет отправиться в ссылку вместе со своей невинной дочерью. Она так и сделала и оставалась рядом с ней до смерти. Тогда и шестнадцатилетний сын Семпрония Гракха закричал, что его отец невиновен и что он тоже хочет отправиться с ним на остров. И люди сказали, что подобные жертвы обычно не приносятся тем, кто изменил семье. Народ Рима вышел на улицы с криками «свободу Юлии!», так что Августу пришлось послать преторианцев разогнать толпу. В конце концов, он был вынужден перевезти мою мать, пребывавшую в отчаянии на одиноком острове, на материк, в Регий. Но она не могла писать оттуда, мы не могли с ней видеться, получили всего несколько посланий на словах от некоторых надёжных друзей... Ей лишь сообщили, что все три её прекрасных сына, дети её любви к Агриппе, мои братья, были один за другим злодейски убиты.
Тем временем Август старел, Тиберий вернулся в Рим и присоединился к нему на вилле на Эсквилинском холме, которую Августу оставил Цильний Меценат вместе с произведениями искусств и прекраснейшими садами.
– Он проводил время за чтением греческих философов и историков. Говорил, что питает глубокую любовь к изучению восточной астрологии. С Родоса ему привезли одного астролога-грека, некоего Фрасилла. Сторонники Тиберия шептались, что тот предсказывает ему власть. И теперь последними препятствиями стали моя сестра Юлия Младшая и её муж Эмилий Павел. К нему часто заходили братья, сыновья, друзья убитых или отправленных в ссылку. Это были магистраты, сенаторы, трибуны; они хотели бороться, так как понимали, что их уничтожат. И самым любимым из всех был Публий Овидий, поэт. Но однажды на них ни с того ни с сего обрушились скандальные обвинения, подобные тем, что уничтожили нашу мать. Овидия среди зимы сослали в Томы – в изнурительную поездку по морю и суше, и ссылка его убила. «Только женский ум мог воспользоваться такими средствами», – сказал Аврелий Котта в последний раз, когда мы его видели. А мою сестру облили грязью, и она подверглась тем же мучениям, что и мать. Её мужа казнили. Кто-то набрался храбрости пошутить, что, видимо, он совершил прелюбодеяние со своей женой. Его имя было велено стереть со всех надписей и досок. Тот же старый неугомонный сенатор запротестовал: «Damnatio memoriae применимо только к преступлениям против Республики, а не к частным злоупотреблениям. Правду об этом процессе скрывают». Но в те годы многое было ещё впереди, его голос звучал тихо, и никто не придал значения его словам. Потом мы узнали, что по ночам многих сенаторов и магистратов отправляли в изгнание. А удивлённым римлянам рассказывали, что они уехали по собственной инициативе. Весь Рим смеялся над историей о сенаторах, которые сами себя наказали изгнанием. Но эту ложь придумали, чтобы никто не узнал, сколько было мятежников и сколь видное положение они занимали. Мою сестру, чтобы о ней больше не болтали, сослали подальше, на Тримерскую скалу в Адриатике. Она была беременна и там родила сына, мальчика, по крови потомка Августа, и его отняли у неё. Потом Тиберий украл императорскую власть и всем зверски отомстил. Он отнял у моей матери даже тот маленький доход, что ей оставил Август, запретил ей видеться с кем-либо и выходить из жал кого дома, куда она была сослана. Его ненависть не ослабевала до тех пор, пока Юлию не нашли мёртвой.
Агриппина сжала руки и заломила их, так что побелели костяшки пальцев.
– Что касается моей сестры, я её больше никогда не видела; может быть, она и сейчас живёт где-то, оторванная от мира... И ничего не может поделать. Тиберий превратил эти острова в недосягаемые тюрьмы. Там можно только впасть в отчаяние, просыпаясь каждое утро с одной мыслью.
Снова её охватили слёзы и рыдания.
– Те дни было трудно выдержать. Я была очень молода и одинока. Но потом от всего этого меня спас твой отец. И мы никогда не разлучались. Только на время той вашей поездки в Египет. Теперь ты знаешь, почему в ту ночь в каструме ты видел меня плачущей.
Она встала и, дрожа, закуталась в шерстяной плащ.
– Эти преждевременные терзания не пойдут тебе на пользу, мой мальчик.
Гай тоже встал на ноги и сказал:
– Благодарю тебя, что рассказала.
Мать посмотрела на него, и он спросил:
– Как вы могли думать, что мне лучше ничего не знать?
Она покачала головой, а Гай проговорил:
– Из всего этого ясно, что после стольких злодейских убийств мы остались единственными противниками Тиберия и его последователей. И нас не помилуют.
Агриппина молчала. Мальчик посмотрел на неё долгим взглядом, выражения которого она не поняла, и сказал:
– Не знаю, насколько поняли опасность мои братья.








